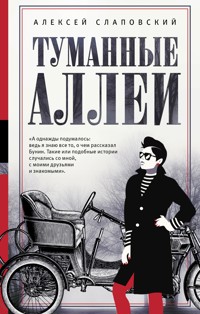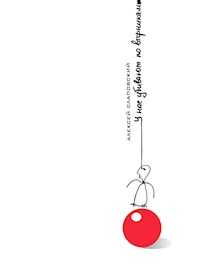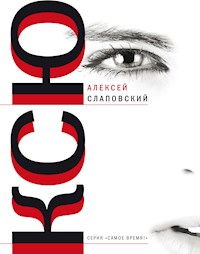Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Новая русская классика
- Sprache: Russisch
Алексей Слаповский — писатель и драматург, финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга», автор романов «Я — не я», «День денег», «Синдром феникса», «Победительница», «Они», «Гений», «Неизвестность». Каждая новая книга Слаповского — эксперимент над жанром, собой и читателем. «Недо» — роман-столкновение. В устоявшуюся жизнь литератора Грошева, сменившего несколько работ, жен и квартир, врывается Юна, саратовская девчонка из новейшего поколения — стиль унисекс и полное отсутствие авторитетов. Она уже не смотрела мультик про 38 попугаев, «что-то слышала» про штурм Белого дома, но судит обо всем абсолютно уверенно. Устами этой «младеницы», возможно, и глаголет истина, но еще Юна отлично умеет воровать, драться, пить и задавать неудобные вопросы. Недооценил ее сначала Грошев. Недопонял. Да и себя, оказывается, тоже. Сплошное «недо» — как всегда.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Алексей Слаповский Недо
© Слаповский А.И.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
День первый
Грошев давно заметил, что состояние пограничной бессонницы, когда ты и не в яви, и не во сне, похоже на предсмертное. Наверное, так безнадежно уставшие от жизни люди хотят наконец умереть, но не получается. А жить нет сил. Вот и лежишь не шевелясь и покорно рассматриваешь картинки, которые показывает тебе твой бред. Там и запуск космического корабля, и полянка в желтых цветах с детским припевом из мультфильма, и слон, обхвативший хоботом бревно, и тонущий океанский лайнер, с которого сыплются человечки, и выступление неведомой рок-группы, исполняющей неведомую песню на неведомом языке, и скалящаяся, рычащая собака, которая прыгает на тебя и впивается в горло, но тут же исчезает, вместо нее толстый и горячий удав обвивает твою шею, а ты мутно думаешь: тоже страшно, но не так больно и крови не будет. А вот приятное видение: загорелая девушка в бассейне, в голубой воде. Она ныряет и выныривает зеленой русалкой с волосами-водорослями, нет, это не русалка, это осьминог, он хватает тебя щупальцами, тащит в глубину, а в глубине вдруг пустыня, и ты едешь по прямой и длинной дороге, один среди песка и кактусов, под палящим солнцем, и тут в тебя стреляют из темноты, ты лежишь и обижаешься, что убили, с чем тебя и поздравляют средь шумного бала, поднося бокал холодного шампанского, ты пьешь его жадно, большими глотками и не можешь напиться, наоборот, жажда становится все сильнее…
А иногда ничего конкретного не видится и не слышится, только шипящая черно-белая рябь, как бывало в старых испорченных телевизорах.
В эту ночь Грошев долго терпел и все-таки не выдержал, в половине пятого проглотил таблетку. Заснул, и тут же его разбудил звонок телефона. Вернее, ему показалось, что тут же, на экране высветилось «10:10».
Обещал же себе Грошев, что будет отключать телефон на ночь, но не отключает.
Также он обещал себе не отвечать на номера без имени. И – отвечает.
Быть может, ждет звонка, который изменит его жизнь, хотя давно понял, что такого звонка не будет и что жизнь его не изменится. Или это настороженная отзывчивость: вдруг звонящему что-то очень нужно, что-то жизненно важное? Не ответишь, а потом узнаешь, что у человека было несчастье и ты мог выручить, но не выручил, и будешь терзаться.
– Привет, Миша, не очень рано? – спросил женский голос. – У нас тут одиннадцать уже.
– Где у нас?
– В Саратове, где же еще! Ты чего, не узнаешь?
– Если честно…
– Это я, Люда Суровикина! Надеялась, что ты мой голос не забыл, ладно, бог простит, сколько времени прошло!
Люда Суровикина, вспоминал Грошев. Кто такая Люда Суровикина? По голосу старуха, но бодрой интонацией молодится. Шут с ней, неважно.
– Я сразу по делу, ладно? У моей племянницы подруга умерла, не сейчас, раньше, у нее дочь осталась, а в Москве у нее брат двоюродный, у него какая-то фирма, и она туда поехала, потому что тут ни работы, ничего, а брат богатый, обещал пристроить, когда она еще живая была.
– Чей брат, кто умер, кто поехал?
– Брат ее матери, которая умерла.
– Чьей матери?
– Юны! Юной девочку зовут, Юнона, если полностью, они с зимы еще договаривались, что она приедет, она и поехала, а он ей вечером звонит в поезд, прикинь, она уже едет, а он звонит и говорит: мы всей семьей за город уезжаем, встретить и принять тебя не можем, в Москве карантин объявят скоро, так что ты давай езжай обратно! Девочка в шоке, но из поезда-то не выскочишь, доехала, торчит сейчас на Павелецком, плачет, звонит Кате, что делать, говорит, не знаю.
– Какой Кате?
– Племяннице моей, господи, я сказала же! Звонит ей, а она мне, я тоже всем звоню, ищу варианты, и тут мне Саша Горелых сказал, что у тебя был проездом, что ты один живешь, номер твой дал, очень тебя хвалил, что ты гостеприимный! Сашу-то помнишь?
– Помню, и что?
– Как что? Приюти девочку, не возвращаться же ей обратно, в самом деле!
– На сколько?
– Да ненадолго! Договорится как-то с этим, все-таки дядя, хоть и двоюродный, найдет ей что-нибудь. Катя говорит, она девочка хорошая, порядочная, тебе никакого беспокойства не будет. Если ты ее сам не побеспокоишь, старый кобель!
И Люда Суровикина закашлялась шаловливым смехом. Совершенно непонятно, какие у нее были основания называть Грошева старым кобелем. Видимо, хотела сказать ему что-то лестное.
– Я тоже уезжаю, – без угрызений соврал Грошев: его оправдывало законное желание защититься от бесцеремонной назойливости. – Недели на две. Так что…
– Еще лучше! – обрадовалась Суровикина. – Оставь ей ключи! Квартиру твою постережет, Москву посмотрит. Заодно окна тебе помоет, спорить могу, что у тебя окна немытые, я вот всегда окна в это время мою, а сейчас грязные стоят, ни до чего абсолютно, люди все растерянные, я тоже. И не сказать, что времени нет, а настроя никакого, понимаешь? Тут ведь как: когда все охота делать, то все и охота, а когда ничего неохота, то ничего и неохота!
– Ты меня не дослушала! – сердито сказал Грошев. – Насчет поездки я еще не решил, жду звонка, все еще может сорваться, но…
– Это правда, у всех все срывается, та же Катя магазин свой…
– Я к тому, что, даже если не уеду, у меня полно работы!
– А чем она тебе помешает? Наоборот, приготовит, посуду помоет, еще больше наработаешь. Ты с ней помягче, Миша, сам понимаешь, какая ситуация. Полная сирота, надеялась жизнь свою пристроить, и такой облом. Мне больше не к кому обратиться, кроме как к тебе, в честь того, что у нас было, Миша, не откажи! Помнишь ведь? Помнишь?
– Помню, – сказал Грошев, ничего не вспомнив.
– Я бы видео включила, сразу бы узнал, но я такая страшная с утра, не хочу тебя расстраивать.
Тут в телефоне неприятно, до щекотки в ухе, загудели шмелиные звуки нового вызова.
– Мне тут кто-то звонит…
– Да она, кто же еще! Я номер ей твой дала, сказала позвонить минут через пять, а мы с тобой болтаем тут. Все, отвечай, а то она, наверно, вся рыдает! Целую-обнимаю, пока!
Грошев переключился, ответил.
Девушка не рыдала, говорила холодно и недовольно. Словно не она звонила, а ей, словно хотела поскорее покончить с разговором. Получить отказ и уехать обратно с подтвержденной обидой на весь свет.
– Здравствуйте, это Юна, – сказала она. – Я тут на вокзале… На Павелецком.
– Вам негде остановиться?
– Ну да.
– Вопрос в том, что я сам могу уехать. Скорее всего, послезавтра. Если это устроит…
– Не знаю…
– У вас другие планы?
– Никаких у меня планов. Мне дяде посоветовали еще раз позвонить, а зачем ему звонить, если он меня завернул? Так что я без понятия.
Сказав это, Юна замолчала. Не ее теперь забота, пусть Грошев решает, как ей поступить.
– Ладно, – сказал Грошев. – Приезжайте, и обсудим. В любом случае обратный поезд вечером, если захотите уехать.
– Тут и дневные есть. Проходящие.
– Решили вернуться? – подсказывал Грошев.
– Почему? Хотя бы Москву посмотреть, если приехала. Я тут только в детстве была.
– Ну, тогда жду. Адрес сейчас пришлю. На такси – полчаса.
– Я на метро поеду.
– Тяжело с вещами.
– У меня чемодан на колесах и рюкзак – нормально.
– Хорошо. Тогда спускайтесь в метро, доедете до «Тверской», а там…
– Да я сама соображу, адрес пришлите.
– Ну и славно.
Грошев послал ей адрес, выпил растворимого дешевого кофе – не очень вкусно, зато быстро, пошел умываться, чистить зубы и бриться. Бреясь, думал, что не повезло: волосы на щеках, под носом и на подбородке редкие, тонкие, а то отрастил бы бороду и избавился от ежедневной докуки бритья. Впрочем, иногда он дня по три не бреется: красоваться не перед кем. С прической проще – длинные полуседые волосы Грошев заглаживает назад и перехватывает резинкой, отчего становится похожим на ветерана рок-музыки или человека артистического образа жизни и мыслей, что не далеко от истины.
Глазами хозяина, встречающего гостя, то есть гостью, он осмотрел свое жилище. Эту квартиру Грошев купил четыре года назад после развода с женой. Малогабаритная двушка в блочной двенадцатиэтажной башенке, одиннадцатый этаж, площадь тридцать шесть метров, угловая, окна на две стороны, застекленный балкон, потолки низкие, хрущевка хрущевкой. Входишь в квартиру и попадаешь из крохотной прихожей в узкий коридор, слева две комнаты, маленькая и побольше, справа туалет и ванная, прямо по курсу кухня, из нее выход на балкон.
Похоже, бывшие хозяева в незапамятные времена затеяли ремонт и сразу же взяли мощный аккорд: устлали полы в комнатах паркетом. Он до сих пор выглядит солидно – настоящий, елочкой, полированный, древесно-желтый, с протоптанными темными полянами у дверей. Но, возможно, это не хозяева постарались, паркет имелся от рождения квартиры – Москва при возведении новостроек была подчас неожиданно тороватой, и, например, десятиметровые кухни в типовых квартирах не редкость; для провинциала, каковым был Грошев полжизни назад, – роскошь неописуемая. К сожалению, в этой квартире кухня не такая, шестиметровка.
А вот обои – точно дело рук хозяев. В большой комнате – голубоватые с серебристыми квадратиками, в маленькой – розоватые, по верху красная окантовка с вереницей желтых утят; тут была, видимо, детская. Грошев, когда вселился, ничего не стал менять, понимая, что косметическим ремонтом не обойдешься, а на серьезный не осталось денег. Большой комнате назначил быть гостиной и спальней, поставил вдоль одной стены шкаф-купе, напротив – раскладной диван, поместилось еще кресло, и на этом пространство кончилось. Положил посередке пестренький коврик, диван застелил таким же пестрым покрывалом – с ностальгической иронией усугубил советский стиль. А в маленькой – кабинет: три книжных шкафа, большой стол у окна, кресло-кровать, широкое, удобное, с торшером над ним. Обиталище аскетичного и мыслящего человека, ничего лишнего, внушает уважение.
В ванной же и в туалете – старая сантехника, нелепый кафель, снизу до половины темно-зеленый, под малахит, сверху бежевый, посередке бордюр с синими парусными корабликами на белом фоне.
Кстати! – вспомнил Грошев. Кстати, а ведь на дверях ванной и туалета нет замков, защелок и задвижек! Он еще, когда въехал, удивлялся: знал, что здесь жили муж с женой и две выросшие дочери. Как они пользовались? Снаружи стучали, а изнутри отвечали, что занято? Грошев при вселении сначала хотел врезать современные ручки с защелками, но, зайдя в хозяйственный магазин за лампочками, увидел маленькие задвижки-шпингалеты оконного типа и купил их. И все собирался приделать, тем более что его навещала в последнее время женщина Маша, изредка оставаясь ночевать, но так и не собрался, четыре года задвижки ждали своего часа.
Грошев взялся за работу. Необходимые инструменты имелись: стамеска, молоток, отвертка, все было куплено тогда же, в хозяйственном, для будущих работ, к которым он так и не приступил.
Он аккуратно выдолбил стамеской углубление в косяке туалета, прикрутил к нему планку, а к двери привинтил задвижку. Закрылся изнутри, с досадой увидел, что штырек входит в углубление только краешком, чуть сильнее дернуть дверь снаружи или толкнуть изнутри, и она распахнется. Пришлось отвинчивать задвижку и приделывать заново. Зато, работая после этого в ванной, учел ошибку, все получилось как надо. И задвижки были в цвет золотистым круглым ручкам.
Работа заняла час с лишним, только он закончил – звонок домофона.
Подошел, снял трубку.
Вялый голосок:
– Это я.
– Заходи. Одиннадцатый этаж.
– Да, вы написали.
Грошев, занятый хлопотами, не успел представить себе эту Юну, а ведь интересно, какая она.
Может быть, высокая, стройная, с насмешливым взглядом. На третью ночь войдет к Грошеву, лежащему с книгой, и скажет:
«Знаете, Михаил, я иногда люблю эксперименты».
И спокойно разденется и ляжет рядом.
А может, она маленькая, тонкая, милая, проскользнет к Грошеву, лежащему с книгой:
«Михаил, мне так плохо одной, можно я с вами немного полежу?»
И ляжет, и задышит в плечо, замрет в ожидании.
Но, возможно, она девушка практичная, прямая, привыкшая, что ничего не дается даром. В комнату вкрадываться не будет, скажет за ужином так же буднично, как пережевывают пищу:
«Дядь Миш, денег у меня нет, а даром подживаться не хочу. Давай буду спать с тобой. Если ты можешь, конечно. Как у тебя с этим делом?»
«Все в норме».
«Тогда лады».
А может, это запуганная девочка, робкая сиротка, страшно привяжется к Грошеву, а он влюбится и однажды ночью не выдержит, войдет к ней, она тут же вскочит, прижмется спиной к стене, натягивая на плечи одеяло, зашепчет лихорадочной достоевской скороговоркой, многословной и сбивчивой:
«Я хотела этого, Михаил Федорович, очень хотела, я каждую ночь этого ждала и об этом думала, такой себя негодницей чувствовала, что хоть воду холодную на себя лей, но вы ведь мне как отец теперь стали, и как же я смогу что-то с отцом-то? – ведь этого и я себе не прощу, и вы себе простить не сможете, нам расстаться придется, а я расставаться с вами не хочу, я до горячки дойду так, и думать об этом не хочу, и не думать об этом не могу; я знаете что поняла, Михаил Федорович, – любая любовь – это горе, потому что когда ничего нет, то и терять нечего, а когда что-то есть, бояться начинаешь, а я не хочу бояться, я устала бояться, у меня никого нет, я мать потеряла, не выдержу, если и вас потеряю, а потеряю обязательно, обязательно, я это чувствую, даже если вы меня не разлюбите, вы умрете, а я этого не переживу; что делать, скажите, вы старше, умнее, с вами быть мучительно, от вас уйти еще мучительнее, как быть?»
Грошев увлекся и мысленно начал сочинять ответ бедной девушке: дескать, если всего бояться, то и жить не стоит, а кто когда умрет, этого никто не знает, и это не повод отказывать себе в том, что…
Тут раздался звонок.
Грошев вышел в узкий тамбур, похожий на тюремный коридор с глухими металлическими дверями – три соседских и одна его, увидел сквозь матовое стекло коридорной двери силуэт девушки.
Мог бы раньше выйти, помочь, она же с вещами, упрекнул он себя.
Открыл, увидел худую невысокую девушку, круг-логлазую, как Чебурашка, в серой шапочке, шея обмотана толстым шарфом, тоже серым, черная куртка, черные джинсы, на ногах черные массивные ботинки с высокими зашнурованными голенищами, такие были модными у молодежи в девяностые, гриндера они назывались. Она и сама казалась ретродевушкой из девяностых. Правда, сейчас у молодежи нет общей моды, каждый сам создает себе индивидуальность, если это кого-то заботит. Похоже, ее – не очень.
– Далеко от метро идти, – сказала она так, будто Грошев был в этом виноват. – Здравствуйте.
– Здравствуйте, проходите. Надо было раньше выйти, на «Дмитровской», и на трамвае почти до дома.
– Да ладно, прогулялась.
Грошев потянулся к ручке чемодана, но Юна прошла мимо него в квартиру, стуча колесиками чемодана по плиткам и слегка задев Грошева рюкзаком.
Он пошел за ней.
В прихожей Юна сделала шаг в сторону, в угол, и там остановилась. Словно ждала распоряжений.
– Значит, Юна? – Грошев запоздало протянул девушке руку. – А я Михаил Федорович.
– Мне сказали.
Она сунула Грошеву свою холодную ладошку, прикоснулась и тут же убрала.
– Ну, располагайтесь, давайте помогу.
– Да я сама.
Юна скинула рюкзак, сняла куртку, повесила на вешалку, стоящую в углу, – деревянную, старомодную, на четырех изогнутых лапах и с загнутыми рогульками наверху. Туда же повесила, размотав с шеи, шарф, под которым оказалась бледная тонкая шея. Долго расшнуровывала свои гриндера, Грошев подал ей тапки, но она, порывшись в рюкзаке, достала сверток, а из него – бордовые домашние тапки с помпонами.
Мамины, подумал Грошев.
– Завтракать? – спросил он.
– Спасибо, потом. Куда мне?
Вариант был один – в гостиную, она же спальня. А Грошеву придется и работать в кабинете, и спать в раздвинутом кресле. Вся его одежда – в спальне, там же и белье; надо будет переместить в прихожую, во встроенный шкаф.
Он провел Юну в комнату.
– Вот – твои апартаменты. Сейчас место в шкафу освобожу, располагайся.
– Хорошо.
– А потом все-таки позавтракаем. Или пообедаем, двенадцать почти.
– По-нашему час.
– Тем более.
Грошев перенес в прихожую кое-какие вещи первой необходимости и оставил Юну, деликатно прикрыв дверь (тоже без замка и без задвижки, только круглая ручка, как и на всех дверях), пошел в кухню. Выпил еще кофе, хоть и не надо бы, он чувствовал, что давление высокое, но мерить не захотел, да и тонометр в спальне. Давление – его ежедневное беспокойство. То сто тридцать на сто, а чувствуешь себя так, будто вот-вот инсульт шарахнет, то сто девяносто на сто двадцать, а ты не замечаешь. Опасный фактор. Плюс холестерин, плюс остеохондроз, плюс много еще чего по мелочам, при этом тело сухое, но не тощее, осанка молодая, взгляд остр и бодр. На вид здоров, внутри херов, как говаривал один из знакомых врачей.
Грошев вымыл посуду, скопившуюся в раковине, огляделся. Кухня – самое убогое место в квартире. Старая газовая плита, настенные дешевые шкафчики цветом под дуб, на стенах обои с изображениями чашек, ложечек, кофейных зерен и надписями «кофе» на нескольких языках. Потолок обклеен пластиковыми квадратами, как в какой-нибудь придорожной забегаловке девяностых годов, стол накрыт клеенкой, у стола четыре стула в стиле убогой бюджетной моды – с никелированными прутьями в спинках и сиденьями под кожу, на самом деле дерматиновыми, на них в холод седалище неприятно холодилось, а в жару потело. И ведь тоже хотел поменять, но все откладывал. Начинал даже смотреть в интернете, но все не нравилось: либо дешевый шик, либо очень дорого. Так ничего и не купил.
Грошев вытер стол, убрал с него все лишнее, протер заодно и стулья, с огорчением видя, как на тряпке остаются темные от пыли следы.
Обследовал холодильник. Батон в упаковке, нарезанный, масло сливочное и растительное, горчица, буженина в вакууме, пяток яиц, помидоры, огурцы, несколько банок овощных, рыбных и мясных консервов. Готовить Грошев не любит, запасов не держит – чтобы всегда был повод промяться до магазина после сидячей работы. Кстати, пора закупиться, люди пишут, что исчезает гречка, что все запасаются туалетной бумагой, сахаром, консервами, слухи о карантине всё настойчивее. Чем мы лучше несчастной Италии или Испании, где карантин давно уже введен? А в Индии будто бы полицейские палками людей с улицы прогоняют. Надо думать, вранье, но вранье характерное. Надо сходить, надо; может, сегодня и надо.
А денег не миллионы, и тут вспомнилось, что он уже неделю собирается позвонить Тонкину.
Тонкин – его работодатель, дает переводить англоязычные детективы, а в последнее время и скандинавские с автоматическим подстрочником. Когда Тонкин первый раз подсунул такой детектив, шведский, Грошев спросил:
– И как я буду переводить, если я в шведском ни уха ни рыла?
– С немецкого переводил же.
– Я его немного знаю, а тут совсем ноль.
– Перестань, та же германская группа. А главное – фантазируй. Считай, что делаешь авторизованный перевод. У тебя стиль такой, что им и не снилось; если бы они так писали, мировыми звездами стали бы. Когда свою книгу напишешь уже?
– Пишу. Но это не детектив.
– Ну да, ты же интеллектуал!
И вот Тонкин должен ему денег. Довольно приличную сумму. Отговаривался тем, что в холдинге, куда входит его издательство, реорганизация, плюс переезд, плюс, сам понимаешь, кризис.
– Полгода, Толя! – упрекал Грошев. – Полгода я жду этих денег!
– Но я же плачу!
– В рассрочку, по чуть-чуть, мне едва хватает на жратву и коммуналку!
– Все сейчас так живут, Миша.
– И ты?
– Слушай, ну неприлично умному и взрослому человеку говорить такие вещи! Ты социалист, что ли? Хорошо, предложу тебе свое место, двенадцать часов работы в сутки, ответственность, никакой личной жизни – пойдешь?
– Я к тому, что себе ты наверняка платишь вовремя и полностью?
– А вот и нет, Миша, холдинг платит и тоже задерживает.
Теперь к этому добавится ссылка на вирус, на эпидемию. И все равно надо звонить, ругаться, пригрозить приехать и поговорить лично, глаза в глаза. Но не сегодня.
Юна вышла из комнаты с полотенцем в руках.
– Можно душ принять?
– Можно. Постой, я там кое-что…
Грошев зашел в ванную, прикрыв дверь, осмотрелся: нет ли чего личного вроде белья на виду? Белья на виду не было, но все, конечно, очень убого. Когда приделывал задвижки, не думал об этом, а сейчас стало досадно. На дне ванны полоса ржавого цвета, слив работает плохо, и, принимая душ, приходится стоять по щиколотку в воде. Раковина со сколами, с грязным ободком вокруг стойки крана, сам кран поворачивается туго, и ручка тоже тугая, чуть резче поднимешь ее – плещет и брызжет, опускаешь – еле течет. Над ванной красуется пластиковая разноцветно-полосатая мочалка – с ручками, чтобы можно было намыливать спину, ибо потереть-то некому.
Но ведь эта Юна, судя по всему, тоже не в хоромах жила. Да и замечают ли молодые люди что-то, кроме себя? Грошев в юности в каких только квартирах не побывал, и у бедных друзей и подруг, и у обеспеченных, и у богатых – по советским скромным меркам; разве рассматривал он обстановку и вещи? Нет, не до этого было.
И Грошев вышел, ничего не сделав.
– Там, если надо, шампунь и все прочее, но мужского типа, – сказал он.
– У меня все есть. – Юна показала пластиковую сумочку. – Только фена нет.
– В шкафчике под раковиной, а розетка над зеркалом.
– Спасибо.
Грошев взялся готовить завтрак-обед. Салат из помидоров и огурцов, яичница-глазунья, буженина, масло вынул из холодильника, четыре ломтя хлеба подсушил в тостере. Заварил чай, хотя обычно пользуется пакетиками. Чай этот был кем-то подарен с рекомендацией, что у него уникальный вкус с ароматом тибетских трав. Грошев аромата не почувствовал, для него любой чай отдавал травой, необязательно тибетской, поэтому если он и пил его, то с молоком, а обычно глотал растворимый кофейный напиток – кружками, как пьют американцы. Бочковой, по выражению друга Кропалева, тоже человека одиноко живущего, но в пищевых пристрастиях взыскательного; он в своем блоге частенько описывает сравнительные качества различных продуктов и напитков, многие из которых Грошев не пробовал и не собирался. В частности, ни разу не ел суши и роллы, даже иногда этим хвастал, и все удивлялись: «Прямо-таки ни разу? Совсем?» – «Ни разу. Совсем».
Через полчаса сидели за столом. Лицо Юны, показавшееся, когда Грошев ее впервые увидел, серовато-бледным, сейчас чуть окрасилось румянцем, волосы распушились и стали похожи на шалаш из темного сена, надетый на голову. Бывает – свои волосы, а будто парик, вот у Юны именно так.
Все в ее лице было как-то нескладно и друг другу неподходяще. Тонкий и прямой нос уместен на удлиненном лице, а у Юны лицо равносторонне-треугольное, с остреньким подбородком; пухловатая и довольно красивая нижняя губа подошла бы капризной симпатичной блондиночке, но на этом знаменателе покоился тонкий числитель губы верхней, умаляя дробь красоты; в круглых глазах хороши были бы наивность и простодушие с долей стеснительности, а они смотрят со скукой рано созревшей мудрости, которую ничем не удивишь.
– Нравится? – спрашивает Грошев о яичнице и буженине, о чае.
– Да, нормально, – отвечает Юна.
– Извини, на десерт ничего. Я сладким не слишком увлекаюсь. Мед есть. Хочешь батон с медом?
– Не очень. А водки нет у вас? Я иногда немного… Как транквилизатор. Успокаивает.
Была водка у Грошева, полбутылки в холодильнике, и он охотно достал ее и налил Юне стопку. Ему понравилось, что у девушки обнаружилась слабость, недостаток: с людьми, у которых есть слабости и недостатки, всегда меньше церемоний.
– А вы? – спросила Юна.
– Мне еще работать.
– Чуть-чуть не вредно. Я же не алкоголичка, чтобы одна пить.
– Я иногда пью один, и я не алкоголик.
– Вы понятно, вы один живете. Тогда я не буду.
– Хорошо, выпью. Чуть-чуть.
И Грошев налил себе на донышко стопки, но под взглядом Юны добавил. И еще добавил. Не до края, но две трети получилось.
А эта барышня умеет мягко давить, подумал он, с ней нельзя расслабляться. Как, впрочем, и с любой особью женского пола.
– За встречу, – сказал Грошев.
Юна кивнула и выпила одним глотком. Без лихости, но и не делая вид, что для нее это исключительная редкость, очень просто и спокойно выпила и деловито заела куском буженины.
– Где учились, что закончили? – спросил Грошев.
– В школе, потом, после девятого, в педколледж поступила на льготный бюджет, знакомые матери помогли… Не закончила, правда.
– А что за фирма у вашего дяди, кем он хотел вас устроить?
– Понятия не имею. Я его никогда не видела.
– И какие планы в таком случае?
– Побуду у вас, пока не уедете.
– Пока не уезжаю, позвонили – планы изменились.
Грошев, разглядев девушку, решил: пусть останется дня на три-четыре. Он не обнаружил в себе никакого к ней интереса – и слава богу. Ни красотой она не блещет, ни умом, провинциальная заурядочка, с такой рядом жить – все равно что с дальней родственницей, никаких эмоций, только легкое неудобство, компенсируемое приятным сознанием, что приютил сироту.
Грошев понравился себе этим решением, захотелось небольшой награды, он предложил:
– Еще по одной?
– Давайте.
– Не запьянеете?
– Я на это крепкая. И можно меня на «ты».
– Без проблем. Но меня, уж извини, на «вы», и Михаил Федорович. Не люблю я эту моду нынешнюю.
– Это не мода, а для удобства. И чтобы на равных. Или оба на «вы», или оба на «ты».
– А то, что кто-то старше, роли не играет?
– Какая еще роль? Дольше прожил человек – и что? Это заслуга какая-то?
– Разве нет?
– Нет. Мало ли кто как жил. А то получается, как типа в больнице сказать: я уже год болею, а ты только что в палату пришла, давай меня на «вы» и уважай, а я тебя на «ты» и в упор уважать не собираюсь. Заслужи сначала!
– Странное сравнение. Но, значит, не надо заслуживать?
– Что? Чтобы как к человеку относились?
– Путаница у тебя в голове, Юночка. Ничего, что я так тебя назвал? Не харассмент, в суд не потащишь?
– Очень смешно, – хмыкнула Юна.
Хмыкнула, как показалось Грошеву, почти презрительно.
Все они такие, миллениалы эти, ни черта за душой, ни знаний, ни умений, часто и профессии никакой, а важничают и высокомерничают как настоящие. Надо бы на место ее поставить, да лень. Пусть, пусть обнаружит себя. Грошеву даже творчески выгодно – материал для наблюдения.
– Ладно, – сказал он, – оба на «ты», и я просто Михаил. За равенство!
Выпили.
Молча ели. Грошеву не придумывались вопросы, Юна тоже ни о чем не спрашивала. А могла бы: все-таки перед ней незнакомый человек, с которым придется быть рядом какое-то время. Чувствовалось, что она к Грошеву совершенно равнодушна, как к случайному попутчику в купе. Равнодушна вообще ко всему – сидит над тарелкой, ест, не поглядывая даже по сторонам, а ведь любому человеку бывает любопытно осмотреться в незнакомом месте. И что задумалась о своей доле, тоже незаметно. Просто сидит и ест, потому что есть хочет, вот и все. Удивительно бесцветная девушка.
– Может, прогуляемся? – предложил Грошев.
– Я Кремль хотела посмотреть.
– Не сегодня. Просто пройдемся по окрестностям.
– А что тут?
– Дома. Люди. Парк тут симпатичный.
– Я через него шла, да, нормально.
Понимай: видела я твой парк, больше не хочу.
– И другой парк есть, Тимирязевский, не парк, а целый лес. И пруд большой. Там некоторые уже сейчас купаются.
– Холодно купаться.
– Я и не предлагаю.
– Спасибо, я поспать собиралась. Ночью в поезде совсем не спала. Можно?
– Конечно. Сейчас разложу диван, постелю.
– Не надо, я сама, только покажите где что.
– Не соблюдаешь равенства! Мы на «ты».
– Ладно, покажи.
Грошев выдал ей комплект свежего белья и ушел в кабинет, сел за стол, открыл ноутбук, вознамерившись поработать.
Не работалось.
Разложил кресло, вспомнил, что подушки и одеяла в спальне. Дверь туда закрыта, стучать не хочется; он достал из шкафа в прихожей старую толстую пуховую куртку, свернул ее, положил под голову, улегся, взял планшет, чтобы что-нибудь почитать или посмотреть, но потянуло в сон, и он не стал этому противиться.
Проснулся под вечер – вялый, скучный. Выползая сознанием из сонной одури, вспомнил, что произошло что-то раздражающее, но не сразу вспомнил что.
Как «что»? Девчонка чужая приехала. Дрыхнет на его диване, а ему придется кукожиться в кресле. И заботься о ней, корми ее. Разговорами развлекай.
Грошев поднялся, пошел в ванную, умылся. Постоял у двери гостиной-спальни, прислушиваясь. Тихо. Приоткрыл дверь, заглянул. Юна спала, на кресло были брошены джинсы, носки – комком, а вот футболка аккуратно повешена на спинку. Уж или всё как попало, или всё повесила бы как следует, подумал Грошев. Никакой системы. Бестолковая девица. Утомляет, ничего не делая, одним своим присутствием. Даже в том, как лежит, ничком, уткнувшись лицом в подушку, чувствуется какая-то безысходная обыденность, до тошноты пресная. Из-под одеяла высовывается голая нога. Нога как нога, ничего в ней женского, скорее подростковая нога или худая мужская. Унисекс.
Грошев оделся и отправился в магазин.
По пути встретил двух девушек в масках. Все чаще попадаются берегущиеся люди, пусть эти маски ни от чего не спасают – такой вывод сделал Грошев, начитавшись всякой разности в интернете. Раздули для чего-то истерику, а на самом деле грипп как грипп. Сейчас под это жулики-фармацевты начнут рекламировать какой-нибудь спасительный фуфломицин, вылечивающий за три дня.
Во «ВкусВилле» Грошев обнаружил, что готовая еда, которую он частенько брал, исчезла. Нет винегрета, нет куриного филе с гречкой, нет холодца; оставшееся или слишком дорого, или в рацион Грошева не входит, а кусочек семги с листиком салата за триста пятьдесят рублей кушайте сами. Нет и картошки, нет гречневой крупы, помидоры только очень дорогие.
Грошев ушел из любимого магазина ни с чем, отправился в соседнюю «Пятерочку», где и набрал картошки, гречки, яиц, овощей, яблок, еще кое-чего по мелочам. Взял и бутылку водки. И вторую взял, другого сорта, подороже. И большую бутыль газировки – они все, молодежь, газировку глотают.
Грустно развлекся созерцанием старухи, которая наполняла тележку пакетами разных круп, сахара, положила две пластиковые банки соли, поразмыслив, добавила и третью. Взяла два увесистых двухкилограммовых пакета муки. Отошла, остановилась, осмотрела содержимое тележки, вернулась, один пакет муки поставила на полку. Опять отошла, опять вернулась, поставила и первый пакет, но взяла три килограммовых. Решила, видимо, что два кило муки маловато, а четыре не унесет, учитывая тяжесть и других продуктов, вот и выбрала средний вариант.
Когда вернулся домой, Юна еще спала. Грошев почистил и сварил несколько картофелин, превратил их в пюре – беспроигрышный вариант, всем нравится, – достал из морозилки филе минтая и сунул в микроволновку размораживаться. И диетично, и питательно.
Лег, взяв планшет, посмотрел новости. Предрекают с понедельника нерабочую неделю, что-то вроде каникул. А кто их оплачивать будет? – спрашивали в комментариях. Все это кидалово в государственном масштабе, были уверены другие комментаторы. О вас же заботятся, дураки, защищали решения власти третьи, посмотрите, что творится в Италии. Нужен тотальный карантин на месяц.
Как ответ на это, появилась трансляция выступления Путина, в котором он объявил с понедельника, как и предрекали, нерабочую неделю и призвал граждан побыть дома.
Похоже, нешуточная начинается история. Насколько нешуточная? Посмотрим.
Однако уже десятый час, а Юна все спит.
Грошев постучал, громко спросил:
– Ты в ночь собираешься спать или как? Может, перекусим?
Через минуту открыла заспанная и хмурая Юна.
– У тебя тут график?
– Какой график?
– Ужин по графику? Я бы еще поспала.
– О тебе же забочусь, ночью не заснешь потом.
– Еще как засну. И о себе я сама позабочусь, ладно?
Она скрылась в туалете, потом перешла в ванную. Грошев за это время пожарил размороженную рыбу, с неудовольствием думая о неприятной девушке, которая все воспринимает как покушение на ее самостийность. Делать ему больше нечего. А он тоже хорош – оправдывается, чуть ли не лебезит перед ней. Надо исправить, показать ей, кто есть кто.
Запах рыбной жарехи Юне покажется казенным, столовским, бесприютным – и пусть. Нечего обольщаться: как сам питаюсь, так и тебя угощаю, сварливо думал Грошев.
Ужинали так же уныло, как и обедали. Молчали. Меню было: разогретое пюре, рыба, хлеб и корнишоны из банки.
– Под огурчики угостимся? – спросил Грошев.
– Ты хочешь?
– Не прочь. День кончился, почему бы и нет?
Опять оправдываюсь, подумал Грошев. Но на этот раз – перед собой.
Они выпили по одной, по второй и по третьей. Стопки у Грошева стандартные, по пятьдесят граммов.
Ни на Юне, ни на нем выпитое не сказалось, разговорчивее они не стали. Грошев испытал что-то вроде пассивного азарта: а вот нарочно буду молчать, ни слова не пророню, посмотрю, как ты это выдержишь!
Юна выдерживала легко.
Спросила:
– Ты не куришь?
– Нет.
– А я выйду на балкон, можно?
– Травись на здоровье. До этого ты что же, терпела?
– Привыкла. Я в детском саду работала, там в помещении нельзя, а выходить – заведующая ругалась. А зимой холодно. Целый день терпишь иногда.
– Легче бросить.
– Наверно. Но в этом свой кайф. С утра до вечера не куришь, а потом затянешься – аж голова кружится.
У Грошева во рту защипало, а в желудке тоскливо сжалось. Он бросил курить, когда въехал в эту квартиру. Чтобы совсем уж новая жизнь. Бросил довольно легко, он тогда простудился, неделю не выходил из дома, запаса сигарет не было, а одеваться и тащиться в таком состоянии не хотелось. Болезненность и лень спасают от многих пороков.
За четыре года не раз накатывало желание закурить, но Грошеву жаль было достигнутого. В конце концов, воздух в квартире чище, одежда не пахнет, нет заботы покупать сигареты, да и экономия денег, что ни говори. Одно досадно – улучшения здоровья Грошев не почувствовал ни на каплю. А чего я хочу, говорил он себе, возраст есть возраст. Лучше уже не будет, лишь бы хуже не было.
И вот захотелось, захотелось нестерпимо.
Юна накинула куртку, Грошев дал ей пепельницу – тяжеловесную, советскую, хрустальную, он держал ее для гостей. Юна вышла на балкон, сквозь щель в форточке потянуло дымком, и Грошева прошибла тошнотворная слюна. Он торопливо налил и махнул стопку, но желание закурить не убавилось, наоборот, вспыхнуло еще ярче, с отчаянной требовательностью.
Берегусь, а сам, может, уже заразился вирусом и сдохну, подумал Грошев. Так ради чего терпеть?
И ведь даже сигареты были, и именно такие, какие он курил: забыл почти целую пачку кто-то из гостей, а Грошев почему-то не выкинул ее, положил на верхнюю полку шкафа в дальний угол. Спрятал сам от себя. Если бы хотел отдать приятелю, когда тот опять зайдет, положил бы в любое место, – нет, подальше запихнул. Знал, предчувствовал, что поманит. А раз так, зачем противиться предвидению?
Когда вышел на балкон, Юна не удивилась. Будто не говорил он ей только что, что не курит. Или пропустила мимо ушей, и это свидетельствует о ее невнимательности, или не поверила, а это значит, что не такая она дурочка, как кажется.
– Соблазнила ты меня, – упрекнул Грошев.
– Соблазнить никого нельзя, если кто по-настоящему не хочет.
– Ишь, умница какая. А мне казалось, поколение почти стерильное растет. Мало курящих, сильно пьющих тоже нет. Мы шибче пили. Отчего многие и померли.
– Я курю и выпиваю. И мои друзья тоже. Ты какое-то другое поколение видел.
– Или другую часть.
– Может быть. Никаких поколений нет.
– А что есть?
– Ну… Нормальные и придурки.
– Коротко и четко. А в чем отличия?
– Будто сам не знаешь.
– Я-то, может, знаю, но интересно, как ты это понимаешь.
– Так же, как и ты. Давай не надо, а?
– Чего не надо?
– Ничего. Я же вижу, ты из меня все вытащить хочешь. Типа мое мировоззрение. Вот оно тебе упало.
– А у тебя есть мировоззрение? – спросил Грошев.
Он хотел, чтобы вопрос прозвучал иронично и весело, но получилось раздраженно и, пожалуй, глуповато.
– Начинается! – недовольно проворчала Юна и ушла с балкона.
Вернулся в кухню и Грошев, и тут же зазвонил его телефон. Будто наблюдал и ждал, когда хозяин выйдет с балкона. Грошев взял трубку.
– Здравствуйте, это Катя, подруга мамы Юны, я беспокоюсь, она у вас?
– Да.
– Можно с ней поговорить?
Грошев передал трубку Юне.
– Все нормально, теть Кать, – сказала она, глядя на Грошева, вернее, сквозь него. – Да. Да. Да, конечно. Да. Хорошо. Ладно. Спокойной ночи. – И положила телефон на стол.
Ни тебе спасибо, ни пересказать, о чем тетя Катя спрашивала. Неотесанная девица, дикая.
Спросила:
– У тебя телевизора нет?
– Нет.
– А кино с чего смотришь?
– Ноутбук, планшет.
– А я с телефона. У тебя тут вайфай? Пароль скажешь? А то у меня интернет не безлимитный, за день истрачу все.
Грошев сказал ей пароль, Юна ушла в спальню, дверь не закрыла, улеглась и уткнулась в телефон, большой, размером с книгу формата покетбук. С таким и телевизора не надо.
Грошев убрал со стола, вымыл посуду. Девушки его поколения так себя не вели: попав в гости, обязательно убрали бы за собой. А эта даже не предложила. Как в фастфудной столовке посидела, все оставила и удалилась. Да и в фастфуде воспитанные люди за собой убирают, сгружая все с подноса в специальные мусорные шкафчики.
Закончив, он выпил еще стопку – наскоро, будто украдкой. Пошел в кабинет, лег. Просмотрел новости, которые становились все тревожнее. Завтра обязательно надо позвонить Тонкину насчет денег. А может, прямо сейчас позвонить. Да, уже полночь, но пусть поймет, насколько все критично. Грошев набрал номер Тонкина. Тот не ответил. Грошев написал сообщение: «Перестаю быть вежливым, жду денег!!!»
Получил ответ: «Извини, ответить не могу, сижу у больной дочки. Деньги будут, но жду твой перевод».
Написал: «Соболезную, здоровья всем твоим близким, но при чем тут мой перевод, если не заплачено за предыдущие?»
Ответ: «Меня дергает руководство. По плану сдача 15 апреля».
Написал: «Будет тебе 15-го. Но деньги вперед!»
Ответ: «Я же сказал, сделаю все возможное, не волнуйся. И не болей, пожалуйста».
Дипломат, сволочь, беззлобно подумал Грошев.
Хмель как-то слишком быстро рассосался, Грошев чувствовал себя трезвым и ясным. Но не радовался этому: такое легкое возбуждение бывает перед бессонницей.
Начал смотреть смешные ролики – он, к стыду своему (впрочем, уже и без стыда), надолго тупо залипал на бессмысленное смотрение всего подряд.
Но сейчас что-то мешало получать удовольствие.
Девочка, наверно, считает, что Грошев сейчас чем-то умным занимается, а он бездарно тратит время. Мог бы за книгу всерьез взяться. Даже Тонкин о ней помнит. И как не помнить, если Грошев давно уже о ней говорит, а начал, страшно сказать, двадцать лет назад. Папка с названием «НЕДО» (имя будущего магнум опуса) забита другими папками и файлами, чего тут только нет. Она, разрастаясь, перекачивалась раньше с устройства на устройство, а теперь покоится и на жестком диске ноутбука, и в облачном хранилище, платном, зато надежном и емкостью в целый терабайт.
Давненько он сюда не заглядывал.
Грошев просматривал список, не узнавая многих заголовков.
«Покушение». Что еще за «Покушение»? Перевод детектива, попавший не в ту папку?
Открыл. Увидел:
Михаил ГРОШЕВОЙ
ПОКУШЕНИЕ
Не крадите, не обманывайте и не лгите друг другу.
Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
И не облекайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то время как вы знаете!
Не обманешь – не продашь.
1
Проснувшись утром, застаешь на своем месте не того человека, с кем расстался вчера вечером, засыпая. С собой всегда приходится знакомиться заново, и это знакомство не всегда приятно.
Пьяницы это испытывают с особой остротой. Листунов знал в молодости одного чудака, имевшего веселый легкий нрав, кучу друзей, готовых дать взаймы, напоить и приютить, для которого это превратилось в своеобразный спорт – шататься от дома к дому (под конец почти ползти), а утром, проснувшись, гадать: где я на этот раз?
Стационарные алкоголики испытывают нечто подобное: стены родные, но в своем теле чувствуешь себя как в случайной гостинице – и долог, труден путь обратно, к себе, в себя.
Он проснулся в таком настроении, будто вчера совершил
Он проснулся с каким-то тягостным ощущением, словно вчера было назначено к сегодняшнему исполнению что-то неприятное, но обязательное.
И еще полстраницы примерочных строк, а потом наконец связное повествование. Двадцать три страницы про какого-то Листунова, который недоволен женой и жизнью, встречается с разными людьми, что-то обсуждает (Грошев не вникал), – все скучно, вяло, непонятно о чем и зачем. То ли на Листунова почему-то готовится покушение, то ли его собираются уговорить на кого-то покуситься. Написано, судя по дате файла, семнадцать лет назад.
Еще папка. «НЕДО ГЛАВНОЕ».
Это и правда главное – попытки описать собственную жизнь как несобственную. Много попыток.
«Недо начало 01» – что тут? Посмотрим.
НЕДО (начало)
Лена была очень разной. Вот класс, она сидит за партой тихая, неприметная, ровно и деловито отвечает у доски, примерная ученица, берущая не способностями, а равнодушной старательностью, а вот кузов грузовика, в котором школьники возвращаются из летнего похода, и она вместе с рыжей Юлькой и отъявленным второгодником по кличке Тузик (кличка тайная, для своих, назови его так вслух – получишь в морду) ныряют под брезент, что-то там делают, она отбрасывает брезент, красная, хохочущая, глотает воздух – и опять туда, под брезент.
Воплощенная метафора двойной советской жизни – отдай обществу долг, и можешь делать в своей личной жизни, под брезентом, что угодно.
Саше нравилось в ней все. Что невысокая, тонкая, что прическа как у Мирей Матье, нравилась родинка между носом и верхней губой; кстати, те, кто в древности называли части человеческого тела, относились к этим частям или пренебрежительно, или с показной грубоватостью, не желая признаться в настоящем к ним отношении, иначе не было бы так неблагозвучно – нос, губа. Или того хуже – бедра, грудь. «Дра», «гру» – жуть. «Талия» еще ничего, звучит. Да и то иноязычного происхождения.
Нравилась ее независимость. Если отвечала, то не для учителей и уж тем более не для одноклассников – для себя, чтобы быстрей получить отметку и отделаться. А когда хохотала, отбросив брезент, нисколько не интересовалась, как на это смотрят окружающие, включая пожилую географичку, которая, впрочем, отвернулась: не вижу, значит, ничего и нет, а увидишь – надо разбираться, а начнешь разбираться – обнаружишь что-то, требующее педагогического вмешательства, а вмешиваться как раз и неохота.
Саша завидовал Лене, он об окружающих всегда помнил и частенько подлаживался под них. Это была не совестливость и не услужливость, как он теперь понимает, а мнительность и, прямо скажем, трусость.
А вот еще одна Лена, на школьном вечере, девятый класс, ей уже шестнадцать, родилась в феврале, а Саше все еще пятнадцать, родился в июне, она стоит среди девочек, которые давно уже девушки, маленькие женщины, совсем взрослые, особенно если сравнить с собой, посмотрев в темное и отражающее окно. Они о чем-то совещаются, секретничают, интригуют, что-то у них там волнующее и загадочное, и Лена, хоть и ниже ростом многих, выглядит среди них королевой. Нет, скорее, она Миледи из «Трех мушкетеров» – красивая и коварная. Так Саша ее мысленно и называл – Миледи.
Кто-то из старшеклассников приглашает ее танцевать, она соглашается, танцует с выражением спокойной удовлетворенности на лице. Именно не радость, не удовольствие, а удовлетворенность – от уверенности, что все так и должно быть.
А вот Саша, проходя мимо лестницы, видит и слышит: под лестницей, в полутьме, Лена прижала к стене кого-то из подруг – Саша не разглядел кого – и злобно спрашивает: «Ты поняла меня… – И дальше несколько матерных слов, произнесенных звучно и уверенно, как привычные. – Поняла, тварь?» И бьет подругу по щеке.
У Саши даже сладко заныло под ложечкой и ниже – от восторга, так он любил в этот момент Лену.
И прошел мимо молча.
Так молча и пролюбил он ее четыре года, с шестого по девятый класс включительно, и лишь в десятом признался и тогда узнал еще одну Лену, но это, употребим с удовольствием такое же расхожее и неоригинальное выражение, как и вся эта повесть о первой любви, отдельная история.
Отдельная история осталась ненаписанной – в этом виде. Были и другие попытки, но сейчас лучше не заглядывать, не травить себя.
Грошев захлопнул обложку планшета и бросил его рядом с креслом, на коврик, будто наказывая за то, что все терпит, хранит в себе. Бросил, но, однако, не швырнул, бросил бережно, не вертикально, а скользящим косым движением, и планшет лег с мягким стуком.
Грошев закрыл глаза, вернее, зажмурился. И сжал губы. Так бывает, когда перетерпливаешь боль. Удивился этому, расслабил мышцы лица, глубоко вздохнул, настраивая себя на покой, на безмятежную неподвижность. Но тут же встал
Ночь первая
и пошел в кухню.
Дверь в спальню открыта, там темно, но с каким-то отсветом. Грошев заглянул и увидел, что Юна лежит на животе, а телефон перед нею. В ушах наушники. Что-то смотрит.
Он открыл холодильник, достал водку, поставил на стол, опять открыл холодильник, взял банку с корнишонами. Налил стопку, полез в банку вилкой, стучал по стеклу, ловя ускользающий огурец, – делал все как днем, без ночной приглушенности движений. Словно давал этим понять Юне: знаю, что ты не спишь. Если захочешь, можешь присоединиться, но сам приглашать не буду.
И Юна вышла из комнаты, спросила:
– Тоже не спишь?
– Как ты догадалась? Выпьешь?
– Ночью стремно… – и села за стол.
– Так будешь или нет? – Не дожидаясь ответа, Грошев достал вторую стопку, налил.
Выпили.
– Значит, в детском саду работала? – спросил Грошев.
– Да, недолго. Практика была от педколледжа.
– А почему не закончила?
– За матерью надо было ухаживать.
– Сильно болела?
– Да. Квартиру на лечение пришлось продать.
– А жили где?
– Мы в рассрочку продали. Есть такие риелторы, они узнают, что человек должен умереть, старый или больной, а денег на лечение нет, они предлагают оформить квартиру на продажу и ждут смерти. Некоторых будто бы ускоряют.
– Убивают?
– Необязательно. Договариваются с врачом или медсестрой, чтобы давали лекарства, от которых хуже будет.
– Это и есть убийство.
– Может быть. Но я следила за этим. Или бывает, когда договор неправильно составлен, человек еще не умер, а они приходят и выносят из квартиры. Реально на улицу. И все по закону, они в бумажку тыкают, а там мелкими буквами все написано.
– Тычут.
– А?
– Тычут. Не тыкают.
– Ну тычут. Какая разница?
– Терпеть этого не могу! Какая разница! Мало что неграмотно говорят, они еще и защищаются! Даже хвастаются!
– Я не защищаюсь и не хвастаюсь, а просто – чем хуже? Тычут – хорошо, хотя смешное слово получается: тыч, тыч! А тыкают – нехорошо. Почему нехорошо-то?
– Не нехорошо, а неправильно! Неграмотно!
– Я не про это. Что изменится? Вот мне сошьют юбку… Нет, я юбок не ношу. Ну, что-нибудь сошьют, нет, я ничего не шью, покупаю, но я теоретически, сошьют что-то не в мой размер, мне неудобно. А тут что неудобно? Тычут, тыкают. Ты же понял, о чем я.
– Правильная речь сохраняет язык. Язык – как систему координат. Для лучшего взаимопонимания! А еще она маркер образованности! Она…
Юна не дала договорить, подняла палец:
– Вот! Вот и пусть все знают, что я необразованная, зачем я буду кому-то голову дурить?
Грошев развел руками:
– Ну, если так… Значит, вас не выгнали?
– Нет, нормальные риелторы были, им врачи сказали, что ждать не больше полугода, и они терпели, ничего такого не делали. А может, надо бы.
– Ты с ума сошла?
– Мама сама просила ей что-нибудь вколоть. Если бы ты так мучился… Врачей просила, меня просила. Я по трусости не соглашалась.
– По трусости?
– Ну, не по трусости… Не знаю… Кому хочется убийцей быть? Одной врачихе тихонько сказала, а она как на меня поехала: ты что говоришь, ты, блядь, дочь! Не парит, что ругаюсь?
– Если для тебя привычно – валяй.
– Не то что привычно, а иногда без этого никак. Короче, раскричалась: смотри, мы будем вскрытие делать, если что-то обнаружим, я лично на тебя заявление в суд напишу, дура жестокая! Ага, жестокая. Смотреть и видеть, как мать с ума от боли сходит, – жестокая, а они лишнюю ампулку дать – не жестокие. По часам, блядь, в случае острой боли! А если у нее все время острая боль? Короче, дали помучиться подольше, как положено. По правилам, блядь.
– Тонко уела.
– Чего?
– Про правила напомнила.
– Я не нарочно. Выпьем еще?
Выпили.
Грошев спросил мягко, с почтением к чужим страданиям:
– А потом все-таки согнали тебя с квартиры?
– Само собой. У тети Кати жила в подвале. Подвал хороший, дядя Витя его для мастерской сделал. Сухой, чистый, только без света, без окон. А потом я с молодым человеком жила полгода, он квартиру снимал. Потом расстались с ним, а обратно к тете Кате нельзя было, она сказала, что дядя Витя там все время работает.
– Или не захотела, чтобы ты там жила.
– Может быть. А что хорошего, если чужой человек под тобой живет? Я ей даже не родственница. Пошла на молочный комбинат работать, там общежитие обещали, но мест не было, сняла комнату у бабушки, не выдержала, через два месяца съехала.
– Вредная бабушка?
– Да не то чтобы… Условие было – я сама питаюсь, отдельно, а ее продуктов не трогаю. Съехала на этом. Суп сварит и в кастрюльке внутри черточку сделает, чтобы я не отлила. Или начинает холодильник проверять, вынимает все и осматривает, на ладошке взвешивает, а сама на меня смотрит. Любому надоест. И я ушла, и… Ну и все в этом духе.
– Я смотрю, у тебя уже много чего было, – сказал Грошев. – А я думал, совсем зеленая, тебе сколько – восемнадцать, девятнадцать?
– Двадцать два уже. Но паспорт всегда спрашивают, когда сигареты покупаю. Я в мать, она долго молодой казалась. Но не очень красивая была, как и я тоже. А с тридцати вдруг повело – была тощая, стала стройная, а подруги многие растолстели. И лицо получшело. После тридцати меня родила, другие от родов хуже становятся, а она совсем зацвела. С тридцати до сорока у нее прямо звездная жизнь была. И с работой все в порядке, и с мужчинами, квартиру купила…
– А отец? Отец был какой-то?
– Какой-то был. Женатый, двое детей. Правда, семью бросил потом.
– Ушел к твоей маме?
– Нет, к другой женщине. Я его видела всего раза два. Поговорили немного: как дела, как что. Я его отцом даже не почувствовала, чужой мужик совсем. Смешно.
– И не помогал, никаких алиментов?
– Откуда? Две семьи, у него и на себя-то не хватало.
Юна взяла сигарету, встала.
– Кури здесь, – разрешил Грошев. – Я тоже, потом проветрим.
Он налил еще по одной, чтобы закурить было приятней.
Достал вторую бутылку:
– Не против?
– Все равно не спим.
Выпили, закурили, посидели молча.
Грошева наконец немного отпустило.
Хватит себя грызть, думал он. Ты приютил несчастную девушку, и это хорошо весьма. Девушка размякла душой, и это тоже хорошо.
Она – типичная жертва. По всему видно. Свои беды принимает как должное. И это не стоицизм, не мужество, это спасительная эмоциональная тупость. Что всему их поколению свойственно.
– Да, – сказал он, – непростая жизнь у тебя была, Юнона!
Он выговорил ее имя с лукавой улыбкой. Будто шутливо уличил.
Юна отреагировала равнодушно:
– Мать так назвала, но мне полное имя не нравится.
– Она «Юнону и Авось» любила? В Москву ездила смотреть, или к вам приезжали?
– Кто?
– Спектакль.
– А, ну да, какой-то театр что-то такое играл, мне говорили. Нет, просто древняя богиня такая была, матери это имя всегда нравилось. А я, когда полностью называю, все почему-то считают, что это имя ненастоящее или что я проститутка.
– Логично. Проститутки любят необычные имена брать.
– А ты откуда знаешь?
– Профессия такая. Пишу книги, должен многое знать о жизни.
– Серьезно? И в магазинах продают? И в интернете ты есть? А как твоя фамилия? Извини, – спохватилась Юна и объяснила: – Мне только твое имя-отчество сказали.
– Грошев моя фамилия, но в магазинах не продают. Я еще своих книг не издал. Не спешу.
– А живешь на что?
– Перевожу книги с разных языков.
– Тоже интересно, – милосердно сказала Юна.
– Очень, – усмехнулся Грошев. И сменил неприятную тему. – Ты уж прости, но мы ведь откровенно обо всем: тебе самой в проститутках не пришлось побывать?
– Не взяли. Одна подруга привела меня к их главному…
– К сутенеру?
– Командиром они его называли. Привела к командиру, тот раздел, посмотрел, говорит: нет, костей много, а секса нет. В салон и на выезд в городе не годишься, могу на дорогу поставить. Это значит – для дальнобойщиков, для шоферов… – начала объяснять Юна.
– Я знаю. Думал, таких уже нет. Плечевыми их называют.
– Пользовался?
– Юна, я, если ты заметила, живу на свете довольно давно. И много о чем знаю, даже если не пользовался.
– На самом деле всякие есть. Я отказалась. Не настолько здоровая, чтобы по ночам мерзнуть, ждать кого-то, а потом ехать неизвестно с кем или прямо в кабине…
– Только это остановило? Не морально-нравственные принципы?
– И принципы тоже, я не блядь по характеру и к сексу отношусь спокойно. Тоже в мать, она рассказывала, что к тридцати только… Ну, как сказать…
– Вошла во вкус?
– Типа того.
Грошев хмыкнул со сведущим видом:
– Видишь ли, Юна, это зависит от того, какие попадаются мужчины. Ибо мужчины наши, отечественные, в этих вопросах очень ленивы и нелюбознательны. Они думают о себе, не понимая элементарной вещи: чем больше женщине ты дашь, тем больше от нее получишь. И это целая наука.
Юна вдруг засмеялась. И смеялась все громче. Хохотала уже.
– Что? – спросил Грошев.
Юна продолжала хохотать. Не могла успокоиться, хлопала ладонями по столу, сгибалась, чуть не стукаясь лбом, вытирала слезы.
– Водички? Или еще водки? – спросил Грошев.
– Воды, да…
Грошев подал ей воды в стакане, она выпила, постучала ладошкой по груди.
– В чем причина смеха? – поинтересовался Грошев.
– Да так, бывает. Я смешливая.
– И все-таки?
– Обидишься.
– Это невозможно. Я никогда ни на кого не обижаюсь. Ну?
– Да в поезде, когда ехала, ко мне подсел один… В возрасте уже, за пятьдесят, наверно.
– Как я?
– Ну да. А у меня настроение никакое, а он… Типа, чё как, чё куда, чё такая красивая, а невеселая? Я вежливо молчу, старость уважаю, сразу по морде не бью, а он все доебывается, а сам мне руку на коленку. Я ему: дедушка, а не охуел ли ты? Сел быстро от меня подальше, пока я проводнице не сказала! Он перебздел сразу же: тихо, тихо, какая нервная девочка, я, блядь, из лучших побуждений!
– Я похож на дедушку, который с тобой заигрывал?
– Не похож, я просто вспомнила и рассмеялась, как эта, а я, когда смеяться начинаю, не могу остановиться. Нервы типа.
А ведь девушка не ошиблась, появились в голосе Грошева если не заигрывающие, то кокетливые нотки, – он сейчас вспомнил, как говорил о науке любить женщин, и услышал памятью, с какой потешной игривостью это звучало.
– Рад, что у тебя развито чувство юмора, – сказал он.
– Проехали, давай зальем.
Она подставила стопку.
Грошев налил ей и себе.
Выпили.
Юна стала опять равнодушной. Устала после смеха. Смех ведь для любого живого существа, в том числе млекопитающих, – дело неестественное, его освоил человек, пойдя против природы, смех требует слишком много усилий и отдыха после этих усилий.
Грошев чувствовал, что ему хочется поразить эту простушку. Показать ей, что нет ничего очевидного и то, что ей почудилось заигрыванием, имеет в подтексте нечто более сложное.
– А ведь ты права, – сказал он. – Легкое заигрывание было, но почему? Потому что, во-первых, я джентльмен, а джентльмены знают, что любой девушке и женщине приятно, когда к ней проявляют внимание.
– Даже без спроса?
– А как понять, понравишься ты или нет? Приходится пробовать.
– Ой, да ладно! Я в два с лишним раза моложе, а он старый и урод – чего тут понимать? Постой, ты, значит, тоже пробуешь?
– Дослушай и поймешь. В жизни каждого человека есть события, которые накладывают отпечаток – навсегда. Влияют на его поведение. Создают стереотипы. И у меня такое событие было; если хочешь, расскажу.
– Ладно.
И Грошев рассказал этой едва знакомой девочке главную историю своей жизни, которая повлияла на все дальнейшее.
В двенадцать лет я влюбился в одноклассницу Таню, рассказывал Грошев с лирической усмешкой. Четыре года любил ее тайно и молча, а в десятом классе признался. Оказалось, что я ей тоже нравлюсь. Мы сидели за одной партой, все вокруг видели и знали, что мы дружим, но думали, что дружба только школьная, как часто бывает. Мы не гуляли по улицам, не ходили вместе в кино, не присоединялись к компаниям одноклассников.
Я приходил к ней домой, рассказывал Грошев, Таня часто была одна, потому что мать ее работала в театре костюмером и была вечерами занята, отчим из семьи ушел, а младшая маленькая сестра Тани спала или молча играла, спокойная была девочка. И мы с Таней любили друг друга. Это было пять лет сумасшедшего счастья – четыре года любви на расстоянии и год любви воплотившейся. Почти год.
Весной оказалось, что Таня встречается с другим, рассказывал Грошев со спокойной горечью давно все простившего человека. Я узнал это и хотел повеситься. Вернее, удушиться посредством длинного резинового медицинского бинта, который недавно купил в аптеке для тренировки мышц рук. Почти получилось, я потерял сознание, упал, больно ударился головой и от этого очнулся, успел размотать с шеи бинт. Но любить Таню продолжал.
Мы закончили школу, рассказывал Грошев завершающим голосом, она почти сразу же вышла замуж, потому что была беременна, а я все любил и верил, что верну ее. Будет она с ребенком – ну и что, возьму ее и с ребенком. И даже с двумя. В любом случае я ее дождусь.
В этом месте Грошев замолчал. Налил, многозначительно выпил.
А Юна не стала пить, спросила:
– Что-то страшное случилось, да?
– Ты догадливая. Ее положили в роддом. Роды были трудные, сделали кесарево сечение, занесли инфекцию, сепсис, смерть.
– Ничего себе!
Теперь и Юна выпила.
– А ребенок? Не пострадал?
– Нет. Девочка. Отец на похоронах рыдал как безумный.
– А ты видел?
– Все видели, из нашего класса многие пришли.
– И ты рыдал?
– Нет. Я умереть хотел. На кладбище кусты были, я туда ушел, упал и лежал. До ночи лежал, потом пешком в город шел, домой. Часа три шел.
– Да… Печально.
– Не то слово. И я после этого никого так не любил. Можешь ты это представить – ежедневное ощущение счастья? Каждую минуту. Будто под наркотиком. И так пять лет. И я потом всю жизнь искал что-нибудь похожее. Ошибался, опять искал. И вот отсюда, Юночка, мой стереотип. Я с любой женщиной говорю так, что кажется, будто я ухаживаю, заигрываю, а на самом деле это прорывается что-то… Постоянный поиск, понимаешь? И даже не обязательно женщина нравится, но…
– Авансом? На всякий случай?
Грошев усмехнулся:
– Авансом?
– Это моя подруга так говорит, – объяснила Юна. – У нее тоже стереотип, но наоборот. Она влюбилась, а он ее заставил аборт сделать, и она теперь любого мужика авансом ненавидит. Чтобы не ошибиться. А ты как бы авансом любишь, да?
– Не люблю, а ищу, – уточнил Грошев.
– И не нашел?
– Ты здесь кого-то видишь?
– Но ты же был женат, не один жил все время?
– Был. Неоднократно. И всегда по любви.
– А я не влюблялась еще ни в кого.
– Ты говорила, жила с кем-то.
– Это другое, просто устраивали друг друга.
– Точное слово. Если в наше время говорили: я ее люблю, она меня любит, то теперь – она меня устраивает, он меня устраивает.
– Вот не надо: я люблю, она любит! Если вы такие все про любовь были, то чего же никто друг с другом не живет? У меня из подруг никого нет, чтобы у них отец с матерью не развелись.
– Юночка, у нас с тобой разговор слепого с глухим. Или наоборот. Если ты ананас не пробовала, я тебе его вкус объяснить не сумею.
– Пробовала.
– Не придуривайся, ты понимаешь, о чем я. Влюбишься – тогда поговорим.
– Если так мучиться, как ты, лучше не надо. У нас с матерью кошка была, долго, пятнадцать лет, а потом ослепла, мы ее усыпили и ревели потом целую неделю. Мать сама уже умирает, а за кошку переживает – смешно.
– Зря усыпили, – сказал Грошев.
– Почему?
– Ты не поверишь, у меня рассказ есть на эту тему.
Действительно, Грошев, просматривая тексты будущей книги, видел файл с названием «Слепой кот», а сейчас вспомнил, что это рассказ, и рассказ, кажется, неплохой.
– Хочешь, прочитаю? – предложил он.
– Прочитай.
Грошев сходил за планшетом, поставил его перед собой на загнутую обложку, налил по половине стопки, выпили.
Юна устроилась поудобней, закурила.
Грошев тоже закурил. Читать не начал – собьешь дыхание, предварил предисловием:
– Это из книги, которую я сейчас пишу. Она будет такая: история начинается, но не заканчивается. Начинается другая, третья. И так далее. Сплошные начала.
– Почему?
– Потому что в жизни всё так. Всё обрывается в начале, в середине, всё начинается и ничего не заканчивается. И у всего один финал, сама понимаешь какой. Всё в жизни всегда недожито, недоделано, недолюблено, недовоплощено. И будут в книге еще рассказы, случаи. Случай может быть законченным. История из жизни, анекдот. В том числе вот этот рассказик, «Слепой кот» называется.
Грошев вкрутил окурок в пепельницу.
И Юна вмяла свой окурок – тщательно, чтобы не было дыма. Показала, что готова слушать.
Грошев начал.
СЛЕПОЙ КОТ
У Веры Матвеевны ослеп кот Максик. Гноились, гноились глаза – и блекнуть стали, выцветать, гаснуть. Вера Матвеевна и промывала их слабым раствором марганцовки, и специальные добавки для кошачьего зрения купила в зоомагазине – ничего не помогло. Понесла к ветеринару, тот осмотрел и сказал, что причин слепоты множество, он выпишет капли, но за успех не ручается.
Вера Матвеевна закапывала эти капли два раза в день, Максик, не понимающий своей пользы, вырывался и царапался. И стал слепнуть катастрофически быстро, будто хотел поскорее избавиться от неприятных процедур.
Ослеп совсем. Тыкался по углам, учился жить втемную. Веру Матвеевну потрясало, что Максик все переносил молча. Была в этом молчании какая-то трагическая безысходность и безнадежность: чего, дескать, мяукать, этим горю не поможешь.
Однажды Вера Матвеевна увидела, как Максик на кухне, встав на задние лапы, нашарил передними край табуретки, неуверенно вскочил на нее, опять привстал, нащупал подоконник и прыгнул на него, как делывал раньше для того, чтобы, потрепетывая ушками и поворачивая голову на каждое новое движение, рассматривать за окном воробьев, голубей и людей.
Он посидел немного и со страшно разочарованным, как показалось Вере Матвеевне, лицом кособоко не спрыгнул даже, а сполз на табуретку, а потом на пол. Сердце Веры Матвеевны захлебнулось от сочувствия.
Надо отбросить ложную жалость, подумала она. Я его и слепого люблю, но ему-то каково? Во двор теперь не выпустишь, с бумажечкой-веревочкой он теперь не поиграет, за мухой не поохотится, в окошко не посмотрит, зачем такая жизнь? Есть и спать? Вот уж воистину животное существование!
Нет, нельзя длить его мучения.
И, проплакав всю ночь, Вера Матвеевна с утра напилась корвалолу и повезла Максика усыплять.
Ветеринар был не тот, что давал таблетки, а молодой, усталый и равнодушный. Это устраивало Веру Матвеевну, она не хотела сочувствия, оно бы ее только еще больше расстроило.
«В тираж, значит?» – спросил ветеринар.
«Да», – коротко сказала Вера Матвеевна, сдерживая себя.
Ветеринар поставил Максика на стол, осмотрел, поглаживая. Кот весь сжался: незнакомые звуки, запахи и прикосновения его пугали. Вера Матвеевна отвернулась и вытерла глаза.
«Зачем же его усыплять?» – вдруг услышала она.
«Как зачем? Животное мучается! Слепые люди живут, но у них всякие занятия находятся. А кошка если не видит, зачем ей жить? Только страдать? Думаете, мне легко? А я так скажу: когда мы увечных животных оставляем мучиться, мы себя жалеем, а не их!»
«Как зовут кота?»
«Максик».
«Вы не Максика жалеете, а как раз себя. Вам на него смотреть тяжело. А он-то спокойно ко всему относится».
«Спокойно? Вы скажете!»
«Неудобства некоторые есть, но он привыкнет. А главное, он считает, что так и должно быть. – Лицо ветеринара ожило, просветлело, даже глаза поголубели, как в юности, когда он только поступил в Тимирязевскую академию и способен был часами вдохновенно говорить любимой девушке о конском сапе и собачьей чумке. – У него ведь нет, как у людей, представления о жизни, он книг о ней не читал, кино не смотрел, опыт чужой не впитывал, понимаете? Для него слепота, можно сказать, естественное дело. Если б он мог думать, то подумал бы, что, значит, до определенной поры кошки видят, а потом перестают. Так, значит, природа устроила! И все, и никаких вопросов. Он безмятежен душой, как и прежде. А вы – умертвить. Поторопились!»
«Значит, он не страдает?»
«Ничуть. Ну, может, побаливало, когда слеп, а сейчас – абсолютно! Его кошачья душа в полном, уверяю вас, равновесии. Ведь у них, – продолжил врач теоретические рассуждения, – нет понятия несчастья. Боль – да, чувствуют. Голод и жажду. А несчастье – не их понятие. Так случилось – так и должно быть!»
«А и правда! – догадалась вдруг Вера Матвеевна. – Дура я старая! Спасибо вам, огромное спасибо!» И взяла Максика в объятия и торопливо понесла к выходу.
У дверей обернулась и спросила:
«А если, допустим, лапку животному отдавит или хвост, если ослепнет, как мой, или оглохнет, то – никакого для него горя нет?»
«Никакого! Особенно если один живет, других не видит. А если видит, то опять же считает: ну, у них четыре лапы, а у меня три, они такие, я такой!»
«Да… – покачала головой Вера Матвеевна. И добавила неожиданное: – Вот бы нам бы! Я не в смысле ослепнуть, а – не расстраиваться!»
Ветеринар даже рассмеялся от этих ее слов.