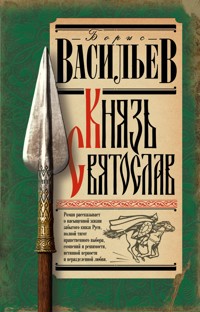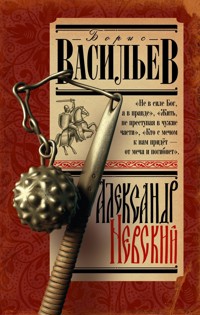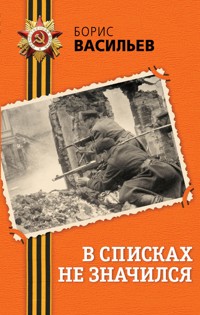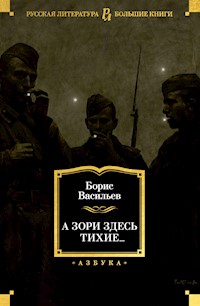Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Азбука-классика
- Sprache: Russisch
Борис Васильев был поистине народным писателем. В Солнечногорск, где он жил уединенно в последние годы, к нему ездили почти как ко Льву Толстому в Ясную Поляну. И сегодня Васильева читают, любят, его слову доверяют. Книги Бориса Васильева повествуют о военных и предвоенных годах, об этических вопросах любви, чувства долга, о естественном ходе бытия... Далеко не каждому автору дано создать что-то подобное по силе, искренности, проникновенности. В настоящий сборник, помимо заглавной повести «Неопалимая купина», вошли повести и рассказы «Самый последний день...», «Пятница», «Ветеран», «Встречный бой», «Летят мои кони...», «Вы чье, старичье?» — ироничные и романтичные, отмеченные свойственной произведениям Бориса Васильева философской глубиной, мужеством и бескомпромиссностью в поисках истины.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Васильев Б.
Неопалимая купина : повести, рассказы / Борис Васильев. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-26129-7
16+
Борис Васильев был поистине народным писателем. В Солнечногорск, где он жил уединенно в последние годы, к нему ездили почти как ко Льву Толстому в Ясную Поляну. И сегодня Васильева читают, любят, его слову доверяют. Книги Бориса Васильева повествуют о военных и предвоенных годах, об этических вопросах любви, чувства долга, о естественном ходе бытия... Далеко не каждому автору дано создать что-то подобное по силе, искренности, проникновенности.
В настоящий сборник, помимо заглавной повести «Неопалимая купина», вошли повести и рассказы «Самый последний день...», «Пятница», «Ветеран», «Встречный бой», «Летят мои кони...», «Вы чье, старичье?» — ироничные и романтичные, отмеченные свойственной произведениям Бориса Васильева философской глубиной, мужеством и бескомпромиссностью в поисках истины.
© Б. Л. Васильев (наследник), 2024
© Оформление.ООО «Издательская Группа«Азбука-Аттикус», 2024Издательство Азбука®
Самый последний день...
1
— Значит, на пенсию решил, Семен Митрофанович? Не желаешь дождаться шинели цвета маренго?
— И в этой ничего. Привык...
Семен Митрофанович Ковалев стеснялся вести разговоры с молодыми сотрудниками. Они и смеялись не так, и курили не этак, и даже форма на них сидела куда уютнее, чем на нем, хотя он форму свою носил аккурат четверть века.
Приказ еще не был подписан, но все уже знали, что младший лейтенант Ковалев, выслужив и по годам, и по здоровью полный государственный пенсион, подал рапорт и загодя отправил семью в деревню. Сделал он это по своей воле и вроде бы ни с того ни с сего, что удивило не только сослуживцев по отделению, но и тех в управлении, кто знал Семена Митрофановича. А знали его многие, и даже сам комиссар товарищ Белоконь здоровался с ним за руку и всегда называл только по имени-отчеству.
Семен Митрофанович аккуратно являлся на службу, дисциплинированно, точно ретивый первогодок, слушал инструктаж и делал, что приказывали. Учитывая возраст и ранения, его давно уже освободили от оперативной работы, а поручали дела тонкие — воспитательные или конфликтные. И Семен Митрофанович не обижался, потому что всякому делу положен свой возраст, и рыпаться тут несолидно. Кроме того, он умел улаживать ссоры, доводить до добрых слез свихнувшихся девиц и был невозмутим во всех случаях жизни.
Даже осложненные взаимным недоверием профилактические беседы с молодежью младший лейтенант Ковалев проводил лучше иных дипломированных специалистов. При всей невозмутимости он никогда не скрывал своих чувств и относился к аудитории не как к поколению в целом, а как к группе, состоящей из вполне конкретных личностей. В соответствии с этим он кого-то уважал, а кого-то любил, кого-то жалел, а кого-то откровенно ненавидел, но таких, к которым он относился бы безразлично, не было, и молодое население микрорайона активно платило ему той же монетой.
— Политически товарищ Ковалев человек девственный, — сказал года два назад начальник отделения комиссару Белоконю — просто пришлось к случаю.
Начальник отделения любил выражаться книжно и иногда позволял себе щегольнуть этим. Однако в тот раз комиссар глянул так странно, что он сразу заторопился:
— Но девственность восполняется большим опытом, товарищ комиссар. Большим опытом и исключительным старанием...
Комиссар по-прежнему смотрел необыкновенно, и начальник сокрушенно примолк. Тогда Белоконь спросил благожелательно:
— На рыбалку не ездили в этом году?
И все книжные наслоения тут же вылетели из головы собеседника. И он воскликнул:
— Во какая!..
Да, в милиции знали про старую дружбу комиссара и Семена Митрофановича, хотя никто никогда не видел их вместе, и младший лейтенант безропотно тянул свою лямку, не прячась за широкую спину начальника управления. Поначалу сам вызвался в оперативную группу: вязал бандитов, преследовал воров и за пять лет к четырем фронтовым ранениям приплюсовал еще четыре. Последнее было особенно тяжелым: пуля пробила легкое. В госпиталь часто наведывался капитан Орлов — зам по оперработе. Приносил яблоки да баранки, а перед выпиской сказал:
— Отдохнуть требуется, Семен Митрофанович. Путевку мы обеспечили, а кроме путевки, положен тебе еще месяц. Так, может, тебе в Москву с Кавказа не возвращаться? Может, прямо к своим, в деревню?
— Да нет, вернуться придется, товарищ капитан, — как всегда, тихо и чуть виновато ответил Ковалев. — Своих-то у меня нет. И пункта рождения тоже нету.
— Как так нету?
— А через него аккурат фронт семь месяцев проходил, товарищ капитан. Так что там и труб не осталось. То есть совсем ничего: просто пустырь с бурьяном, вот ведь какой факт получается.
— А родные?
— В наличии не имеется.
Капитан Орлов был упрям и, промолчав в этот раз, в день отъезда подчиненного на курорт сунул, не глядя, адрес:
— К моим поедешь. Под Новгород.
Семен Митрофанович поехал: зачем же обижать хорошего человека? Местность ему понравилась. С войны здесь все задичало, и на семь сел приходилось полтора мужика. Ковалев охотно чинил старые ходики, менял рамы, перекрывал крыши, подпирал скособоченные избы, делал все, что просили, с удовольствием выпивал стаканчик, но от второго решительно отказывался, потому что очень боялся заночевать в лично отремонтированном хозяйстве. Сделав много доброго, он так никого и не осчастливил, что гордые новгородки объясняли исключительно последствиями ранения. В следующий отпуск Ковалев опять поехал под Новгород и вдруг довел до полного онемения все местное общество, взяв за себя немолодую солдатку с тремя сопливыми сиротами в придачу.
— Ты что, Ковалев, трехнулся? — деликатно спросил лихой капитан Орлов. — Да за тебя любая двадцатилетняя — толечко пальцем помани!..
— Двадцатилетняя — она и без меня не пропадет, товарищ капитан, а тут — детишки. Младшие-то конфет в обертках сроду не видали, вот ведь какой факт получается.
В каких обертках он сам показывал конфеты усыновленным детям, неизвестно, но вздыхать не вздыхал, и настроение у него вроде не портилось. С комнатой ему помогли, жена уборщицей в интернат пошла, а там — потихонечку да полегонечку — и дети подрастать стали. Теперь их, правда, пятеро уже было.
И вот нежданно-негаданно младший лейтенант Ковалев решил оставить службу. Сдал рапорт положенным порядком и, пока двигался этот рапорт из кабинета в кабинет, продолжал служить старательно и усердно. И помалкивал. И начальство тоже помалкивало.
2
В тот день он явился на службу, как всегда, за четверть часа до положенного срока. Доложил дежурному, расписался в книге и, тоже как всегда, пристроился покурить с ребятами из ночной смены. Не просто покурить — разведать новости. И не новости вообще — этого добра он за четверть века в милиции наслушался, навидался и наглотался, — а того лишь, что его касалось. Его участка. Подшефного.
Это были четыре квартала — добрый кусок современных пятиэтажек, несколько чудом уцелевших деревяшек да два раскоряченных несуразных семиэтажных дворца, сооруженных в эпоху архитектурных излишеств. Теперь излишества эти обветшали и уже сыпались на голову, из-за чего над вторыми этажами пришлось соорудить грубую рабочую сеть.
Казалось бы, все было в порядке, но Семен Митрофанович домов этих все-таки не любил. Понимал, что поступает не по справедливости, сердился на себя — и не любил. Сердцу не прикажешь, даже если сердце это бьется под милицейским мундиром.
Поэтому и выспрашивал о них всегда особо дотошно:
— Из девятого дома звонков не было? Насчет магнитофонов там, шумов всяких?
— Нет. Из твоих, Митрофаныч, только один Кукушкин набедокурил: напился, шумел.
— Кукушкин из третьего «Б»? Слесарь-водопроводчик?
— Он самый.
Младший лейтенант достал толстую записную книжку и только успел записать про Кукушкина, как дежурный крикнул:
— Митрофаныч! Начальник просит. Давай на третьей скорости!..
Начальник отделения зимой и летом ходил в темных заграничных очках, и Ковалев не любил с ним разговаривать. Да и как можно любить разговор, когда неизвестно, в какую сторону косится твой собеседник?
— Финиширует ваша служба, товарищ младший лейтенант, — сказал начальник, после того как они поздоровались и самую чуть потолковали о здоровье. И вздохнул: — Как говорится, финита ля... — Что следовало за этим «ля», начальник произнести не решился и переменил разговор: — Никаких нераскрытых или там незакрытых за вами не числится?
— Никак нет.
— Тогда могу доложить, что наступает у вас последний парад. — При этих словах начальник решил встать, и Ковалев в беспокойстве оглянулся, поскольку никак не мог понять, куда в данный момент смотрит его начальник. Но начальник, как видно, смотрел прямо на него. — Товарищ комиссар Белоконь просит вас, товарищ младший лейтенант, прибыть к нему в десять часов ноль минут по известному вам рапорту...
Они еще маленько поговорили о разных вещах — для вежливости, — и начальник отпустил его, пожав на прощание руку и приказав выделить в распоряжение младшего лейтенанта служебную машину.
Все, казалось бы, уже оставалось за кормой, уже начало отплывать, растворяясь в прошлом, но Ковалев не мог сесть вот так, запросто, в служебную «Волгу» и сказать шоферу: «В управление!» Не мог, потому что, несмотря на слова начальника о последнем параде, все еще продолжал служить, каждой клеточкой ощущая себя частицей огромного и очень ответственного аппарата. И поэтому от начальника он прямехонько потопал к дежурному, которому и доложил, что откомандирован в управление для беседы с товарищем комиссаром.
— На «Волге» обязательно хочешь ехать? — спросил дежурный.
— Нет, не обязательно, — сказал старшина. — Все равно.
— А все равно, так будь другом, отконвоируй задержанную. Ребята, понимаешь, все в отпуске: лето...
Задержанной оказалась худая, как воробьиха, девчонка лет двадцати с крохотными сережками-слезками в маленьких ушах. На грязном — в пятнах помады, потеках туши и грима — лице свежели яркие пятна синяков и злые, неукротимые глазищи. Короткое ситцевое платье было заляпано грязью, в двух местах разорвано: при движении сверкало загорелое тело и наивные розовые трусики.
— В парке нашли, — тихо сказал дежурный. — Били ее трое, а кто — молчит.
— Может, не знает?
— Знает! — отрезал дежурный. — Знает, кто бил и за что, раз на помощь не звала. Наши ведь случайно на них напоролись, и она же первая заорала: «Валера, беги!»
— Задержали кого?
— Нет. Кусты, темень, а тут эта чертовка визжит и кусается. Но обрати внимание: трое, и среди них Валера.
— Это насчет...
— Да, да, ограбление пенсионеров Веткиных. Помнишь, что тогда взяли? Ерунду всякую, мелочь, а бухарский ковер, которому цена пол-«москвича», не тронули. Почему?
— Тяжело с ковром-то...
— Правильно, Ковалев. А это значит: транспорта у них не было. А женщина, которая той ночью встретила троих с чемоданами, показала, что одного из них другие называли Валерой.
— Ага!..
— Вот потому-то мы за эту девчонку и держимся, — сказал дежурный так, будто лично вел следствие. — Это она еще с ночи психованная, а успокоится — колоться начнет, что полешко...
В связи с таким поручением младший лейтенант Ковалев отбыл на свидание с комиссаром Белоконем в душном кузове зарешеченного газика. Влез он в него, когда задержанная уже сидела возле передней решетки, вцепившись в переплет худыми пальцами с обломанными ногтями. Она искоса, мельком глянула на него и отвернулась, быстро поправив изорванное платьице, чтоб не сверкали трусики. Как ни запрятано было это ее непроизвольное движение, Ковалев отметил его, а отметив, решил непременно доложить об этом следователю: девчонка, которая стесняется старого милиционера, совсем не такая уж распущенная и бывалая, какой изо всех сил старается казаться.
— Ну, с этой не заскучаешь! — подмигнул шофер, закрывая за ними дверцу согласно инструкции.
Как положено, младший лейтенант сел сзади, у выхода, где всегда трясло и швыряло. Поэтому он сразу, пока машина еще стояла, поторопился закурить и, прикуривая, опять заметил яростный карий глаз. Протянул пачку:
— Хочешь?
Она живо глянула и рассмеялась:
— «Прибойчиком» угощаете? Тронута, сдвинута, почти опрокинута!..
Ковалев нисколько не обиделся: испуганный щенок и хозяина кусает. Спросил заинтересованно:
— Сигареток достать?
Машина еще стояла: шофер балагурил с ребятами, что расходились на посты и объекты. Младший лейтенант застучал, загрохал ногами. Шофер сразу же открыл, вытаращился:
— Ты чего?
Семен Митрофанович рубль протянул — мог бы, конечно, и мелочь, да не знал, почем нынче сигаретки для девчат.
— Сигареток купи пачку.
— Сигареток? — Шофер похлопал глазами. — Каких сигареток?
— «Советский Союз»! — крикнула из угла девчонка. — Я патриотка!..
Шофер обернулся на удивление быстро: видно, и его заинтересовала неукротимая пассажирка. Сунул сигареты и сдачу, шепнул:
— Сорок копеечек, между прочим...
Опять с лязгом закрыл дверь. Семен Митрофанович аккуратно спрятал мелочь в кошелек, протянул сигареты задержанной.
— Не по карману куришь.
— А почему же не курить, если угощают? — спросила девчонка, прикуривая. — Вон даже милиция... не удержалась.
Газик тронулся, и, пока шофер неторопливо выруливал на магистральную улицу мимо бесконечных новостроек, младший лейтенант откровенно разглядывал девицу. Разглядывал растрепанные, много раз перекрашенные волосы, дешевенькое платьице, худые, исцарапанные руки, беззащитные плечи, неожиданно элегантные туфельки последней моды. Разглядывал неторопливо, основательно — и думал.
Он умел разговаривать с молодежью не потому, что сообщал что-то новое, и не потому, что никогда не повторял общеизвестного. Умение его, которому поражались даже в управлении, держалось на том, что Ковалев каким-то чудом всегда угадывал, что за человек сидел перед ним. И начинал не беседу вообще, не лекцию, а конкретный и неповторимый разговор, который касался только их двоих. И поэтому сейчас, разглядывая эту худую, некормленую и неухоженную, болезненно напряженную девочку, он думал о том, что довело ее до этого, какая у нее может быть семья и почему девочка из семьи этой убежала.
— Отец-то давно вас бросил?
По тому, как дернулась девочка, он понял, что попал в точку. Ниточка была в его руках, но, чтобы не оборвать ее, следовало медленно, неторопливо распутать весь клубок. Главное было удивить, и это получилось.
— А у меня он полковник. Летчик-истребитель, — с вызовом сказала она. — Он за каждый полет больше получает, чем вы за три месяца.
— Возможно, — миролюбиво согласился Ковалев. — Только сволочь он, летчик твой, раз маме не дает ни копейки.
Девочка вдруг резко повернулась к нему, странно и зло ощерившись и сразу став болезненно некрасивой:
— Врете вы все! Думаете, не понимаю, откуда знаете, да? Вы милиция, вы уж всех допросили! Всех!..
Он молчал, дружелюбно и серьезно глядя на нее. Задержанная, выкричавшись, сразу смолкла и снова ухватилась за сигарету. Семен Митрофанович не торопился с разговором, оставляя продолжение за нею, потому что дорожил он пока не словами, а интонацией. И еще он знал твердо, что долго она не умолчит.
— Мама... — с непонятным ожесточением сказала вдруг девчонка. — Мама, мамочка...
И опять замолчала, яростно затягиваясь. И младший лейтенант промолчал.
— Думаете, легко девчонкам, которые без отцов? — не глядя, тихо спросила она. — Ну, может, у которых матери — мамы, тем еще ничего, а другим... — Она опять помолчала. — Знаете, сколько нам на производстве платят? Нам, у которых специальности никакой нет? Только-только на еду да на дорогу и хватает. Но ведь и одеться модно тоже хочется. А у вас на всех один разговор...
— Нет, — сказал Семен Митрофанович. — Нет у нас такого разговора. Обманули тебя.
— А везете куда?
— В управление. Положено так.
Он глядел на ее туфельки: она все двигала ими, под лавку запихивала, прятала. Не случайно, ой не случайно, а раз так, то должен в голове ее вертеться один вопрос. И он все время ждал этого вопроса. И дождался.
— Посадят меня?
— Нет, — как можно простодушнее сказал он. — Навряд ли. Туфли, может, и отберут...
Не удивилась, почему туфли отберут. Совсем не удивилась, только вздохнула:
— Что же мне, босиком по городу идти?
— Зачем же брала? Знала ведь, что ворованное...
— Не хотела я брать их. Как чувствовала...
— За это били?
— Нет... — Она вдруг странно поглядела на него, криво усмехнулась. — Влезли в душу и ворочаетесь? И вы такая же сволочь, как все...
И отвернулась. Младший лейтенант закурил новую папиросу и опять терпеливо стал ожидать вопросов. Обычно, правда, он сам вопросы задавал, разговор направляя, но сегодня любая его неточность могла вновь захлопнуть ее чуть приоткрывшееся сердечко, и поэтому Семен Митрофанович предпочитал не спешить.
— А что, пистолеты у вас настоящие или так, для форсу кобуры носите? — вдруг, не глядя, спросила она.
— Самые настоящие, — сказал Ковалев и для достоверности похлопал по пустой кобуре. — Мы без оружия ни на шаг.
— Почему? — Девочка оглянулась.
Ему очень хотелось, чтобы она заулыбалась, и, увидев в глазах ее слабые искорки, он обрадовался:
— Боимся! Страх у нас такой...
— Врете вы все! — Она все-таки улыбнулась и тут же, словно испугавшись, спрятала улыбку.
Машина остановилась, шофер знакомо посигналил, и младший лейтенант догадался, что прибыли и что сейчас после проверки въедут во внутренний двор управления. И впервые за всю службу пожалел, что знакомый путь оказался вдруг таким коротким.
3
В пустых и гулких коридорах управления девочка вздернула голову, вызывающе зацокала каблуками и стала еще больше похожа на воробьиху. Ковалев, поглядывая на нее, все сдерживал улыбку: казалось, девчонка вот-вот суетливо и неунывающе зачирикает, заскачет и взлетит к потолку...
Возле кабинета следователя Хорольского младший лейтенант остановился. Усадил задержанную на стул у двери, погрозил пальцем, чтоб слушалась, одернул тужурку и только после этого постучал. Там что-то крикнули, Семен Митрофанович открыл дверь и спросил:
— Разрешите?
— Что еще?.. — Следователь был молод и поэтому всегда хмур: ему казалось, что так он выглядит солиднее.
Ковалев вошел в кабинет, притворил за собою дверь, отрапортовал, с чем прибыл, и отдал пакет. Хорольский, не глядя на него, разорвал пакет: там лежал заводской пропуск и сопроводительная. Хмурясь, следователь долго читал сопроводительную, а младший лейтенант все так же дисциплинированно стоял у стола.
— Где арестованная?
— Задержанная, — тихо поправил Семен Митрофанович. — Она там, в коридорчике ждет. Я что хотел сказать, товарищ следователь, я хотел сказать, что надо бы ее отпустить. Она сверху только злая, и если к ней по-доброму, так она сама же придет потом и все расскажет, вот ведь какой факт получается. И еще: насчет работы. Может, с комсомолом связаться, чтоб над нею шефство...
— Давайте без советов, а? — недовольно сказал следователь. — Ваше дело — арестованную доставить и расписку получить. Ясно?
— Так точно. Только, похоже, запуталась девушка...
— Введите арестованную.
— Я хотел...
— Введите арестованную!..
Ковалев молча вышел, старательно пряча глаза от девочки. А та все ловила и ловила его взгляд, тиская в руках сигареты и спички. За дверью опять что-то прорычали, и Семен Митрофанович так и не успел ничего сказать. Просто приоткрыл дверь и махнул рукой, приглашая в кабинет.
И вошел следом. Следователь, не глядя, писал что-то за столом, и поэтому Ковалев, кашлянув, рискнул-таки на продолжение очень неприятного для себя разговора:
— Разрешите потом соображения доложить...
— Получите расписку, — не поднимая головы, сказал Хорольский.
Младший лейтенант протопал к столу, взял рваный конверт с подписью следователя, уголком глаза заметил суетящиеся по изодранному платью худые пальцы с обломанными ногтями, сказал негромко:
— Вы все-таки разрешите...
— У меня все, — с явным раздражением прокричал следователь. — Можете идти.
Выйдя из кабинета и тихо притворив за собою дверь, Семен Митрофанович был вынужден сразу же присесть на тот самый стул, где только что сидела девочка. Сердце его вдруг сжало, точно в горячих тисках, а в глазах поплыли неторопливые и веселые цветные шары.
«Молодой еще, — расстроенно подумал он. — Ах, молодой, ах, горячий: напугает девчонку, озлобит...»
А сердце щемило, и воздух никак не хотел пролезать в легкие, как ни пытался Ковалев вздыхать. Но он все время думал об этой девочке, и тревожился, и поэтому отсиживаться не стал, а боковым коридором вышел к парадной лестнице. Тут он маленько пришел в себя и стал неторопливо подниматься на второй этаж, здороваясь почти с каждым встречным, потому что народу здесь было не в пример больше, чем в тех закоулках, которыми он вел девчонку к следователю. Поднявшись по лестнице, он прошел небольшой коридор, застланный толстой дорожкой, и приоткрыл тяжелые резные двери:
— Можно, Вера Николаевна?
— Семен Митрофанович? Здравствуйте, дорогой!..
В комнате этой, едва ли не единственной в управлении, никто никогда не курил — даже сам комиссар Белоконь. Не потому, что здесь хранились бочки с порохом, коробки с кинопленкой или лежали дышащие на ладан сердечники, а потому, что здесь работала Вера Николаевна.
— Сергей Петрович ждет вас.
— Один там?
— У него полковник Орлов. Да вы проходите, Семен...
— Нет-нет, Вера Николаевна. — Ковалев упрямо затряс головой. — Нет. Зачем же? Я обожду.
Когда-то он служил под началом лихого, безрассудно смелого капитана Орлова. Но время шло, и за двадцать лет капитан вырос до полковника, а он — до младшего лейтенанта. Каждому — своя песня: он на это не сетовал. Но входить, когда старшие работают, не мог. Позволить себе не мог.
— Вы к окошку садитесь, — вдруг тихо сказала Вера Николаевна и поставила стул у раскрытого окна. — Что, Семен Митрофанович, сердце?
— Не могу сказать. — Он пересел к окну и виновато улыбнулся. — Раньше как-то не чувствовал такого факта.
Вера Николаевна порылась в сумочке и достала белую лепешку.
— Положите под язык.
— А что это?
— Конфетка мятная. Ну?
— Спасибо, — сказал Ковалев, сунув валидол в рот и причмокивая. — Холодит.
Из-за бесшумной двери вышел Орлов с кожаной папкой в руке. Он мельком глянул на коренастого младшего лейтенанта в тужурке из грубого сукна и вдруг заулыбался, отчего его сосредоточенное лицо сразу стало домашним.
— Митрофаныч!.. — Орлов шагнул к поспешно вставшему Ковалеву, руками надавил на погоны. — Сиди, сиди. Хорошо, что я тебя встретил...
Вера Николаевна, привычно поправив прическу, прошла в кабинет. Орлов присел перед Ковалевым на подоконник, сказал таинственно:
— Хочешь со мной работать?
— Да я же рапорт, товарищ полковник...
— Знаю. Знаю, потому и предлагаю: с Сергеем Петровичем согласовано.
— Ну какой из меня теперь оперативник? — усмехнулся Семен Митрофанович. — Года уж...
— А я не оперативником, я воспитателем хочу тебя назначить. На курсах оперработников.
Ковалев улыбнулся, покачал седой, коротко стриженной головой.
— Добрый вы человек, товарищ полковник. Спасибо вам, конечно, большое, только образование-то у меня — семь классов до войны.
— Да ведь не в преподаватели, а в воспитатели, — несокрушимо улыбался Орлов. — Должность я такую хочу прошибить: воспитатель. Чтоб не только самбо да боксу учить, а слову доброму. Слово — оно ведь посильнее любого приемчика, верно?
Ковалев ответить не успел, так как из кабинета вышла Вера Николаевна и негромко сказала:
— Вас просят, Семен Митрофанович.
Комиссар Белоконь собирал шариковые ручки. Он скупал их в магазинах, получал бандеролями, привозил из командировок и канючил у знакомых. Коллекция занимала дома два шкафа, но поскольку подросшие внуки стали проявлять к ней чисто практический интерес, Сергей Петрович наиболее ценные образцы держал в служебном кабинете. Весь огромный комиссарский стол был завален этими ручками — пластмассовыми и металлическими, круглыми и гранеными, многостержневыми, цветными, с секретами, с фривольными фотографиями, с особой мастикой. Но гордостью коллекции была очень простая и очень элегантная ручка, привезенная Белоконем из Парижа; когда комиссар был в хорошем настроении, он подписывал бумаги именно этой ручкой. Полковник Орлов серьезно уверял, что ее подарил комиссару Белоконю сам комиссар Мегрэ: молодежь верила, немея от восхищения.
— Здравия желаю, товарищ комиссар, — сказал Ковалев. И добавил: — Прибыл по вашему приказанию.
А комиссар играл знаменитой ручкой, глядел на него и улыбался. Но Семен Митрофанович улыбаться в ответ не стал, а, наоборот, нахмурился.
— Что-то ты, брат, грозен сегодня, — сказал Сергей Петрович. — Уж больно ты грозен, как я погляжу! Ну, улыбнись, Семен Митрофанович!..
— Разрешите доложить, товарищ комиссар, — с неприступной серьезностью продолжал младший лейтенант. — Может плохо произойти, если не доложить.
— Ну давай, — с неудовольствием вздохнул Белоконь.
Ковалев доложил. Комиссар выслушал, нажал клавишу селектора:
— Следователя Хорольского срочно ко мне. С делом... — Он вопросительно посмотрел на Ковалева.
— Об ограблении супругов Веткиных.
— ...об ограблении супругов Веткиных. — Комиссар отпустил клавишу. — Садись, Семен Митрофанович. Закуривай.
— Нет, разрешите выйти, товарищ комиссар. Вы его при мне песочить будете, а это — нарушение...
— Садись!.. — нахмурился Белоконь. — Мне про этого Хорольского не ты первый докладываешь. Спесив да ретив, а толку пока — нуль.
Семен Митрофанович покорно вздохнул, но постарался устроиться в наиболее темном углу кабинета. Докладывая начальнику, он ни единым словом не обмолвился о грубости следователя, и все же ему было очень неприятно. Как тут ни крути, а выходило, что клепал он на сослуживца, используя личную симпатию высокого начальства, а это было совсем не по-мужски. И если бы не девочка та, не воробьиха, не взгляд ее, которым проводила она его, никогда бы Ковалев и полсловечка при начальстве не уронил. А тут не мог. Права не имел воробьиху эту забыть, крест на ней поставить. И не таких судьба общипывала до самого последнего перышка, и не помочь человеку при этом было просто невозможно. И плевать ему, в конце концов, что про него станет следователь по всем коридорам возить: он девочку сейчас защищал, а это поважнее закоулочных кривотолков...
Но все ж таки сел он так, чтобы Хорольский, в кабинет войдя, его не заметил. Вот, может, потому-то следователь быстренько все комиссару доложил, пока тот дело листал, ловко доложил и даже улыбнулся:
— Там у меня, товарищ комиссар, зацепочка сидит. Важная зацепочка: если нажать как следует — вся поколется. И кто ее бил, скажет, и за что, и где вещички, что у Веткиных взяли, тоже, возможно, скажет.
— А чем же зацепочка эта зацеплена? — спросил Белоконь.
Знал Семен Митрофанович начальника, давно знал, а удивился: до того миролюбиво, спокойно прозвучал вопрос. И сам комиссар, внимательно читающий каждую строчку тощего дела, тоже выглядел сейчас этаким добродушным грибком-пенсионером. Хорольский сразу приободрился, потыкал в страницы пальцем:
— Валера — обратите внимание — здесь. И Валера — здесь тоже.
— Поразительно! — сказал начальник. — Пока я читаю, позвоните, пожалуйста, в справочную и попросите девушек подсчитать, сколько в нашем городе Валер.
— Валер?..
— Да-да. Зацепочек...
Комиссар снова ссутулился над листами, старательно разбирая строчки.
Хорольский, осторожно прокашлявшись, набрал-таки справочную. Его долго футболили там, в справочной, от стола к столу, он тихо оправдывался, настаивал, умолял, но в тоне его уже не было ни презрительного невнимания, ни иронической покровительственности.
«Во учит! — с уважением подумал о комиссаре Ковалев. — Мозги вправляет — будь здоров!..»
А комиссар Белоконь невозмутимо изучал дело. И, поглядывая на него, Хорольский страдал и мучился:
— Ну почему же невозможно? Ну я прошу вас. Лично прошу... По каким признакам? Ну хоть от шестнадцати до двадцати шести лет пока... Ну хоть приблизительно...
Начальник закрыл папку и забарабанил по ней пальцами. Потом снял очки, долго тер усталые глаза.
— Ну, как там зацепочка?
— Сейчас. — Хорольский напряженно слушал, что ему бубнят с другого конца провода. — В общих чертах, конечно... Сколько?.. — И тихо положил трубку.
— Так сколько же «в общих чертах»?
— Что-то там... за двадцать тысяч...
— Прекрасно, — сказал комиссар. — Вот и займитесь: как раз к пенсии и закончите. Если вас с работы не попрут.
— Товарищ комиссар, я полагал бы...
— Полагать буду я. — В голосе Белоконя прозвучало такое стылое железо, что младший лейтенант на всякий случай съежился. — А вы со всей прытью, присущей вам, вернетесь в свой кабинет и от имени милиции принесете девушке извинения. Затем лично проводите ее до выхода из управления, еще раз попросите прощения и улыбнетесь, как заслуженный артист. Понятно?
Хорольский угнетенно кивнул.
— Исполнив это, пройдете к начальнику следственной части и доложите ему, что я приказал не допускать вас до самостоятельной работы вплоть до моего особого распоряжения.
— Товарищ комиссар...
— Может быть, это научит вас ценить советы старших, Хорольский. Идите.
— Есть... — трагическим шепотом сказал Хорольский.
Тут он повернулся и глаз в глаз столкнулся с младшим лейтенантом. Замер, а потом, усмехнувшись, вскинул голову и так и вышел, заставив Ковалева сокрушенно вздохнуть.
— Чего пыхтишь? — недовольно спросил Белоконь. — Сделал доброе дело и стесняешься?
— Наклепал, получается.
— Наклепал?.. А я-то думал, ты слабого защитил и тем самым исполнил свой служебный долг. Эх, Семен Митрофанович, товарищ младший лейтенант, не тем твоя дурь мучается. Двадцать лет прошло, как мы с тобой в милиции служим, дети уж внуков мне надарили, а ты у меня дома так ни разу и не был. Не посетил. А почему? А у тебя на все один ответ: «Не положено». Сделаешь доброе дело и больше всего на свете боишься, что тебе за него спасибо скажут. Так, Семен Митрофанович?
Ковалев не ответил. Он пересел поближе к комиссарскому столу, заставленному ручками, и о чем-то старательно думал. Комиссар улыбнулся ему и достал из папки приказ.
— Уходит в бессрочный отпуск младший лейтенант Ковалев Семен Митрофанович. Очередной «дядя Яша» — бабьем руганный, шпаной битый, бандитами стрелянный — покидает пост. Проводы тебе надо бы устроить, а, товарищ младший лейтенант? Торжественные проводы с пионерами в красных галстуках...
— Я вот чего думаю, товарищ комиссар, — перебил Семен Митрофанович вдохновенную речь начальника. — Я думаю, что по справедливости за оскорбление женщины надо бы вдвое, а?.. Или нет, не вдвое даже — впятеро. Обругал женщину плохими словами — три года. Ударил — пять, а то и все десять строгого режима. Потому что, товарищ комиссар, девушку обидеть просто, это как игрушку сломать. А как ей потом, сломанной-то, детишек собственных воспитывать? Как в глаза им глядеть, когда об ее собственную гордость сволота грязная ноги вытерла? Согнуть легко, а распрямиться как? Как ей распрямиться потом, если согнули? Нет, товарищ комиссар, не одинаковые мы с женщинами, и поэтому кодекс надо менять. Надо про охрану женщин, а особо девушек и гордости ихней, отдельные статьи ввести. И поначалу, пока не привыкли, построже! И потом... — Семен Митрофанович вздохнул. — О скидке, может, подумать?
— Какой скидке?
— Ну, чтоб девушкам, которые на производстве хорошо работают, было бы облегчение. Скажем, раз в год сапожки на меху по казенной цене. Или там пальтишко какое. Ведь не обеднеем же мы от этого, ведь богатая же у нас страна, и можем мы красоту свою одевать достойно жизни...
Комиссар улыбался уже от уха до уха, и Ковалев, наткнувшись вдруг на эту улыбку, замолчал и застеснялся.
— Ликург, — сказал Белоконь. — Тебя бы в Верховный Совет.
— А все равно так будет. Не может быть, чтобы так не было.
— Наверно, будет, — вздохнул комиссар. — Кто ее знает, что завтра-то будет. А вот сегодня... Сегодня мне приказ о твоей отставке подписывать, Семен Митрофанович. Если, конечно, ты не передумал за это время.
— Нет, не передумал, товарищ комиссар. Семью уж в деревню отправил, уж сыновья ждут там. И внученька.
— Стало быть, подписывать?
— Подписывайте.
— А ко мне домой зайдешь?
— Зайду, — серьезно пообещал Ковалев. — Как только служить перестану, так и зайду. Как только прикажете.
— Завтра, — сказал комиссар. — Даю тебе денек на закругление всех дел, а с ноля часов ты, Семен Митрофанович, человек вольный. И поэтому жду я тебя у себя дома завтра к девятнадцати часам. Выпьем?
— Выпьем.
— Молодость вспомним?
— Вспомним, товарищ комиссар.
— И бой на Соловьевой переправе в августе сорок первого тоже вспомним... Хотя про это рассказывать мы не будем. Про это, Семен Митрофанович, у меня в доме все знают. Наизусть. — Комиссар взял знаменитую ручку, осмотрел ее, прицелился и еще раз спросил: — Так подписывать?
— Подписывайте, товарищ комиссар.
— Рука свинцом наливается, Сеня, веришь? — вздохнул комиссар. — Словно моя собственная половинка на пенсию уходит...
И размашисто расписался...
4
Назад Семен Митрофанович возвращался городским транспортом: сперва трамваем, а потом пять остановок автобусом. Транспорт этот ходил плохо, а очередей граждане не соблюдали и кидались все скопом. Этого младший лейтенант не любил, но особо на людей не сердился: сердиться надо было на транспорт. Но за передней дверцей следил ретиво: подсаживал бабок да мамаш, помогал инвалидам и решительно гнал тех, кто поздоровее. И сам правом своим — правом входа с передней площадки — никогда не пользовался. Силенка еще имелась, а за бока не боялся: с народом потолкаться никому не обидно. Наоборот даже: приглядеть можно было, чтоб не выражался никто, чтоб женщин не обижали, чтоб какой-нибудь патлатый на инвалидном месте не развалился. За этим он всегда особо смотрел.
Вот так час с лишком потолкавшись в трамвае да автобусе, он и прибыл в собственное отделение. Доложил, как положено, что приказ завтрашним днем оформлен, и получил эти последние сутки службы своей в личное распоряжение для закругления дел.
— Акт прощания завтра организуем, — сказал начальник. — Прощание, Семен Митрофанович, — итог службы вашей. Венец, можно сказать...
Насчет венца Ковалев не очень понял, поскольку речь для него шла все-таки об уходе на пенсию, а не о свадьбе. Но начальник был человек образованный и, значит, знал, что говорил.
В курилке, а от начальства он сразу в курилку подался, никого не было: то ли ребята на задания разошлись, то ли на обед. Но Семену Митрофановичу это даже понравилось: он неспешно закурил и достал распухшую от записей, вкладок и справочек записную книжку.
Многое в этой книжке хранилось: жизнь его четырех кварталов. Не та жизнь, которую каждый напоказ выставляет, не витринная — нутряная. Жизнь дворов и подъездов, лестничных клеток и общих коридоров, осенних вечеров и весенних ночей. Нет, не ошибки людей фиксировал младший лейтенант в своей книжечке, не оговорки их, не досадные оплошности — он доброе в них искал. В самом отпетом пропойце, в каждой свихнувшейся потаскушке он искал тот кремешок, из которого можно было бы вышибить искру. И если находил, радовался безмерно и уважал тогда этого человека. А уважая, не жалел: вышибал искру...
Книжечку эту с бесценным ее содержимым он намеревался Степешко передать. Степану Даниловичу Степешко, старшему лейтенанту, который принимал от Семена Митрофановича его разностильные кварталы. Данилыч был солиден, нетороплив, хотя и молод: только-только за тридцать перевалило. Вот эти три обстоятельства да еще старательно скрываемая Степешко доброта и решили выбор младшего лейтенанта Ковалева. Долго он к Данилычу присматривался, а раскусив, пошел к начальнику и попросил разрешения передать участок в степешковские руки: «Серьезный человек».
Потом он неторопливо водил Степана Даниловича из квартиры в квартиру: знакомил. Знал, с кем пошутить можно, а на кого бровью шевельнуть, где чайку попить, а где и отказаться:
— Права не имеем. На посту находимся; извините, конечно...
Месяц ходили, пока Степешко со всеми не перезнакомился. Хорошо он знакомился, уважительно, себя не теряя. Но Ковалеву особо то понравилось, что Данилыч свою тетрадку завел. Что он там в ней писал, неизвестно, но раз писал, значит примечал, значит положил глаз на эти квартальчики, значит не сиротами они останутся после ухода Ковалева. А это очень важно, когда после тебя не пустое место остается, не бабьи ахи да воспоминания, а дело, тобою начатое. Очень это важно для совести и спокойствия души.
Об одном жалел Ковалев: нельзя было сегодня кварталы те Степану Данилычу передать. В госпитале лежал Данилыч: неделю назад компанию пьяную просил разойтись подобру-поздорову. Тихо просил, спокойно, а очнулся в госпитале: бутылкой сзади ударили. Так просто ударили — и все. Для смеха.
Но госпиталь Семен Митрофанович на завтра планировал. Навестить товарища, доложить, что в кварталах слышно, и книжечку передать. Для изучения. А уж потом, после этого последнего служебного дела, затянуться в мундир потуже и первый раз в жизни прийти в гости к товарищу комиссару Белоконю. Впервые за тридцать лет дружбы...
А сегодня следовало последний обход по кварталам сделать. Выборочно, конечно: с кем — попрощаться, кого — предостеречь, кому — погрозить маленько. Грозить тоже приходится, чего уж. На то у милиции и права, и власть, и авторитет, и сила. И пока младший лейтенант Ковалев не стал просто гражданином Ковалевым, он этот авторитет, власть эту и силу в своем лице повсеместно представлял. Всегда помнил об этом и гордился.
И сейчас, сидя в курилке, он книжку свою в который уж раз перечитывал, припоминал и выводы делал. И помечал, к кому когда зайти следует и в какой последовательности...
«17 февраля. У дома № 16 группа: Самсонов Олег, Нестеренко Владимир, Кульков Виталий и двое неизвестных наносили оскорбление словом гражданке Тане Фролкиной и бросались в нее снежками.
Проверить: почему Таня смолчала».
«18 февраля. Мать говорит: Таня два раза не ночевала дома, три раза приезжала на такси и — выпивши. Кто-то купил ей сумочку и платок. Потому тогда и смолчала: значит, стыд».
«23 февраля. Проведена беседа с гр. Таней. В праздник Советской армии напомнил ей о покойном отце, геройски умершем от фронтовых ран. Заплакала хорошими слезами...»
Нет, к Тане можно было не ходить: Таня вышла замуж, Таня счастлива, Таня девочку родила. А где человек счастлив, там милиции делать нечего...
«Кульков Виталий выпивает после работы, а в субботу так напивается непременно. Мать влияния не имеет, а бывший отец проживает в гор. Борисове.
7 марта. Имел беседу о гр. Кулькове Виталии в райвоенкомате. Отнеслись со вниманием...»
В армии гражданин Кульков Виталий. И матери пишет регулярно.
«Гр. Кукушкин, водопроводчик. Пьет и в нетрезвом виде бьет жену. Жена, несмотря что женщина крупная, от побоев первого родила мертвенького, а второй — мальчик с нервами и детей дичится: видно, стесняется за отца...»
Вот Кукушкиных проведать придется: опять вчера шумел. Придется потолковать по душам, прощупать, вышибить искру: Степешко легче работать будет...
И так — листик за листиком — продумал он весь свой талмудик. Каждую запись прочитал как бы наново и за каждой такой записью увидел вполне конкретное лицо со своим взглядом и норовом, со своим говорком и со своими родимыми пятнышками...
Но до обхода этого прощального Семен Митрофанович все же плотно пообедал. Человек он был дальновидный и понимал, что одним чайком сегодня может не обойтись. Ну а по сытому состоянию и от чарки легче отказываться, и опять же не так она, чарка эта, воздействует, если отказаться все же не удастся. Исходя из этого младший лейтенант купил в гастрономе две пачки пельменей и пошел домой.
Квартира у него была двухкомнатная — тесновато, конечно, для семерых-то, что и говорить, — но зато с большой кухней. В кухне на казенном, списанном по дряхлости диване спала старшая дочка, Полюшка, — та, что внученьку ему подарила нежданно-негаданно. Тихая девочка была, войной пришибленная — оттого, может, и не задалась у нее пока жизнь. Но Семен Митрофанович в справедливость свято верил, а потому твердо был убежден, что такое доброе да простое сердечко, как у его Полюшки, отогреется еще и счастьем и радостью.
Парни — Колька, Владлен да Юрик — в маленькой комнате жили. Старший — Владлен — уж в армии отслужил, жениться собирался, да все откладывал. А Юрка учился еще. И Юлька училась — младшая самая: она с ними в большой комнате спала. За шкафом.
Юлька да Юрка — его были. Кровные. И хоть никогда, ни единым взглядом не сделал он различия между детьми — своими там или не своими, — а с кровных невольно строже взыскивал. Придирчивей и в смысле дисциплины, и в смысле отметок. Но не потому, что его они были, плоть от плоти его, а потому, что не в лихолетье росли, не бурьяном на заброшенной пашне, а в семье, в городе. Сыты были, обуты, одеты — как с таких не спросить?..
В квартире многое их собственными руками было сделано. И не полки да антресоли — это его ребята еще мальчонками освоили и сделали сами всем соседям, — а серьезная мебель: шкафы, тумбочки, скамейки и обеденный стол. Огромный стол, на всех семь человек с простором, со столешницей из строганой липовой доски, которую ножом поскоблишь — и как новая. Настоящий стол: такому ни клеенок, ни покрывашек не требуется — он сам за себя говорит. И потому столом этим Семен Митрофанович чуточку гордился.
Сейчас на столе ворохом лежали подарки: жене и Полюшке — на платья, Владлену — костюм, Кольке-шалопаю — приемник карманный, школьникам Юрке да Юльке — мелочишка всякая. Это все сюрпризом его было, это все он тайком покупал, из собственных карманных денег двугривенные откладывая. Давно он это задумал, сюрприз-то этот, и рапорт только тогда подал, когда кое-что скопил.
Зато теперь Дедом Морозом в деревню ехал. И заранее представлял, как они все радоваться будут, как удивляться, как женский состав к зеркалу кинется. И даже как жена его ночью допрашивать начнет, где он столько денег раздобыл, и как заплачет потом — тоже представлял. И улыбался, в сотый раз подарки эти перебирая. Особенно когда куклу в руки брал: хорошую куклу — ростом с внученьку.
Семен Митрофанович плотно пообедал двумя пачками пельменей, напился чаю с калорийной булкой, со вкусом, неторопливо покурил на Полюшкином диване. В дрему его слегка клонило, но он сладко этак поборолся с ней и вышел победителем. Позевал, потянулся и встал: пора было в кварталы идти. В прощальный, а потому и чуток торжественный обход.
Он даже побрился перед этим походом: так, для порядка, поскольку с утра еще ничего не выросло. Побрился, смахнул с сапог невидимую пыль, почистил щеткой тужурку. Все это делал он неторопливо и улыбался. Себе самому улыбался, удивляясь, до чего же, оказывается, важен был для него этот последний обход, это прощание с людьми, с которыми всегда держался только официально. По-доброму, конечно, по-человечески, но в рамках. Как положено.
Начать следовало с самого трудного: он всегда так поступал, всю жизнь. А трудными для него были семиэтажки — те, с которых до сих пор сыпались архитектурные излишества. Не налаживался с их жильцами у него контакт, хоть и старался Семен Митрофанович его наладить. С одним, правда, все было в порядке, с сорок пятой квартирой, и поэтому сегодня младший лейтенант оставлял ее, так сказать, на закуску.
Понятно, он не всех подряд обходил: некоторых тревожить вообще не стоило, иных просто избегал, а другим только «до свидания» сказать собирался через дверную щель. Но были и такие, не посетить которых он по долгу службы просто не имел права...
5
В семнадцатой долго не открывали: Ковалев знал почему и только усмехался. И звонок давил настойчиво и требовательно: не в гости шел — навещал вполне официально, как представитель власти. Наконец зашаркали там, по коридору.
— Кто?
— Младший лейтенант милиции Ковалев. Откройте, гражданин Бызин.
— А зачем?
— Не тяните: все равно ведь войду.
Зазвякали за дверью: Семен Митрофанович здесь всякий звяк изучил досконально и потому с уверенностью мог заявить, что звякают дверной цепочкой. Потом щеколда брякнула, замок повернулся, и дверь открылась ровнехонько на длину предусмотрительно накинутой цепочки. В щели показалось круглое лицо: частями, поскольку целиком не вмещалось, — и посверкивало на младшего лейтенанта то правым, то левым глазом.
— Нагляделись?
— А к чему это посещение, позвольте спросить? Я не заявлял, не шумел, как некоторые, не скандалил...
— А времечко-то идет, гражданин Бызин. Да. Идет. А мы — стоим. Но я терпеливый, вы-то знаете.
Гражданин Бызин подумал, посверкал на Ковалева то левым, то правым глазом (точно прицеливался), прикрыл на секунду дверь и звякнул цепочкой.
— Терять из-за вас драгоценные свои минуты я не намерен, — сказал он, пропуская младшего лейтенанта в квартиру. — Я воспоминания пишу о товарищах, о жизни.
Ковалев ничего на это не ответил. Снял фуражку, повесил на крючок, пригладил перед зеркалом седой ежик (сквозь него уж и лысинка просвечивала). А гражданин Бызин, ворча, накидывал тем временем на дверь бесчисленные засовы и крючки. Потом они молча прошли в комнату и сели за стол друг против друга. Бызин хмурился и прятал глаза, а Семен Митрофанович улыбался.
— Ну? — не выдержал наконец хозяин: он все время то потирал, то замысловато сцепливал пальцы. — Так в чем дело?
— А где же ваша машинка?
— Какая машинка?..
— Пишущая. Вот марки, правда, не знаю. Пока.
— Нет у меня никакой...
— Есть. — Младший лейтенант спрятал улыбку и вздохнул. — Есть, есть, гражданин Бызин. Та самая, на которой вы недостойные свои анонимки печатаете.
— Какие анонимки? — Хозяин вскочил, метнулся к дверям, вернулся. — Это еще доказать, доказать надо!..
Ковалев неторопливо достал записную книжку и извлек из нее две вчетверо сложенные бумажки. Развернул одну:
— Заявление. От гражданина Бызина Геннадия Васильевича, проживающего там-то. И подпись. Ваша подпись: вы тут насчет внеочередного ремонта хлопочете.
— Ну и что из того? Имею право!
— А вот другой документ. — Семен Митрофанович развернул вторую бумажку. — Письмо в милицию насчет гражданки Ларионовой Ольги Юрьевны. И шпионка она, и фарцовщица, и развратница, и ночи напролет проводит в гостинице «Интурист».
— Правильно! — закричал Бызин, тыкая в младшего лейтенанта двумя указательными пальцами одновременно. — Сам, лично сам видел, как она в ресторане с американцами кривлялась, и штаны на ней в обтяжечку вместо юбки! Я показания могу, я свидетелем...
— Ответчиком, гражданин Бызин Геннадий Васильевич. Ответчиком придется, вот ведь какой факт получается. Письмо-то это вы писали, хоть и без подписи оно. Писали и на машинке отстукали. Думали, шито-крыто все будет?
Гражданин Бызин сорвался вдруг с места и дважды обежал кругом стола.
— Докажите! Нет, вы докажите сперва!
— Так ведь доказано уже все, — спокойно сказал Ковалев. — Все доказано, и не надо вам бегать. Для здоровья это вашего опасно.
Хозяин хотел возразить, но захлопнул рот и, сев напротив, снова стал хрустеть пальцами.
— Была Ольга Ларионова в ресторане, гражданин Бызин. И в гостинице «Интурист» тоже была. И даже с иностранцами встречалась: практику она там проходит, на переводчика учится, и вы этот факт знаете прекрасно. Так зачем же дегтем-то мазать, а?
Хозяин молчал. Открывал рот, набирал полную грудь воздуха, но звуки из горла не выходили. Младший лейтенант вежливо обождал и, не дождавшись, добавил огорченно:
— И таких анонимочек на разных граждан и по разным поводам написано вами восемнадцать штук. И все, извините, липа.
— Что?
— Липа, говорю. Неправда, значит. Или, сказать точнее, клевета.
Семен Митрофанович обстоятельно собрал все бумажки, вложил их в записную книжку, а книжку спрятал в карман. Хозяин по-прежнему отрешенно глядел на торшер возле журнального столика со стопкой старых газет. Ковалев поднялся и, заложив руки за спину, неспешно прошелся по комнате.
— Пыльно живете, гражданин Бызин. Да оно и понятно: в двухкомнатной квартире площадью сорок два квадратных...
— Я заслужил! — вдруг закричал хозяин. — Я честно, себя не щадя, куда велели! Я сорок лет, я...
Он замолчал так же внезапно, как и начал. Ковалев подождал, не добавит ли он еще чего, но Бызин не добавил.
— Я ваших заслуг не отрицаю, — тихо сказал Семен Митрофанович. — Я ведь не о том, Геннадий Васильевич. Я ведь о том, что один вы в этих метрах остались, вот ведь какой факт получается. Дочь у мужа живет, жена — у дочери, а сын ваш с Ольгой Юрьевной Ларионовой в другом конце города комнату снимают. Он по ночам уголь на станции грузит, чтоб за комнату эту платить.
— Сожительствуют! — Геннадий Васильевич весь подался вперед. — Сожительствуют, а милиция потворствует?
— И здесь перебор, — строго сказал Ковалев. — Свадьба-то была. Была, гражданин папа, вот ведь какой факт получается. — (Геннадий Васильевич молчал.) — И откуда в вас злоба-то эта, Геннадий Васильевич? Почему вы никак понять не можете, что молодые по-другому жить хотят, не так, как мы с вами прожили? Веселее, звонче, радостнее. И — я, конечно, извиняюсь — честнее.
Хозяин упорно молчал, уставившись в одну точку. Глаза его были напряженными, будто он что-то ловил, а это «что-то» все время ускользало от него, и он снова ловил.
— Вот тут адресок ихний, — сказал младший лейтенант и положил на стол записку. — Сходите к Ольге Юрьевне, когда сын на работе будет. Она хорошая, умная женщина, она все понимает...
— Что? Что она понимает?! — вдруг странным тоненьким криком перебил хозяин. — Тут сын родной, сын, сын ничего не понимает, сын собственный!.. Разве ж я о себе когда думал? Я ведь и думать-то о себе не умею. Не умею о себе думать и горжусь! Я о государстве нашем, о государстве день и ночь! Всю жизнь за благо его, всю жизнь до часа. Известно это кому? Почему же сын не уважает? Почему? Разве я сам себя когда до чего допускал? Я же только указаниям следовал, делал, как приказывали! А меня за преданность мою... Меня, меня, который, который...
Он скорчился, спрятал лицо в ладонях, повел плечами, сдерживая слезы, и не сдержал: всхлипнул. Семен Митрофанович горестно вздохнул, покачал головой:
— Где у вас капельки?
— Не надо... капелек, — шепотом сказал Бызин, ладонью растирая слезы. — Плохая молодежь, плохая. Развращенная. И отцов не чтит, заслуг их не уважает. Уголь грузит? Дурак! Пусть грузит, пусть!.. Небось, когда прижмет, прибежит. Прибежит ко мне, прибежит!..
— Нет, — сказал младший лейтенант. — Не прибежит. Не обманывайтесь.
— Да?..
— Да. Так что свыкнитесь с этим и не завидуйте другим.
— Это я-то? Я?.. Завидую?.. — Бызин с изумлением глядел на Ковалева.
И замолчал. И изумление на его лице словно окаменело, словно вдруг внутрь обернулось, в самого себя.
— Не завидуйте, Геннадий Васильевич, — тихо повторил младший лейтенант. — А сейчас попрощаться с вами разрешите. Здоровья вам пожелать и спокойствия души. Очень это важно на старости лет — спокойствие души. Очень.
Прошел в коридор, долго надевал фуражку, топтался: слушал, как там хозяин. А тот все что-то не появлялся. Потом вышел, глянул на Ковалева как на фонарный столб и молча стал отпирать затворы. И так же молча на место все крючки накинул, когда Семен Митрофанович вышел на лестничную клетку.
Давно уже замер звук последней задвинутой щеколды, давно прошаркали по коридору шаги, а Ковалев все еще стоял перед наглухо заложенной дверью — последней цитаделью, куда отступил этот так ничего и не понявший в жизни старик. Стоял, вздыхал и расстроенно думал, что не так он провел свой последний разговор, как следовало. Ох, не так!..
6
С этим неприятным осадком он спустился вниз, пересек двор и поднялся на пятый этаж последнего подъезда. Поднимался он не торопясь, с одной, правда, остановкой, потому что строители этих семиэтажных ампиров забыли предусмотреть в подъездах лифты. Однако Семена Митрофановича раньше это как-то не очень заботило, и только сегодня пришлось-таки вспомнить, что на пенсию он уходит не по собственному капризу. Поэтому у нужной ему квартиры он задержался дольше обычного, чтобы отдышаться и разговаривать голосом, положению его соответствующим. И пока он одиноко пыхтел на пустой лестничной площадке, вздыхая и сокрушаясь, что по таким пустякам время теряет, вдруг показалось ему, что за дверью, перед которой он стоял, ясно и весело прозвучал девичий голос. Слов Семен Митрофанович не разобрал, но голос... голос узнал сразу: насчет этого слух у него был в полном порядке. Воробьихи той голос-то был, девчонки, с которой он вместе ехал сегодня в служебном газике.
А вот того, ради кого младший лейтенант сейчас перед дверью пыхтел, того совсем не Валерием звали, а Анатолием. И никаких Валер в друзьях его вроде никогда не числилось, как Ковалев ни пытался припомнить...
Но это так, на всякий случай в нем промелькнуло. Просто для уточнения, да и голос при всем его милицейском слухе мог вполне свободно другой птахе принадлежать — и совсем, может, не воробьихе даже, а голубке или лебедушке. И младший лейтенант, усмехнувшись про себя этому соображению, нажал кнопку звонка.
Он только прикоснулся к ней — так ему показалось, — а дверь вдруг словно сама собой распахнулась, и на пороге оказался хозяин: в белой рубашке, хоть, правда, и без галстука.
— Ну ты молоток, старик! С космической ско...
Все это он выпалил бодро и радостно, но, увидев, кто стоит перед ним, осекся, сглотнул полслова и — онемел. Но Семен Митрофанович не глядел на него: он через плечо его смотрел вглубь коридора и слово был готов дать самое твердое, что мелькнула там, в глубине, легкая фигурка. Мелькнула как видение, точно ветром снесенное, и все-таки Ковалев засек и худенькие плечи, и совсем по-особому вздернутую голову воробьихи...
— Простите, — растерянно бормотал Анатолий. — Спутал. Друг обещал заглянуть. Думал, он...
Пока шло это необязательное лихорадочное объяснение, Семен Митрофанович оглядывался. Видение, в котором он точно узнал свою недавнюю подопечную, уже скрылось где-то в недрах огромной квартиры, но у самого порога остались небрежно сброшенные модные туфельки: лак на одном был чуть поцарапан. Все это младший лейтенант успел разглядеть, пока Анатолий многословно и непривычно вежливо объяснял свою ошибку. И разглядеть успел, и даже про себя усмехнулся, вспомнив, откуда царапина на туфле: девчонка в газике ноги под сиденье запихивала, пряча от него обновку...
— Вежливый ты сегодня, Анатолий.
— Я вообще вежливый. — Парень неопределенно пожал плечами, выдавил улыбку, как пасту из тюбика, и впервые рискнул поднять на Ковалева глаза. — Меня вежливости еще мама с папашей...
— А сейчас где они?
— На даче... — Анатолий как-то странно усмехнулся. — А зачем вы спрашиваете? Вы же и так все знаете.
А глаза были блудливы, как мыши: то ли боялся, что младший лейтенант родителям про девчонку расскажет, то ли еще чего-то боялся, посерьезнее. И в квартиру не пускал, явно не пускал, стоя на пороге. И еще — спешил. Спешил куда-то, слова без оглядки роняя. Пустые слова: не для разговору — для болтовни.
Обо всем этом младший лейтенант думал как-то сразу, в целом, не отделяя причин от следствий да и не ища их сейчас. Он по опыту знал, что хуже нету, как причины да следствия с ходу устанавливать, и поэтому, все замечая, выводы делать опасался. Выводы завтра сделать можно будет, в госпитале, вдвоем с Данилычем.
— Жалуются на тебя, Анатолий.
— Что?.. Кто?
— Так и будешь меня в коридоре держать?
— А... Извините. — Анатолий отступил в сторону, предупредительно распахнул ближайшую дверь. — Прошу.
И это было не совсем обычно, потому что Семен Митрофанович все эти квартиры, весь строй их и быт давно наизусть знал, потому что прежде его всегда в большой комнате принимали, в столовой. А это была папашина комната: сюда самому Анатолию и то был вход заказан.
А сегодня — и дверь нараспашку, и это Ковалев тоже запомнить постарался.
Комната была маленькой: дворцы эти лишь снаружи роскошно выглядели, а внутри только лестничные клетки соответствовали внешнему виду. А комнаты в каждой квартире были на редкость неудобными, и эта, хозяйская, была более схожа с кладовкой, чем с жильем человеческим: свету в ней было мало, дверь — велика, да и барахлишка здесь скопилось тоже предостаточно. И барахлишко-то странное было, очень странное: громоздкое, старое, неудобное, широкозадое какое-то.
— Присаживайтесь, — сказал Анатолий. — Можете закурить.
«„Советский Союз”, — подумал Ковалев. — Сорок копеек пачечка...»
И сказал:
— А закурить-то у тебя найдется?
Парень хлопнул по карману, метнулся к дверям:
— Сейчас!
Услужлив он сегодня был, ох услужлив! И вежливостью от него несло, как одеколоном из парикмахерской...
— Вот, пожалуйста.
«БТ». Младший лейтенант даже обрадовался, что другими оказались сигареты. Почему обрадовался, и сам понять не мог, но обрадовался.
И закурил, хоть от сигареток этих в горле у него першило.
— Жалуются на тебя соседи, что нарушаешь ты постановление горсовета.
— Какое постановление?
— Насчет шумов. Магнитофон у тебя больно зычный, Анатолий. На весь квартал хватает.
— Так ведь музыка. Искусство, товарищ младший лейтенант.
Осваивается понемногу, раз об искусстве заговорил. Значит, страх проходит. Перед чем же страх-то был? Что его напугало?
— Искусством, согласно постановлению горсовета, заниматься можно до двадцати трех часов. А потом — конец всякому искусству. Ясно?
— Усвоил.
— Если бы ты песни красивые играл, тогда бы и нареканий не было. А у тебя будто режут кого. Орут какие-то нетрезвые на иностранных языках. И орут громко.
— Вы попутно и эстетике обучаете?
— Попутно. — Ковалев поднял палец. — Именно что попутно, Анатолий. Это ты умно сказал.
И замолчал. Пыхтел себе сигареткой, разглядывал громоздкие комоды и ждал. Видел, как Анатолия вдруг в краску кинуло, как закурил он...
— А что вам, собственно, нужно? Неужели ради магнитофона этого?..
Не выдержал. Брякнул с нервов и замолчал. Проболтаться боится, что ли?
— Попутно, — повторил Семен Митрофанович. — Магнитофон — это попутно. Веткиных знаешь?
— Не знаю я никаких Веткиных!..
Громко слишком выкрикнул. Слишком громко.
— Среди прочих вещей, что взяли у них, туфли лаковые числились. Иностранного производства туфли: дочка их за границей купила и у родителей на хранение оставила.
— Ну и что из того? — грубо перебил Анатолий. — Мне-то что до этих туфель заграничного производства?
— А то, что они у тебя в передней стоят, эти туфли.
Это он спокойно сказал, размеренно. Сказал и ждал, что будет. Вскочит Анатолий, закричит, покраснеет — что?.. Что-то должно было произойти, потому что туфли эти он видел собственными глазами и сейчас по первой реакции парня должен был понять, знает ли сам Анатолий, что туфельки эти — ворованные?..
И промахнулся. Позорно, как первогодок несмышленый, опечатку допустил. Крупнейшую опечатку!..
Не вскочил Анатолий. Не закричал, не покраснел — спросил. Спокойно спросил, улыбаясь:
— Какие туфли, товарищ младший лейтенант?
Все понял Семен Митрофанович. По глазам, по чуть прорвавшемуся торжеству, по спокойствию. И поэтому снял этот вопрос с повестки, как неоправданный:
— Шучу я, Анатолий. Шучу!
Встал, пошел к двери — Анатолий и здесь поспел предупредительно распахнуть ее. Вышел в коридор, стрельнул по полу глазами: все правильно. Тю-тю туфельки те вместе с ножками! С приветом, как говорится!..
— Вместо меня теперь будет Степан Данилыч Степешко, — официально сказал Ковалев. — Ты уж не беспокой его нарушениями, ладно? Как-нибудь до двадцати трех укладывайся в рамки.
— Уложусь.
— Ну, счастливо тебе, Анатолий. — Шагнул к дверям, обернулся вдруг. — А ведь туфельки-то были. Были, Толя, вот ведь какой факт получается. Так что учти. Если умный.
И вышел. Нарочно быстро вышел, чтоб парень наедине с его последними словами остался. Очень это сейчас было важно: оставить его наедине с этими словами.
А сам во второй дом направился: из семиэтажек — второй. И пока шел, улыбался: перехитрила его, старого волка, молодежь эта магнитофонная. Провела да вывела без стука, без шороха, пока он над собственными планами потел. Ну и правильно сделала: не держишь ногу — выходи из строя. Еще одно доказательство, что в самый цвет он рапорт подал. В самый раз, в яблочко.
Нет, не верил он, что Анатолий в квартирной краже замешан. Ну задирист парень, ну нагрубить может, ну старших не почитает, ну, с девчонками там, с винцом замечен — так ведь от этого до уголовщины никакая ниточка не ведет. Совсем это разные вещи, и под один параграф ставить их не следует: ошибочно это. Да и по характеру Анатолий не из тех, что в капезе, как в собственную квартиру, приходят. Он ведь не милиции боится, он запачкаться боится и, значит, именем своим дорожит. А это тормоз надежный.
Однако воробьиха была у него? Вроде была. Туфли на полу в прихожей лежали? Лежали. Без всяких «вроде»: точно лежали. И ждал Анатолий кого-то, с нетерпением ждал. Кого, спрашивается?
7
Вопросы эти в книжку он заносить не стал, а решил при встрече ознакомить с ними Данилыча. Не просто ознакомить: обсудить. Насчет профилактики и девчонки этой. Воробьихи...
— Не заперто! Входите!
Он и не заметил, как к Агнессе Павловне постучал.
Вошел, снял фуражку, крикнул в гулкую квартиру:
— Добрый день, Агнесса Павловна! Это из милиции к вам. Семен Митрофанович.
— Ну что там еще? Погодите, оденусь!
Усмехнулся Ковалев: то не заперто, то погодите. Странный народ, женщины одинокие!
Агнесса Павловна в тридцать овдовела, красивая бабенка была, тугая, ядреная, и все соразмерно, ничего не скажешь. Завидная вдовушка: и квартира, и дача, и машина, и в самом соку. Однако тогда она не спешила. Тогда она так считала, что лучше быть вдовой профессора, чем женой аспиранта. И жила не задумываясь, точно раскручивала много лет назад взведенную пружину. Без оглядки жила, словно на бегу. Ну а теперь... теперь добежала. Теперь ей самая пора была к месту причаливать, на якорь становиться, а якоря-то этого в наличии и не имелось. О якоре своевременно заботиться следует, и умные люди его загодя подбирают...
— Входите!
Дух в большой комнате стоял, точно в милицейской курилке под утро. И окурки везде понатыканы: в пепельницах, в тарелках, в цветах. И рюмки немытые на столе, и бутылки пустые: хороший кавардак здесь вчера устраивался, на всю катушку...
Младший лейтенант первым делом окна настежь распахнул, чтоб выдуло весь этот кабацкий дух к чертовой матери. Тут Агнесса Павловна вошла — в пестром халате, зеленая то ли с пересыпу, то ли с перекуру. Сказала безразлично:
— А, это вы...
Плюхнулась в кресло, схватила сигарету. Семен Митрофанович ждал у окна, пока она в соображение войдет. Ждал, глядел на измятое, безжизненное лицо этой еще совсем нестарой женщины, на дрожащие пальцы и жалел ее. Раздраженно жалел, дурой чертовой про себя ругая.
— Хотите кофе, Семен Митрофанович? Я вам по-особому сварю: меня композитор один научил.
— Это потом, спасибо. Тихо вы вчера гуляли.
— При закрытых окнах. — Она усмехнулась. — Цените, Семен Митрофанович.
— Ценю, — серьезно сказал он.
Не отшутился: правду сказал. Он уважал ее, беспутную, добрую и очень одинокую. И она его уважала: вся гульба здесь втихую шла, за тяжелыми шторами, чтобы ему, младшему лейтенанту Ковалеву, поменьше было беспокойства.
— С прошедшими именинами вас.
Она покивала. Потом вдруг улыбнулась, даже глаза чуть ожили.
— Учтите: мне — тридцать девять, и ни на один день больше!
Сорок три ей вчера исполнилось, но точность здесь была ни к чему. А вздохнул Семен Митрофанович по другому поводу.
— Себя бы пожалели.
Всерьез сказал, и не во исполнение параграфа — от души. Сроду бы он никогда себе не признался, что... Ну да что уж там: он милиционер, а она — кофе с композиторами... Да и потом, усмехнулся Ковалев, ему завтра на пенсию, а ей вчера — тридцать девять, и ни на один день больше. И вздохнул:
— Пожалели бы вы себя, Агнесса Павловна!
— А!.. — Она беспечно махнула рукой, сигарета немного привела ее в чувство. — Так как же насчет кофе?
— Кофе?.. — Он прошел, сел напротив. — Это потом. Сами выпьете. Я ведь просто так зашел. Попрощаться зашел, точнее сказать.
— Попрощаться? Уезжаете куда?
— Уезжаю, Агнесса Павловна. Совсем уезжаю, потому как с ноля часов выхожу на пенсию.
— На пенсию?.. — Она встала, глядя на него и вслепую тыкая сигарету в пепельницу. — Семен Митрофанович, дорогой, вы шутите так, да?
— Нет, не шучу. Сдаю участок новому товарищу, старшему лейтенанту Степешко Степану Даниловичу. Мы с ним заходили к вам, да вы аккурат на даче были...
Она вдруг бросилась к столу, зазвенела бутылками:
— Черт!..
— Что вы там, Агнесса Павловна?
— Погодите!..
Зло сказала, с сердцем, и вышла так стремительно, что полы халата крыльями взлетели в воздух. И вернулась быстро: Ковалев даже подивиться не успел, куда это ее унесло. Притащила початую бутылку коньяку и две чайные чашки: остальная посуда, видать, вся грязная была.
— Не все вчера вылакали.
Плеснула в чашки.
— Не надо, — сказал он. — Я при исполнении, а у вас печень больная. И ночь вы не спали, и курили много...
Он замолчал, потому что увидел вдруг, что из глаз ее медленно, одна за другой, текут слезы. И она их не вытирает, а только моргает часто.
— Семен Митрофанович! — Она глубоко вздохнула. — Семен Митрофанович, дорогой мой, вы же один-единственный во всем свете ко мне по-человечески относились... Нет-нет, вы не говорите ничего, вы помолчите, я говорить буду. Вы меня от всех этих баб, от всех этих Бызиных, от склок, сплетен, дрязг вот уж сколько лет грудью своей прикрываете. Если бы не вы, сожрали бы они меня. Сожрали бы, Семен Митрофанович, сожрали!.. Вот почему... — Она помолчала, улыбнулась. — Реветь хочется, понимаете? Но это так, это пройдет... — Агнесса Павловна вдруг совсем по-девичьи шмыгнула носом. — Живу я беспутно, глупо, пошло живу — это я все понимаю. За это и наказана: ни семьи, ни детей, ни внуков — пустота впереди. И вы, вы один поняли, что мне... мне... Ну, скажите, что мне, Семен Митрофанович. Скажите на прощание.
— Страшно вам, Агнесса Павловна, — тихо сказал Ковалев. — А особо по ночам страшно, и потому вы ночей одиноких боитесь и себя губите, гостей со всего города созывая...
— А теперь и вы уходите, — перебила она. — Так будьте хоть вы счастливы, дорогой мой человек! Будьте счастливы среди детей и внуков: уж кто-кто, а вы заслужили это.
Она залпом выпила коньяк, хватила чашкой об пол: только осколки брызнули.
— На счастье!.. А сейчас уходите. Уходите, Семен Митрофанович, а то я так реветь начну, что не обрадуетесь!
— Хорошо. — Он аккуратно поставил чашку, пошел к дверям. — Я вас Данилычу передал, Агнесса Павловна, так что не волнуйтесь. Данилыч — человек очень серьезный...
— Не надо меня никому передавать. Не надо: я ведь не деревянная.
— Тогда... — Он потоптался, обдумывая, следует ли ей говорить то, что только сейчас пришло ему в голову.
— И говорить ничего не надо, — сказала она. — Не надо, пожалуйста, не надо: этак и до пошлостей можно договориться.
— Я к вам завтра зайду, Агнесса Павловна. Завтра в десять утра.
И вышел. И пока шел в следующую квартиру, все думал о том, что пришло ему вдруг в голову и о чем он завтра собирался беседовать с Агнессой Павловной.
А пришло ему в голову уговорить Агнессу Павловну бросить эту забубенную жизнь. Оставить город, продать дачу, а вместо нее купить дом в том селе, в котором он сам намеревался жить. Там бы она уж никак не была бы одинока, там бы вокруг нее живо бы завертелись и бабенки, и ребятишки, потому что в сельской местности на культурных людей голод стоит великий, а Агнесса Павловна когда-то кончила музыкальное училище и играла на пианино. Да и кроме пианино, кроме бесед да лекций, многим она могла привлечь детвору, потому что детвора — она доброту аж за восемь верст чует и платит за нее червонной любовью. А в доброте Агнессы Павловны Семен Митрофанович не сомневался: он доброту в человеке тоже за восемь верст чуял...
Основная трудность в том была, что надо было как-то завтра к этому вопросу подойти. Тут ведь не в словах дело заключалось — слова у нас одни на всех выданы, — тут основное — как эти слова сказать. Как не обидеть, не задеть, как согреть ими человека. Согреть — он об этом всегда думал, потому что мерзнет душа человеческая при центральном отоплении, мерзнет, льдинкой покрывается, и всегда надо стараться так сделать, так сказать, чтоб от льдинки той только роса осталась. Роса — это ничего, это хорошо даже. Роса — она освежает...
Шел старый милиционер по крутым лестницам, потел в грубой тужурке, отдувался на площадках и думал. Думал, как ему завтра росу эту в душе прокуренной пробудить...
8
И только перед знакомой дверью думы эти временно в сторонку отложил. Поправил фуражку, тужурку одернул, проверил, на месте ли галстук: словно не к жильцу шел, а к самому комиссару товарищу Белоконю, который ждал Семена Митрофановича завтра ровно в девятнадцать часов. Но уж очень уважал Семен Митрофанович этого жильца, очень уж разговаривать ему с ним приятно было, и поэтому младший лейтенант Ковалев к встрече всегда готовился строго.
А зауважал он его поначалу от удивления. Давно это было: он тогда только-только с домами этими знакомился и в эту квартиру позвонил по долгу службы. Времени было аккурат половина пятого, но хозяева чай пили, и ему пришлось приглашение к столу принять: чай — не водка, инструкция не препятствует. Хозяин и тогда был не молод (сейчас-то совсем уж облез и побелел!). Далеко не молод, а улыбался, как молодой, — глазами. Младший лейтенант представился как положено...
— Митрофанович? — Молодо глаза улыбались, озорно. — Воронежский, значит?
— Точно, — растерянно подтвердил Ковалев. — Как угадали?
— Это теперь гадать приходится, откуда родом, скажем, Руслан Спартакович: то ли из русской былины, то ли из футбольной команды. А в старые времена в обычае было называться по местным святым: Митрофан — значит, воронежский, Абрам — из Смоленска, Прокоп — из Великого Устюга. И имен в обиходе было куда больше, и толк в них был совершенно особый: не внешний, а внутренний, привязанный к своему месту, к своему роду-племени, к своей истории — не соседской...
С удивления началась их дружба. Семен Митрофанович терялся среди книг, которыми были заняты все стены до потолка. Терялся, слова путал, мямлил чего-то, но хозяин был прост, радушен, и вскоре Ковалев освоился. А освоившись, полюбил это место: старые книги, старую мебель, кабинетную тишину, уют. Но главное, что полюбил, — беседы хозяина. Разговоры он умел разговаривать, вот в чем дело было...
Так было и сейчас.
— Почему люди зло совершают, Артем Иванович? Зло ведь труднее совершить, чем добро, а совершают. И ведь голода нет, одеты все, обуты...
— А по-вашему, Семен Митрофанович, как: человек — добр или зол? Человек вообще?
— Вообще добрый он, Артем Иванович. Он ведь и рождается добрым: дети — они ведь все добрые, они ведь, что такое зло, и не понимают. Просто не понимают — и все.
— А добро?
— А добро понимают. Ведь ребенок, если с ним по-хорошему, он все свое отдаст. И поможет всегда, сколько сил имеет, без расчету. И слезы-то его первые — от зла. Он не понимает его, зло-то, потому и расстраивается. Нет, не от боли он плачет, Артем Иванович, он от обиды плачет. От обиды, что зло в мире водится, вот ведь какой факт получается.
Артем Иванович — маленький, седенький, в золоченых очках — утонул в кресле по самые плечи. Поблескивал острым глазом, обдумывал каждое слово. И угощал чаем с вафлями. Вафли какие-то особенные были: дочка из Москвы присылала.
— Да, мир добр, человек зол — так в старину считали. А рождаются все одинаковыми, и ребенок Гитлер ничем не отличался от любого другого ребенка. А потом стал отличаться. Почему? Очевидно, есть во зле какая-то притягательная сила.
— Нет такой силы, — застенчиво сказал Семен Митрофанович. — Добро — это сила, а зло... Зло, я извиняюсь, конечно, вы человек ученый, зло, Артем Иванович, бессильно. Потому бессильно, что души за ним нету. А без души какая же сила?
— Справедливо, Семен Митрофанович, совершенно справедливо. Только припомните, пожалуйста, кого-нибудь доброго из истории.
— Да я ведь насчет истории-то...
— А я, историк по профессии, никого не могу припомнить. Макиавелли — помню, Игнатия Лойолу — помню, Святополка Окаянного — тоже помню. Даже о Петре Великом думая, я в первую очередь казнь стрельцов вспоминаю. И знаете почему? Совсем не потому, что зло всесильно, а потому лишь, что зло есть отклонение от нормы. Зло есть горбатость духа человеческого, уродство его, а уродства, ненормальности, естественно, запоминаются прочнее, чем нечто обыденное. А норма-то для человечества суть добро, и будет время — будет, Семен Митрофанович, будет! — когда норма эта восторжествует окончательно, повсеместно и на веки веков!..
Артем Иванович давно уже о чем-то другом рассказывал — об истории чая, что ли, — а Семен Митрофанович, хмурясь, старательно обдумывал его слова. И чем больше думал над ними, тем все больше не соглашался и страдал.
— Я извиняюсь, конечно, очень, — опустив голову, тихо сказал он. — Вы человек ученый, вы книг вон шесть стенок прочли, а только очень я с вами, Артем Иванович, не согласен. Не обижаетесь?
— Помилуйте, Семен Митрофанович...
Семен Митрофанович осторожно откашлялся. Ему очень хотелось закурить, но хозяин был некурящим.
— Насчет того, что добро — нормальное дело, это я не спорю. Это все — правда чистая, тут я под любым вашим словом по два раза подпишусь. Только, как бы сказать... Причину-то вы не вскрыли, Артем Иванович. Говорите, у злого душа горбатая. Верно, горбатая, а отчего? По какой причине?.. Кто душу-то его с печки уронил? Нет ответа. А душа — она ни с того ни с сего горбатой стать не может. Тут причину надо иметь, вот ведь какой факт получается.
— И что же, Семен Митрофанович, нашли вы эту причину?
— Думается мне, нашел. — Младший лейтенант еще раз кашлянул, вздохнул поглубже. — Злой — он что такое? Он брать все любит. Он под себя все подминает, о себе лишь заботится, а на остальных ему, я извиняюсь, наплевать. А добрый — он как раз наоборот, Артем Иванович. Он потому и добрый, что о себе не думает, что о соседе страдает, что готов рубаху с себя последнюю снять. Давать и брать — вот что значит добро и зло. И пока давать да брать не сроднятся друг с дружкой, пока не уравняются, до тех пор и зло с добром рядышком шагать будут. Рядышком по жизни.
— Значит, вы считаете, что всеобщая экономическая уравниловка способна ликвидировать эту извечную проблему?
— Нет, не считаю я так, Артем Иванович. Конечно, экономика — это могучий, как говорится, фактор, только не в ней одной дело. Экономика — это возможности: ну, купить там что, так я понимаю. А кроме купить, у человека еще желаний-то ой-ой! Он и славы хочет, и почета, и удобства жизни, и прав со всеми равных. Он брать все это хочет, а он давать должен, вот в чем вся штука-то. Сейчас какой самый главный глагол вредно действует? Брать. А должен какой по всему смыслу жизни нашей? А должен — давать. И пока каждый человек сам это не прочувствует, пока сам не поймет, что давать обязан, до тех пор мы зло не выкорчуем. Не искореним, как говорится, Артем Иванович.
— Ну а рецепт какой пропишем человечеству, Семен Митрофанович? Всеобщее самоусовершенствование, что ли?
— Воспитание, — серьезно сказал младший лейтенант и опять вздохнул. — Плохо у нас этот вопрос заострен, Артем Иванович. Перепутали мы где-то воспитание с учением и до сих пор никак в этом не разберемся. Что должна школа делать? Учить. А семья? А семья — воспитывать. Так почему же арифметике там, письму — этому специалист учит, а воспитание граждан — государственное дело, правда ведь? — мамаше оно поручено. А мамаша от работы, от толчеи магазинной, от корыта, от кухни очумелая вся как есть. Ей не то что воспитанием, ей самой себе лоб утереть некогда, вот ведь какой факт получается... — Семен Митрофанович похмурился, посопел.