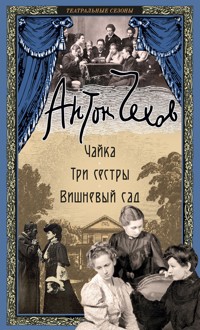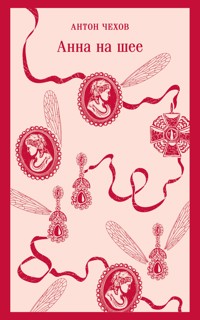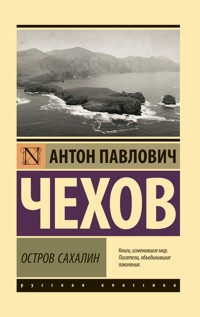
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Эксклюзив: Русская классика
- Sprache: Russisch
"Остров Сахалин", вышедший в 1895 году, был сразу назван талантливой и серьезной книгой; это рассказ очевидца не только о каторжных работах, кандалах, карцерах, побегах и виселице, это, что главнее, взгляд думающего человека на каторгу в целом. В центре внимания Чехова-исследователя, Чехова-художника - проблема личности каторжника, простого, несчастного человека. Также в книгу вошли девять очерков, объединенных общим авторским названием "Из Сибири".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Антон Чехов Остров Сахалин
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Остров Сахалин(Из путевых записок)
I
Г. Николаевск-на-Амуре. – Пароход «Байкал». – Мыс Пронге и вход в Лиман. – Сахалин полуостров. – Лаперуз, Браутон, Крузенштерн и Невельской. – Японские исследователи. – Мыс Джаоре. – Татарский берег. – Де-Кастри
5 июля 1890 г. я прибыл на пароходе в г. Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего отечества. Амур здесь очень широк, до моря осталось только 27 верст; место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид заброшенного, вымирающего города совершенно отнимают охоту любоваться пейзажем.
Николаевск был основан не так давно, в 1850 г., известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. В пятидесятые и шестидесятые годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем, наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов, селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией инородцев, продажей пантов, то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. На пути от Хабаровки до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов; здесь они не скрывают своей профессии. Один из них, показывавший мне золотой песок и пару пантов, сказал мне с гордостью: «И мой отец был контрабандист!» Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания, одурачения и т. п., выражается иногда в оригинальной форме. Так, николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с гиляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал.
Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком – тут зимою, говорят, даются балы; на вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. Делать нечего, пришлось две ночи провести на пароходе; когда же он ушел назад в Хабаровку, я очутился как рак на мели: камо пойду? Багаж мой на пристани; я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Как раз против города, в двух-трех верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в Татарский пролив, но говорят, что он отойдет дня через четыре или пять, не раньше, хотя на его мачте уже развевается отходный флаг. Разве взять и поехать на «Байкал»? Но неловко: пожалуй, не пустят, – скажут, рано. Подул ветер, Амур нахмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о пантах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здешняя жизнь от России! Начиная с балыка из кеты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие. Священники, которых я видел на Амуре, едят в пост скоромное, и, между прочим, про одного из них, в белом шелковом кафтане, мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами. Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение с женщиной возводится почти в культ и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену; или вот еще лучше: с одной стороны, отсутствие сословных предрассудков – здесь и с ссыльным держат себя, как с ровней, а с другой – не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку, или даже поохотиться тайком на горбачиков.
Но буду продолжать о себе. Не найдя приюта, я под вечер решился отправиться на «Байкал». Но тут новая беда: развело порядочную зыбь, и лодочники-гиляки не соглашаются везти ни за какие деньги. Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют гиляцкие собаки. И зачем я сюда поехал? – спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, – эта мысль неприятно волнует меня. Но вот наконец два гиляка соглашаются везти меня за рубль, и на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю «Байкала».
Это пароход морского типа средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным. Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные; по контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин: в Александровский пост и в южный Корсаковский. Тариф очень высокий, какого, вероятно, нет нигде в свете. Колонизация, которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения, и высокие тарифы – это уж совсем непонятно. Кают-компания и каюты на «Байкале» тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски; есть пианино. Прислуга тут – китайцы с длинными косами, их называют по-английски – бой. Повар тоже китаец, но кухня у него русская, хотя все кушанья бывают горьки от пряного кери и пахнут какими-то духами, вроде корилопсиса.
Начитавшись о бурях и льдах Татарского пролива, я ожидал встретить на «Байкале» китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачною жвачкой, в действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода г. Л., уроженец западного края, плавает в северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль и поперек. На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно. Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем Отелло, мог бы говорить о «бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных». Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника: г. Б., племянник известного астронома Б., и два шведа – Иван Мартыныч и Иван Вениаминыч, добрые и приветливые люди.
8 июля, перед обедом, «Байкал» снялся с якоря. С нами шли сотни три солдат под командой офицера и несколько арестантов. Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы. Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж[1]. Кроме меня и офицера, было еще несколько классных пассажиров обоего пола и, между прочим, даже одна баронесса. Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии. На Амуре есть город, где одних лишь генералов, военных и штатских, насчитывают 16. Теперь их там, быть может, еще больше.
День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно; в воде + 18°. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес; сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом… Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только Богу.
После обеда, часов в шесть, мы уже были у мыса Пронге. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял о. Сахалин. Перед глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная полоса – это каторжный остров; налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в Лиман, где на отмели приютилась гиляцкая деревушка, на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц.
– Это они хотят продать нам битых гусей, – объясняет кто-то.
Поворачиваем направо. На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер. Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины; «Байкал» начинает идти все тише и тише и идет точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель. Пароход сидит 121/2, местами же ему приходится идти 14 фут., и был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот-то мелкий фарватер и особенная картина, какую дают вместе Татарский и Сахалинский берега, послужила главною причиной тому, что Сахалин долго считали в Европе полуостровом. В 1787 г., в июне, известный французский мореплаватель, граф Лаперуз, высадился на западном берегу Сахалина, выше 48°, и говорил тут с туземцами. Судя по описанию, которое он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь айно, но и приехавших к ним торговать гиляков, людей бывалых, хорошо знакомых и с Сахалином и с Татарским берегом. Чертя на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров и что остров этот отделяется от материка и Иессо (Японии) проливами[2]. Затем, плывя дальше на север вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из Северо-Японского моря в Охотское и тем значительно сократит свой путь в Камчатку; но чем выше подвигался он, тем пролив становился все мельче и мельче. Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень. Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля, и, дойдя до глубины 9 сажен, остановился. Постепенное равномерное повышение дна и то, что в проливе течение было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе и что, стало быть, Сахалин соединен с материком перешейком. В де-Кастри у него еще раз происходило совещание с гиляками. Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что через этот перешеек гилякам приходится иногда перетаскивать свои лодки и что на нем даже растет трава, – так понял Лаперуз. Это еще крепче убедило его, что Сахалин – полуостров[3].
Девятью годами позже его в Татарском проливе был англичанин В. Браутон (Broughton). Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже 9 фут., так что ему удалось пройти несколько выше Лаперуза. Остановившись на глубине двух сажен, он послал к северу для промера своего помощника; этот на пути своем встречал среди мелей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны, и при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались; казалось, залив оканчивался здесь и никакого прохода не было. Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что Лаперуз.
Наш знаменитый Крузенштерн, исследовавший берега острова в 1805 г., впал в ту же ошибку. Плыл он к Сахалину уже с предвзятою мыслью, так как пользовался картою Лаперуза. Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направления с севера на юг, и, казалось, был уже совсем близок к разрешению загадки, но постепенное уменьшение глубины до 31/2 сажен, удельный вес воды, а главное, предвзятая мысль заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел. Но его все-таки точил червь сомнения. «Весьма вероятно, – пишет он, – что Сахалин был некогда, а может быть, еще в недавние времена, островом». Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойною душой: когда в Китае впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он «обрадовался немало»[4].
Ошибка была исправлена в 1849 году Невельским. Авторитет его предшественников, однако, был еще так велик, что когда он донес о своих открытиях в Петербург, то ему не поверили, сочли его поступок дерзким и подлежащим наказанию и «заключили» его разжаловать, и неизвестно, к чему бы это повело, если бы не заступничество самого государя, который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим[5]. Это был энергический, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нравственно. Один из знавших его пишет: «Более честного человека мне не случалось встречать». На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет, но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился, состарилась и потеряла здоровье его жена, «молоденькая, хорошенькая и приветливая женщина», переносившая все лишения геройски[6].
Чтобы покончить с вопросом о перешейке и полуострове, считаю не лишним сообщить еще некоторые подробности. В 1710 г. пекинскими миссионерами, по поручению китайского императора, была начертана карта Татарии; при составлении ее миссионеры пользовались японскими картами, и это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно только японцам. Она была прислана во Францию и стала известною, потому что вошла в атлас географа д’Анвилля[7]. Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан своим названием. У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте есть надпись, сделанная миссионерами: «Saghalien-angahata», что по-монгольски значит «скалы черной реки». Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу у устья Амура, во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название Сахалин, удержанное Крузенштерном и для русских карт. У японцев Сахалин называли Карафто или Карафту, что значит китайский остров.
Работы японцев попадали в Европу или слишком поздно, когда в них уже не нуждались, или же подвергались неудачным поправкам. На карте миссионеров Сахалин имел вид острова, но д’Анвилль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешеек. Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 г., но в Европе придавали этому так мало значения, что когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские[8].
Давно уже на очереди новое, возможно тщательное исследование берегов Татарии и Сахалина. Теперешние карты неудовлетворительны, что видно хотя бы из того, что суда, военные и коммерческие, часто садятся на мель и на камни, гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах. Благодаря, главным образом, плохим картам командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны. Командир «Байкала» не доверяет официальной карте и смотрит в свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания.
Чтобы не сесть на мель, г. Л. не решился плыть ночью, и мы после захода солнца бросили якорь у мыса Джаоре. На самом мысу, на горе, стоит одиноко избушка, в которой живет морской офицер г. Б., ставящий знаки на фарватере и имеющий надзор за ними, а за избушкой непроходимая дремучая тайга. Командир послал г. Б. свежего мяса; я воспользовался этим случаем и поплыл на шлюпке к берегу. Вместо пристани куча больших скользких камней, по которым пришлось прыгать, а на гору к избе ведет ряд ступеней из бревнышек, врытых в землю почти отвесно, так что, поднимаясь, надо крепко держаться руками. Но какой ужас! Пока я взбирался на гору и подходил к избе, меня окружали тучи комаров, буквально тучи, было темно от них, лицо и руки мои жгло, и не было возможности защищаться. Я думаю, что если здесь остаться ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или, по меньшей мере, сойти с ума.
Изба разделяется сенями на две половины: налево живут матросы, направо – офицер с семьей. Хозяина дома не было. Я застал изящно одетую, интеллигентную даму, его жену, и двух дочерей, маленьких девочек, искусанных комарами. В комнатах все стены покрыты еловой зеленью, окна затянуты марлей, пахнет дымом, но комары, несмотря ни на что, все-таки есть и жалят бедных девочек. В комнате обстановка не богатая, лагерная, но в убранстве чувствуется что-то милое, вкусное. На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом. Оказывается, что г. Б. – художник.
– Хорошо ли вам тут живется? – спрашиваю я даму.
– Хорошо, да вот только комары.
Свежему мясу она не обрадовалась; по ее словам, она и дети давно уже привыкли к солонине и свежего мяса не любят.
– Впрочем, вчера варили форелей, – добавила она.
Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал:
– По доброй воле сюда не заедешь!
На другой день рано утром пошли дальше при совершенно тихой и теплой погоде. Татарский берег горист и изобилует пиками, то есть острыми, коническими вершинами. Он слегка подернут синеватою мглой: это дым от далеких лесных пожаров, который здесь, как говорят, бывает иногда так густ, что становится опасен для моряков не меньше, чем туман. Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии пятисот верст и больше… Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека. В шесть часов были в самом узком месте пролива, между мысами Погоби и Лазарева, и очень близко видели оба берега, в восемь проходили мимо Шапки Невельского – так называется гора с бугром на вершине, похожим на шапку. Утро было яркое, блестящее, и наслаждение, которое я испытывал, усиливалось еще от гордого сознания, что я вижу эти берега.
Во втором часу вошли в бухту де-Кастри. Это единственное место, где могут во время бури укрываться суда, плавающие по проливу, и не будь ее, судоходство у сахалинских берегов, которые сплошь негостеприимны, было бы немыслимо[9]. Даже есть такое выражение: «удирать в де-Кастри». Бухта прекрасная и устроена природой точно по заказу. Это круглый пруд, версты три в диаметре, с высокими берегами, защищающими от ветров, с нешироким выходом в море. Если судить по наружному виду, то бухта идеальная, но, увы! – это только кажется так; семь месяцев в году она бывает покрыта льдом, мало защищена от восточного ветра и так мелка, что пароходы бросают якорь в двух верстах от берега. Выход в море сторожат три острова, или, вернее, рифа, придающие бухте своеобразную красоту; один из них назван Устричным: очень крупные и жирные устрицы водятся на его подводной части.
На берегу несколько домиков и церковь. Это Александровский пост. Тут живут начальник поста, его делопроизводитель и телеграфисты. Один местный чиновник, приезжавший к нам на пароход обедать, скучный и скучающий господин, много говорил за обедом, много пил и рассказал нам старый анекдот про гусей, которые, наевшись ягод из-под наливки и опьяневши, были приняты за мертвых, ощипаны и выброшены вон и потом, проспавшись, голые вернулись домой; при этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в де-Кастри в его собственном дворе. Священника при церкви нет, и он, когда нужно, приезжает из Мариинска. Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же как в Николаевске. Говорят, что весною этого года здесь работала промерная экспедиция и во весь май было только три солнечных дня. Извольте работать без солнца!
На рейде мы застали военные суда «Бобр» и «Тунгус» и две миноноски. Вспоминается и еще одна подробность: едва мы бросили якорь, как потемнело небо, собралась гроза и вода приняла необыкновенный, ярко-зеленый цвет. «Байкалу» предстояло выгрузить четыре тысячи пудов казенного груза, и потому остались в де-Кастри ночевать. Чтобы скоротать время, я и механик удили с палубы рыбу, и нам попадались очень крупные, толстоголовые бычки, каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море. Попадалась и камбала.
Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови. Впрочем, это горькая участь всех наших восточных портов. В де-Кастри выгружают на небольшие баржи-шаланды, которые могут приставать к берегу только во время прилива и потому нагруженные часто садятся на мель; случается, что благодаря этому пароход простаивает из-за какой-нибудь сотни мешков муки весь промежуток времени между отливом и приливом. В Николаевске беспорядков еще больше. Там, стоя на палубе «Байкала», я видел, как буксирный пароход, тащивший большую баржу с двумя сотнями солдат, утерял свой буксирный канат; баржу понесло течением по рейду, и она пошла прямо на якорную цепь парусного судна, стоявшего недалеко от нас. Мы с замиранием сердца ждали, что вот еще один момент и баржа будет перерезана цепью, но, к счастью, добрые люди вовремя перехватили канат, и солдаты отделались одним только испугом.
II
Краткая география. – Прибытие в Северный Сахалин. – Пожар. – Пристань. – В Слободке. – Обед у г. Л. – Знакомства. – Ген. Кононович. – Приезд генерал-губернатора. – Обед и иллюминация
Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти тысячу верст восточного берега Сибири и вход в устье Амура. Он имеет форму, удлиненную с севера на юг, и фигурою, по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Географическое положение его определяется так: от 45°54’ до 54°53’ с. ш. и от 141°40’ до 144°53’ в. д. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губ(ернии), а южная – Крыму. Длина острова 900 верст; наибольшая его ширина равняется 125 и наименьшая 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании.
Прежнее деление его на северный, средний и южный неудобно в практическом отношении, и теперь делят только на северный и южный. Верхняя треть острова по своим климатическим и почвенным условиям совершенно непригодна для поселения и потому в счет не идет; средняя треть называется Северным Сахалином, а нижняя – Южным; строго определенной границы между двумя последними не существует. Ссыльные в настоящее время живут в Северном, по реке Дуйке и по реке Тыми; Дуйка впадает в Татарский пролив, а Тымь – в Охотское море, и обе реки на карте встречаются своими верховьями. Живут также и по западному побережью, на небольшом пространстве вверх и вниз от устья Дуйки. В административном отношении Северный Сахалин делится на два округа: Александровский и Тымовский.
Переночевавши в де-Кастри, мы на другой день, 10 июля, в полдень пошли поперек Татарского пролива к устью Дуйки, где находится Александровский пост. Погода и в этот раз была тихая, ясная, какая здесь бывает очень редко. По совершенно гладкому морю, пуская вверх фонтаны, гуляли парочками киты, и это прекрасное, оригинальное зрелище развлекало нас на всем пути. Но настроение духа, признаюсь, было невеселое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже. Я был непокоен. Офицер, сопровождавший солдат, узнав, зачем я еду на Сахалин, очень удивился и стал уверять меня, что я не имею никакого права подходить близко к каторге и колонии, так как я не состою на государственной службе. Конечно, я знал, что он не прав, но все же от слов его становилось мне жутко, и я боялся, что и на Сахалине, пожалуй, я встречу точно такой же взгляд.
Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них – горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин. Вправо темною тяжелою массой выдается в море мыс Жонкьер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом стоят три остроконечных рифа – «Три брата». И все в дыму, как в аду.
К пароходу подошел катер, таща за собою на буксире баржу. Это привезли каторжных для разгрузки парохода. Слышались татарский говор и брань.
– Не пускать их на пароход! – раздался крик с борта. – Не пускать! Они ночью весь пароход обокрадут!
– Тут в Александровске еще ничего, – сказал мне механик, заметив, какое тяжелое впечатление произвел на меня берег, – а вот вы увидите Дуэ! Там берег совсем отвесный, с темными ущельями и с угольными пластами… мрачный берег! Бывало, мы возили на «Байкале» в Дуэ по 200–300 каторжных, так я видел, как многие из них при взгляде на берег плакали.
– Не они, а мы тут каторжные, – сказал с раздражением командир. – Теперь здесь тихо, но посмотрели бы вы осенью: ветер, пурга, холод, волны валяют через борт, – хоть пропадай!
Я остался ночевать на пароходе. Рано утром, часов в пять, меня шумно разбудили: «Скорее, скорее! Катер в последний раз уходит к берегу! Сейчас снимаемся!» Через минуту я уже сидел в катере, а рядом со мной молодой чиновник с сердитым заспанным лицом. Катер засвистел, и мы пошли к берегу, таща за собой две баржи с каторжными. Изморенные ночною работой и бессонницей, арестанты были вялы и угрюмы; все время молчали. Лица их были покрыты росой. Мне припоминается теперь несколько кавказцев с резкими чертами и в меховых шапках, надвинутых до бровей.
– Позвольте познакомиться, – сказал мне чиновник, – коллежский регистратор Д.
Это был мой первый сахалинский знакомый, поэт, автор обличительного стихотворения «Сахалино», которое начиналось так: «Скажи-ка, доктор, ведь недаром…» Потом он часто бывал у меня и гулял со мной по Александровску и его окрестностям, рассказывая мне анекдоты или без конца читая стихи собственного сочинения. В длинные зимние ночи он пишет либеральные повести, но при случае любит дать понять, что он коллежский регистратор и занимает должность X класса; когда одна баба, придя к нему по делу, назвала его господином Д., то он обиделся и сердито крикнул ей: «Я тебе не господин Д., а ваше благородие!» По пути к берегу я расспрашивал его насчет сахалинской жизни, как и что, а он зловеще вздыхал и говорил: «А вот вы увидите!» Солнце стояло уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно и так пугало воображение, теперь утопало в блеске раннего утра; толстый, неуклюжий Жонкьер с маяком, «Три брата» и высокие крутые берега, которые видны на десятки верст по обе стороны, прозрачный туман на горах и дым от пожара давали при блеске солнца и моря картину недурную.
Гавани здесь нет, и берега опасны, о чем внушительно свидетельствует шведский пароход «Atlas», потерпевший крушение незадолго до моего приезда и лежащий теперь на берегу. Пароходы останавливаются обыкновенно в версте от берега и редко ближе. Пристань есть, но только для катеров и барж. Это большой, в несколько сажен сруб, выдающийся в море в виде буквы Т; толстые лиственные сваи, крепко вбитые в дно морское, образуют ящики, которые доверху наполнены камнями; настилка из досок, по ней вдоль всей пристани проложены рельсы для вагонеток. На широком конце Т стоит хорошенький домик – контора пристани – и тут же высокая черная мачта. Сооружение солидное, но недолговечное. Во время хорошего шторма, как говорят, волна иногда хватает до окон домика и брызги долетают даже до мачтовой реи, причем дрожит вся пристань.
Возле пристани по берегу, по-видимому без дела, бродило с полсотни каторжных: одни в халатах, другие в куртках или пиджаках из серого сукна. При моем появлении вся полсотня сняла шапки – такой чести до сих пор, вероятно, не удостаивался еще ни один литератор. На берегу стояла чья-то лошадь, запряженная в безрессорную линейку. Каторжные взвалили мой багаж на линейку, человек с черною бородой, в пиджаке и в рубахе навыпуск, сел на козлы. Мы поехали.
– Куда прикажете, ваше высокоблагородие? – спросил он, оборачиваясь и снимая шапку.
Я спросил, не отдается ли тут где-нибудь внаймы квартира, хотя бы в одну комнату.
– Точно так, ваше высокоблагородие, отдается.
Две версты от пристани до Александровского поста я ехал по превосходному шоссе. В сравнении с сибирскими дорогами это чистенькое, гладкое шоссе, с канавами и фонарями, кажется просто роскошью. Рядом с ним проложена рельсовая дорога. Но природа по пути поражает своею бедностью. Вверху на горах и холмах, окружающих Александровскую долину, по которой протекает Дуйка, обгорелые пни или торчат, как иглы дикобраза, стволы лиственниц, высушенных ветром и пожарами, а внизу по долине кочки и кислые злаки – остатки недавно бывшего здесь непроходимого болота. Свежий разрез земли в канавах обнажает во всем ее убожестве болотную перегорелую почву с полувершковым слоем плохого чернозема. Ни сосны, ни дуба, ни клена – одна только лиственница, тощая, жалкая, точно сгрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а признаком дурной, болотистой почвы и сурового климата.
Александровский пост, или, короче, Александровск, представляет из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, тысячи на три жителей. В нем нет ни одной каменной постройки, а все сделано из дерева, главным образом из лиственницы: и церковь, и дома, и тротуары. Здесь резиденция начальника острова, центр сахалинской цивилизации. Тюрьма находится близ главной улицы, но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, и потому Александровск совсем не носит того мрачного острожного характера, какой я ожидал встретить.
Возница привез меня в Александровскую слободку, предместье поста, к крестьянину из ссыльных П. Мне показали квартиру. Небольшой дворик, мощенный по-сибирски бревнами, кругом навесы; в доме пять просторных, чистых комнат, кухня, но ни следа мебели. Хозяйка, молодая бабенка, принесла стол, потом минут через пять табурет.
– Эта квартира у нас ходила с дровами 22 рубля, а без дров 15, – сказала она.
А когда час спустя вносила самовар, сказала со вздохом:
– Заехали в эту пропасть!
Она девушкой пришла сюда с матерью за отцом-каторжным, который до сих пор еще не отбыл своего срока; теперь она замужем за крестьянином из ссыльных, мрачным стариком, которого я мельком видел, проходя по двору; он был болен чем-то, лежал на дворе под навесом и кряхтел.
– Теперь у нас в Тамбовской губернии, чай, жнут, – сказала хозяйка, – а тут глаза бы мои не глядели.
И в самом деле неинтересно глядеть: в окно видны грядки с капустною рассадой, около них безобразные канавы, вдали маячит тощая, засыхающая лиственница. Охая и держась за бока, вошел хозяин и стал мне жаловаться на неурожаи, холодный климат, нехорошую землю. Он благополучно отбыл каторгу и поселение, имел теперь два дома, лошадей и коров, держал много работников и сам ничего не делал, был женат на молоденькой, а главное, давно уже имел право переселиться на материк – и все-таки жаловался.
В полдень я ходил по слободке. На краю слободки стоит хорошенький домик с палисадником и с медною дощечкой на дверях, а возле домика в одном с ним дворе лавочка. Я зашел купить себе чего-нибудь поесть. «Торговое дело» и «Торгово-комиссионный склад» – так называется эта скромная лавочка в сохранившихся у меня печатном и рукописном прейскурантах – принадлежит ссыльнопоселенцу Л., бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет 12 тому назад Петербургским окружным судом за убийство. Он уже отбыл каторгу и занимается теперь торговлей, исполняет также разные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалованье старшего надзирателя. Жена его свободная, из дворянок, служит фельдшерицей в тюремной больнице. В лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахат-лукум, и пилы поперечные, и серпы, и «шляпы дамские, летние, самые модные, лучших фасонов от 4 р. 50 к. до 12 р. за штуку». Пока я разговаривал с приказчиком, в лавочку вошел сам хозяин в шелковой жакетке и в цветном галстуке. Мы познакомились.
– Не будете ли добры отобедать у меня? – предложил он.
Я согласился, и мы пошли в дом. Обстановка у него комфортабельная. Венская мебель, цветы, американский аристон и гнутое кресло, на котором Л. качается после обеда. Кроме хозяйки, я застал в столовой еще четырех гостей, чиновников. Один из них, старик без усов и с седыми бакенами, похожий лицом на драматурга Ибсена, оказался младшим врачом местного лазарета, другой, тоже старик, отрекомендовался штаб-офицером оренбургского казачьего войска. С первых же слов этот офицер произвел на меня впечатление очень доброго человека и большого патриота. Он кроток и добродушно рассудителен, но когда говорят о политике, то выходит из себя и с неподдельным пафосом начинает говорить о могуществе России и с презрением о немцах и англичанах, которых отродясь не видел. Про него рассказывают, что когда он, идучи морем на Сахалин, захотел в Сингапуре купить своей жене шелковый платок и ему предложили разменять русские деньги на доллары, то он будто бы обиделся и сказал: «Вот еще, стану я менять наши православные деньги на какие-то эфиопские!» И платок не был куплен.
За обедом подавали суп, цыплят и мороженое. Было и вино.
– Когда приблизительно идет здесь последний снег? – спросил я.
– В мае, – ответил Л.
– Неправда, в июне, – сказал доктор, похожий на Ибсена.
– Я знаю поселенца, – сказал Л., – у которого калифорнская пшеница дала сам-22.
И опять возражение со стороны доктора:
– Неправда. Ничего ваш Сахалин не дает. Проклятая земля.
– Позвольте, однако, – сказал один из чиновников, – в 82 году пшеница уродилась сам-40. Я это отлично знаю.
– Не верьте, – сказал мне доктор. – Это вам очки втирают.
За обедом же была рассказана такая легенда: когда русские заняли остров и затем стали обижать гиляков, то гиляцкий шаман проклял Сахалин и предсказал, что из него не выйдет никакого толку.
– Так оно и вышло, – вздохнул доктор.
После обеда Л. играл на аристоне. Доктор пригласил меня переехать к нему, и в тот же день вечером я поселился на главной улице поста, в одном из домов, ближайших к присутственным местам. С этого вечера началось мое посвящение в сахалинские тайны. Доктор рассказал мне, что незадолго до моего приезда, во время медицинского осмотра скота на морской пристани, у него произошло крупное недоразумение с начальником острова и что будто бы даже в конце концов генерал замахнулся на него палкой; на другой же день он был уволен по прошению, которого не подавал. Доктор показал мне целую кипу бумаг, написанных им, как он говорил, в защиту правды и из человеколюбия. Это были копии с прошений, жалоб, рапортов и… доносов[10].
– А генералу не понравится, что вы у меня остановились, – сказал доктор и значительно подмигнул глазом.
На другой день я был с визитом у начальника острова В. О. Кононовича. Несмотря на усталость и недосуг, генерал принял меня чрезвычайно любезно и беседовал со мною около часа. Он образован, начитан и, кроме того, обладает большою практическою опытностью, так как до своего назначения на Сахалин в продолжение 18 лет заведовал каторгой на Каре; он красиво говорит и красиво пишет и производит впечатление человека искреннего, проникнутого гуманными стремлениями. Я не могу забыть о том удовольствии, какое доставляли мне беседы с ним, и как приятно в первое время поражало постоянно высказываемое им отвращение к телесным наказаниям. Ж. Кеннан в своей известной книге отзывается о нем восторженно.
Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно.
– Отсюда все бегут, – сказал он, – и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне еще не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которой требуется здесь так много, благодаря, главным образом, разбросанности дела.
Он обещал мне полное содействие, но просил обождать; на Сахалине готовились к встрече генерал-губернатора, и все были заняты.
– А я рад, что вы остановились у нашего врага, – сказал он, прощаясь со мной. – Вы будете знать наши слабые стороны.
До приезда генерал-губернатора я жил в Александровске, в квартире доктора. Жизнь была не совсем обыкновенная. Когда я просыпался утром, самые разнообразные звуки напоминали мне, где я. Мимо открытых окон по улице, не спеша, с мерным звоном проходили кандальные; против нашей квартиры в военной казарме солдаты-музыканты разучивали к встрече генерал-губернатора свои марши, и при этом флейта играла из одной пьесы, тромбон из другой, фагот из третьей, и получался невообразимый хаос. А в комнатах у нас неугомонно свистали канарейки, и мой хозяин-доктор ходил из угла в угол и, перелистывая на ходу законы, мыслил вслух:
– Если на основании статьи такой-то я подам прошение туда-то, и т. д.
Или же он вместе со своим сыном садился писать какую-нибудь кляузу. Выйдешь на улицу, тут жарко. Жалуются даже на засуху, и офицеры ходят в кителях, а это бывает не каждое лето. Движение на улицах здесь гораздо значительнее, чем в наших уездных городах, и это легко объяснить приготовлениями к встрече начальника края, главным же образом – преобладанием в здешнем населении рабочего возраста, который большую часть дня проводит вне дома. К тому же здесь на небольшом пространстве сгруппированы: тюрьма более чем на тысячу и военные казармы на 500 человек. Спешно строят мост через Дуйку, воздвигают арки, чистят, красят, подметают, маршируют. По улицам носятся тройки и пары с колокольчиками – это готовят для генерал-губернатора лошадей. Такая спешка, что работают даже в праздники.
Вот по улице, направляясь к полицейскому управлению, идет толпа гиляков, здешних аборигенов, и на них сердито лают смирные сахалинские дворняжки, которые лают почему-то на одних только гиляков. Вот другая группа: кандальные каторжные в шапках и без шапок, звеня цепями, тащат тяжелую тачку с песком, сзади к тачке цепляются мальчишки, по сторонам плетутся конвойные с потными красными лицами и с ружьями на плечах. Высыпав песок на площадке перед домом генерала, кандальные возвращаются тою же дорогой назад, и звон кандалов слышится непрерывно. Каторжный в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду голубику. Когда идешь по улице, сидящие встают и все встречные снимают шапки.
Каторжные и поселенцы, за немногими исключениями, ходят по улицам свободно, без кандалов и без конвоя, и встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость в первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идешь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку, а сзади в это время стоит и ждет его слуга – каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или, бывало, рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь – к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? «Сапожки почистить, ваше высокоблагородие». Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно покойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочнокаторжными.
Один корреспондент пишет, что вначале он трусил чуть не каждого куста, а при встречах на дороге и тропинках с арестантом ощупывал под пальто револьвер, потом успокоился, придя к заключению, что «каторга в общем – стадо баранов, трусливых, ленивых, полуголодных и заискивающих». Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встречного только из трусости и лени, надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека.
Приамурский генерал-губернатор барон А. Н. Корф прибыл на Сахалин 19 июля, на военном судне «Бобр». На площади, между домом начальника острова и церковью, он был встречен почетным караулом, чиновниками и толпою поселенцев и каторжных. Играла та самая музыка, о которой я только что говорил. Благообразный старик, бывший каторжный, разбогатевший на Сахалине, по фамилии Потемкин, поднес ему хлеб-соль на серебряном блюде местного изделия. На площади же стоял мой хозяин-доктор в черном фраке и в картузе и держал в руках прошение. Я в первый раз видел сахалинскую толпу, и от меня не укрылась ее печальная особенность: она состояла из мужчин и женщин рабочего возраста, были старики и дети, но совершенно отсутствовали юноши. Казалось, будто возраста от 13 до 20 лет на Сахалине вовсе не существует. И я невольно задал себе вопрос: не значит ли это, что молодежь, подрастая, оставляет остров при первой возможности?
На другой же день по приезде генерал-губернатор приступил к осмотру тюрем и поселений. Всюду поселенцы, ожидавшие его с большим нетерпением, подавали ему прошения и словесно заявляли просьбы. Говорили каждый за себя или один за все селение, и так как ораторское искусство процветает на Сахалине, то дело не обошлось и без речей; в Дербинском поселенец Маслов в своей речи несколько раз назвал начальство «всемилостивейшим правительством». К сожалению, далеко не все, обращавшиеся к барону А. Н. Корфу, просили того, что нужно. Тут, как и в России в подобных случаях, сказалась досадная мужицкая темнота: просили не школ, не правосудия, не заработков, а разных пустяков: кто казенного довольствия, кто усыновления ребенка, – одним словом, подавали прошения, которые могли быть удовлетворены и местным начальством. А. Н. Корф отнесся к их просьбам с полным вниманием и доброжелательством; глубоко тронутый их бедственным положением, он давал обещания и возбуждал надежды на лучшую жизнь[11]. Когда в Аркове помощник смотрителя тюрьмы отрапортовал: «В селении Аркове все обстоит благополучно», барон указал ему на озимые и яровые всходы и сказал: «Все благополучно, кроме только того, что в Аркове нет хлеба». В Александровской тюрьме по случаю его приезда арестантов кормили свежим мясом и даже олениной; он обошел все камеры, принимал прошения и приказал расковать многих кандальных.
22 июля после молебна и парада (был табельный день) прибежал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает меня видеть. Я отправился. А. Н. Корф принял меня очень ласково и беседовал со мной около получаса. Наш разговор происходил в присутствии ген. Кононовича. Между прочим, мне был предложен вопрос, не имею ли я какого-либо официального поручения. Я ответил: нет.
– По крайней мере нет ли у вас поручения от какого-либо ученого общества или газеты? – спросил барон.
У меня в кармане был корреспондентский бланок, но так как я не имел в виду печатать что-либо о Сахалине в газетах, то, не желая вводить в заблуждение людей, относившихся ко мне, очевидно, с полным доверием, я ответил: нет.
– Я разрешаю вам бывать где и у кого угодно, – сказал барон. – Нам скрывать нечего. Вы осмотрите здесь все, вам дадут свободный пропуск во все тюрьмы и поселения, вы будете пользоваться документами, необходимыми для вашей работы, – одним словом, вам двери будут открыты всюду. Не могу я разрешить вам только одного: какого бы то ни было общения с политическими, так как разрешать вам это я не имею никакого права.
Отпуская меня, барон сказал:
– Завтра мы еще поговорим. Приходите с бумагой.
В тот же день я присутствовал на торжественном обеде в квартире начальника острова. Тут я познакомился почти со всею сахалинскою администрацией. За обедом играла музыка, произносились речи. А. Н. Корф, в ответ на тост за его здоровье, сказал короткую речь, из которой мне теперь припоминаются слова: «Я убедился, что на Сахалине «несчастным» живется легче, чем где-либо в России и даже Европе. В этом отношении вам предстоит сделать еще многое, так как путь добра бесконечен». Он пять лет назад был на Сахалине и теперь находил прогресс значительным, превосходившим всякие ожидания. Его похвальное слово не мирилось в сознании с такими явлениями, как голод, повальная проституция ссыльных женщин, жестокие телесные наказания, но слушатели должны были верить ему: настоящее в сравнении с тем, что происходило пять лет назад, представлялось чуть ли не началом золотого века.
Вечером была иллюминация. По улицам, освещенным плошками и бенгальским огнем, до позднего вечера гуляли толпами солдаты, поселенцы и каторжные. Тюрьма была открыта. Река Дуйка, всегда убогая, грязная, с лысыми берегами, а теперь украшенная по обе стороны разноцветными фонарями и бенгальскими огнями, которые отражались в ней, была на этот раз красива, даже величественна, но и смешна, как кухаркина дочь, на которую для примерки надели барышнино платье. В саду генерала играла музыка и пели певчие. Даже из пушки стреляли, и пушку разорвало. И все-таки, несмотря на такое веселье, на улицах было скучно. Ни песен, ни гармоники, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и молчали, как тени. Каторга и при бенгальском освещении остается каторгой, а музыка, когда ее издали слышит человек, который никогда уже не вернется на родину, наводит только смертную тоску.
Когда я явился к генерал-губернатору с бумагой, он изложил мне свой взгляд на сахалинскую каторгу и колонию и предложил записать все, сказанное им, что я, конечно, исполнил очень охотно. Все записанное он предложил мне озаглавить так: «Описание жизни несчастных». Из нашей последней беседы и из того, что я записал под его диктовку, я вынес убеждение, что это великодушный и благородный человек, но что «жизнь несчастных» была знакома ему не так близко, как он думал. Вот несколько строк из описания: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. Бессрочная каторга ограничивается 20-ю годами. Каторжные работы не тягостны. Труд подневольный не дает работнику личной пользы – в этом его тягость, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет».
Дни стояли хорошие, с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вечера были превосходные; припоминается мне пылающий запад, темно-синее море и совершенно белая луна, выходящая из-за гор. В такие вечера я любил кататься по долине между постом и деревней Ново-Михайловкой; дорога здесь гладкая, ровная, рядом с ней рельсовый путь для вагонеток, телеграф. Чем дальше от Александровска, тем долина становится уже, потемки густеют, гигантские лопухи начинают казаться тропическими растениями; со всех сторон надвигаются темные горы. Вон вдали огни, где жгут уголь, вон огонь от пожара. Восходит луна. Вдруг фантастическая картина: мне навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжный в белом. Становится жутко.
– Не пора ли назад? – спрашиваю кучера. Кучер-каторжный поворачивает лошадей, потом оглядывается на горы и огни и говорит:
– Скучно здесь, ваше высокоблагородие. У нас в России лучше.
III
Перепись. – Содержание статистических карточек. – О чем я спрашивал, и как отвечали мне. – Изба и ее жильцы. – Мнения ссыльных о переписи
Чтобы побывать по возможности во всех населенных местах и познакомиться поближе с жизнью большинства ссыльных, я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным. Я сделал перепись. В селениях, где я был, я обошел все избы и записал хозяев, членов их семей, жильцов и работников. Чтобы облегчить мой труд и сократить время, мне любезно предлагали помощников, но так как, делая перепись, я имел главною целью не результаты ее, а те впечатления, которые дает самый процесс переписи, то я пользовался чужою помощью только в очень редких случаях. Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком, в сущности, нельзя назвать переписью; результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой, но, за неимением более серьезных данных ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры.
Для переписи я пользовался карточками, которые были напечатаны для меня в типографии при полицейском управлении. Самый процесс переписи заключался в следующем. Прежде всего на каждой карточке в первой строке я отмечал название поста или селения. Во второй строке: номер дома по казенной подворной описи. Затем, в третьей строке, звание записываемого: каторжный, поселенец, крестьянин из ссыльных, свободного состояния. Свободных я записывал только в тех случаях, если они принимали непосредственное участие в хозяйстве ссыльного, например, состояли с ним в браке, законном или незаконном, и вообще принадлежали к семье его или проживали в его избе в качестве работника или жильца и т. п. Званию в сахалинском обиходе придается большое значение. Каторжного, несомненно, стесняет его звание; на вопрос, какого он звания, он отвечает: «рабочий». Если же до каторги он был солдатом, то непременно добавляет еще к этому: «из солдат, ваше высокоблагородие». Отбыв или, как сам он выражается, отслужив свой срок, он становится поселенцем. Это новое звание не считается низким уже потому, что слово «поселенец» мало чем отличается от поселянина, не говоря уже о правах, какие сопряжены с этим званием. На вопрос, кто он, поселенец обыкновенно отвечает так: «вольный». Через десять, а при благоприятных условиях, оговоренных в уставе о ссыльных, через шесть лет поселенец получает звание крестьянина из ссыльных. На вопрос, какого он звания, крестьянин отвечает не без достоинства, как будто уж не может идти в счет с прочими и отличается от них чем-то особенным: «Я крестьянин». Но без прибавки «из ссыльных». Я не спрашивал ссыльных о прежнем их звании, так как по этому пункту в канцеляриях имеется достаточно сведений. Сами они, кроме солдат, ни мещане, ни купцы, ни духовные, не распространяются насчет своего утерянного звания, как будто оно уже забыто, а называют свое прежнее состояние коротко – волей. Если кто заводит разговор о своем прошлом, то обыкновенно начинает так: «Когда я жил на воле…» и т. д.
Четвертая строка: имя, отчество и фамилия. Насчет имен могу только вспомнить, что я, кажется, не записал правильно ни одного женского татарского имени. В татарской семье, где много девочек, а отец и мать едва понимают по-русски, трудно добиться толку и приходится записывать наугад. И в казенных бумагах татарские имена пишутся тоже неправильно.
Случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут, отвечает не шутя: «Карл». Это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем. Таких, помнится, записано мною двое: Карл Лангер и Карл Карлов. Есть каторжный, которого зовут Наполеоном. Есть женщина-бродяга Прасковья, она же Марья. Что касается фамилий, то по какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых и Беспаловых. Много курьезных фамилий: Шкандыба, Желудок, Безбожный, Зевака. Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав состояния, приставки и частицы, означающие высокие звания и титулы. Насколько это верно, не знаю, но ханов, султанов и оглы записал я немало. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий. Вот несколько бродяжеских прозвищ: Мустафа Непомнящий, Василий Безотечества, Франц Непомнящий, Иван Непомнящий 20 лет, Яков Беспрозвания, бродяга Иван 35 лет[12], Человек Неизвестного Звания.
В этой же строке я отмечал отношения записываемого к хозяину: жена, сын, сожительница, работник, жилец, сын жильца и т. д. Записывая детей, я отличал законно- и незаконнорожденных, родных и приемных. Кстати сказать, приемыши часто встречаются на Сахалине, и мне приходилось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов. Многие из живущих в избах относятся к хозяевам как совладельцы или половинщики. В обоих северных округах на одном участке сидят по два и даже по три владельца, и так – больше, чем в половине хозяйств; поселенец садится на участок, строит дом и обзаводится хозяйством, а через два-три года ему сажают совладельца или же один участок дают сразу двум поселенцам. Это происходит от нежеланья и неуменья администрации приискивать новые места для поселений. Бывает и так, что отбывший каторгу просит, чтобы ему позволили поселиться в таком посту или селении, где усадебных мест уже нет, и его поневоле приходится сажать уже на готовое хозяйство. Количество совладельцев особенно увеличивается после объявления высочайших манифестов, когда администрация бывает вынуждена приискивать места сразу для нескольких сотен душ.
Пятая строка: возраст. Женщины, которым уже за сорок, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос, подумав. Армяне из Эриванской губ(ернии) совсем не знают своего возраста. Один из них ответил мне так: «Может, тридцать, а может, уже и пятьдесят». В таких случаях приходилось определять возраст приблизительно, на глаз, и потом проверять по статейному списку. Молодежь 15 лет и постарше обыкновенно убавляет свои лета. Иная уже невеста или давно уже занимается проституцией, а все еще 13-14 лет. Дело в том, что дети и подростки в беднейших семьях получают от казны кормовые, которые выдаются только до 15 лет, и тут молодых людей и их родителей простой расчет побуждает говорить неправду.
Шестая строка относилась к вероисповеданию. Седьмая: где родился? На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения, и только бродяги отвечали каким-нибудь острожным каламбуром или «не помню». Девица Наталья Непомнящая, когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне: «Всех понемножку». Земляки заметно держатся друг друга, вместе ведут компанию, и коли бегут, то тоже вместе; туляк предпочитает идти в совладельцы к туляку, бакинец к бакинцу. По-видимому, существуют землячества. Когда случалось спрашивать про отсутствующего, то земляки давали о нем самые подробные сведения.
Восьмая строка: с какого года на Сахалине? Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос сразу, без напряжения. Год прибытия на Сахалин – год страшного несчастья, а между тем его не знают или не помнят. Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалин, а она отвечает вяло, не думая: «Кто ж его знает? Должно, в 83-м». Вмешивается муж или сожитель: «Ну, что зря языком болтать? Ты пришла в 85-м». – «Может, и в 85-м», – соглашается она со вздохом. Начинаем считать, и мужик выходит прав. Мужчины не так туги, как бабы, но и они дают ответ не сразу, а подумав и поговорив.
– Тебя в каком году пригнали на Сахалин? – спрашиваю я поселенца.
– Я одного сплава с Гладким, – говорит он неуверенно, поглядывая на товарищей.
Гладкий первого сплава, а первый сплав, то есть первый «Доброволец», пришел на Сахалин в 1879 г. Так и записываю. Или бывает такой ответ: «В каторге я пробыл шесть лет, да вот в поселенцах уж третий год… Вот и считайте». – «Значит, ты на Сахалине уже девятый год?» – «Никак нет. До Сахалина я еще в централе отсидел два года». И т. д. Или такой ответ: «Я пришел в тот год, когда Дербина убили». Или: «Тогда Мицуль помер». Для меня было особенно важно получать верные ответы от тех, которые пришли сюда в шестидесятых и семидесятых годах; мне хотелось не пропустить ни одного из них, что, по всей вероятности, не удалось мне. Сколько уцелело из тех, которые пришли сюда 20–25 лет назад? – вопрос, можно сказать, роковой для сахалинской колонизации.
В девятой строке я записывал главное занятие и ремесло.
В десятой – грамотность. Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме: «Знаешь ли грамоте?» – я же спрашивал так: «Умеешь ли читать?» – и это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по-печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. «Где уж нам? Какая наша грамота?» – и лишь при повторении вопроса говорят: «Разбирал когда-то по-печатному, да теперь, знать, забыл. Народ мы темный, одно слово – мужики». Неграмотными называют себя также плохо видящие глазами и слепые.
Одиннадцатая относилась к семейному состоянию: женат, вдов, холост? Если женат, то где: на родине, на Сахалине? Слова «женат, вдов, холост» на Сахалине еще не определяют семейного положения; здесь очень часто женатые бывают обречены на одинокую безбрачную жизнь, так как супруги их живут на родине и не дают им развода, а холостые и вдовые живут семейно и имеют по полдюжине детей; поэтому ведущих холостую жизнь не формально, а на самом деле, хотя бы они значились женатыми, я считал не лишним отмечать словом «одинок». Нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения и нигде он не облечен в такую оригинальную форму, как на Сахалине. Незаконное, или, как называют здесь, свободное, сожительство не встречает себе противников ни в начальстве, ни в духовенстве, а, наоборот, поощряется и санкционируется. Есть поселения, где не встретишь ни одного законного сожительства. Свободные пары составляют хозяйства на тех же основаниях, как и законные; они рождают для колонии детей, а потому нет причин при регистрации создавать для них особые правила.
Наконец, двенадцатая строка: получает ли пособие от казны? Из ответов на этот вопрос я хотел выяснить, какая часть населения не в состоянии обойтись без матерьяльной поддержки от казны, или, другими словами, кто кормит колонию: она сама себя или казна? Пособие от казны, кормовое или вещевое, или денежное, обязательно получают все каторжные, поселенцы в первые годы по отбытии каторги, богадельщики и дети беднейших семей. Кроме этих официально признанных пенсионеров, я отметил живущими на счет казны также и тех ссыльных, которые получают от нее жалованье за разные услуги, например: учителя, писаря, надзиратели и т. п. Но ответ получился неполный. Кроме обычных пайков, кормовых и жалований, в широких размерах практикуется еще выдача таких пособий, которые невозможно отметить на карточках, например: пособие при вступлении в брак, покупка у поселенцев зерна по умышленно дорогой цене, а главное, выдача семян, скота и пр. в долг. Иной поселенец должен в казну несколько сот рублей и никогда их не отдаст, но я поневоле должен был записать его не получающим пособия.
Каждую женскую карточку я перечеркивал вдоль красным карандашом и нахожу, что это удобнее, чем иметь особую рубрику для отметки пола. Я записывал только наличных членов семьи; если мне говорили, что старший сын уехал во Владивосток на заработки, а второй служит в селении Рыковском в работниках, то я первого не записывал вовсе, а второго заносил на карточку в месте его жительства.
Я ходил из избы в избу один; иногда сопровождал меня какой-нибудь каторжный или поселенец, бравший на себя от скуки роль проводника. Иногда за мной или на некотором расстоянии следовал, как тень, надзиратель с револьвером. Это посылали его на случай, если я потребую каких-нибудь разъяснений. Когда я обращался к нему с каким-нибудь вопросом, то лоб у него мгновенно покрывался потом, и он отвечал: «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» Обыкновенно спутник мой, босой и без шапки, с моею чернильницей в руках, забегал вперед, шумно отворял дверь и в сенях успевал что-то шепнуть хозяину – вероятно, свои предположения насчет моей переписи. Я входил в избу. На Сахалине попадаются избы всякого рода, смотря по тому, кто строил – сибиряк, хохол или чухонец, но чаще всего – это небольшой сруб, аршин в шесть, двух- или трехоконный, без всяких наружных украшений, крытый соломой, корьем и редко тесом. Двора обыкновенно нет. Возле ни одного деревца. Сараишко или банька на сибирский манер встречаются редко. Если есть собаки, то вялые, не злые, которые, как я говорил уже, лают на одних только гиляков, вероятно, потому, что те носят обувь из собачьей шкуры. И почему-то эти смирные, безобидные собаки на привязи. Если есть свинья, то с колодкой на шее. Петух тоже привязан за ногу.
– Зачем это у тебя собака и петух привязаны? – спрашиваю хозяина.
– У нас на Сахалине все на цепи, – острит он в ответ. – Земля уж такая.
В избе одна комната, с русскою печкой. Полы деревянные. Стол, два-три табурета, скамья, кровать с постелью или же постлано прямо на полу. Или так, что нет никакой мебели и только среди комнаты лежит на полу перина, и видно, что на ней только что спали; на окне чашка с объедками. По обстановке это не изба, не комната, а скорее, камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство, но все же и там чувствуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он очень беден и тускл, без лампады и без украшений, – нет обычаев; обстановка носит случайный характер, и похоже, как будто семья живет не у себя дома, а на квартире или будто она только что приехала и еще не успела освоиться; нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка… а главное, нет родины.
Картины, которые я встречал, обыкновенно не говорили мне о домовитости, уютности и о прочности хозяйств. Чаще всего я встречал в избе самого хозяина, одинокого, скучающего бобыля, который, казалось, окоченел от вынужденного безделья и скуки; на нем вольное платье, но по привычке шинель накинута на плечи по-арестантски, и если он недавно вышел из тюрьмы, то на столе у него валяется фуражка без козырька. Печка не топлена, посуды только и есть, что котелок да бутылка, заткнутая бумажкой. Сам он о своей жизни и о своем хозяйстве отзывается насмешливо, с холодным презрением. Говорит, что уже всякие способы перепробовал, но никакого толку не выходит; остается одно: махнуть на все рукой. Пока говоришь с ним, в избу собираются соседи, и начинается разговор на разные темы: о начальстве, климате, женщинах… От скуки все готовы говорить и слушать без конца. Бывает и так, что, кроме хозяина, застаешь в избе еще целую толпу жильцов и работников; на пороге сидит жилец-каторжный с ремешком на волосах и шьет чирки; пахнет кожей и сапожным варом; в сенях на лохмотьях лежат его дети, и тут же в темном и тесном углу его жена, пришедшая за ним добровольно, делает на маленьком столике вареники с голубикой; это недавно прибывшая из России семья. Дальше, в самой избе, человек пять мужчин, которые называют себя кто – жильцом, кто – работником, а кто – сожителем; один стоит около печки и, надув щеки, выпучив глаза, паяет что-то; другой, очевидно, шут, с деланно-глупою физиономией, бормочет что-то, остальные хохочут в кулаки. А на постели сидит вавилонская блудница, сама хозяйка Лукерья Непомнящая, лохматая, тощая, с веснушками; она старается посмешнее отвечать на мои вопросы и болтает при этом ногами. Глаза у нее нехорошие, мутные, и по испитому, апатичному лицу я могу судить, сколько на своем еще коротком веку переиспытала она тюрем, этапов, болезней. Эта Лукерья задает в избе общий тон жизни, и благодаря ей на всей обстановке сказывается близость ошалелого, беспутного бродяги. Тут уж о серьезном хозяйстве не может быть и речи. Приходилось также заставать в избе целую компанию, которая до моего прихода играла в карты; на лицах смущение, скука и ожидание: когда я уйду, чтобы опять можно было приняться за карты? Или входишь в избу, и намека нет на мебель, печь голая, а на полу у стен рядышком сидят черкесы, одни в шапках, другие с непокрытыми стрижеными и, по-видимому, очень жесткими головами и смотрят на меня не мигая. Если я заставал дома одну только сожительницу, то обыкновенно она лежала в постели, отвечала на мои вопросы, зевая и потягиваясь, и, когда я уходил, опять ложилась.
Ссыльное население смотрело на меня, как на лицо официальное, а на перепись – как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так часты и обыкновенно ни к чему не ведут. Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало в ссыльных некоторое любопытство. Меня спрашивали:
– Зачем это вы всех нас записываете?
И тут начинались разные предположения. Одни говорили, что, вероятно, высшее начальство хочет распределить пособие между ссыльными, другие – что, должно быть, уж решили наконец переселять всех на материк, – а здесь упорно и крепко держится убеждение, что рано или поздно каторга с поселениями будет переведена на материк, – третьи, прикидываясь скептиками, говорили, что они не ждут уже ничего хорошего, так как от них сам Бог отказался, и это для того, чтобы вызвать с моей стороны возражение. А из сеней или с печки, как бы в насмешку над всеми этими надеждами и догадками, доносился голос, в котором слышались усталость, скука и досада на беспокойство:
– И все они пишут, и все они пишут, и все они пишут, Царица Небесная!
Голодать и вообще терпеть какие-либо лишения во время моих разъездов по Сахалину мне не приходилось. Я читал, будто агроном Мицуль, исследуя остров, терпел сильную нужду и даже вынужден был съесть свою собаку. Но с тех пор обстоятельства значительно изменились. Теперешний агроном ездит по отличным дорогам; даже в самых бедных селениях есть надзирательские, или так называемые станки, где всегда можно найти теплое помещение, самовар и постель. Исследователи, когда отправляются в глубь острова, в тайгу, то берут с собой американские консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и все, что только можно взвалить на плечи каторжным, заменяющим на Сахалине вьючных животных. Случается и теперь, что люди питаются гнилушками с солью и даже поедают друг друга, но это относится не к туристам и не к чиновникам.
В следующих главах я буду описывать посты и селения и попутно знакомить читателя с каторжными работами и тюрьмами, поскольку я сам успел познакомиться с ними в короткое время. На Сахалине каторжные работы разнообразны в высшей степени; они не специализировались на золоте или угле, а обнимают весь обиход сахалинской жизни и разбросаны по всем населенным местам острова. Корчевка леса, постройки, осушка болот, рыбные ловли, сенокос, нагрузка пароходов – все это виды каторжных работ, которые по необходимости до такой степени слились с жизнью колонии, что выделять их и говорить о них как о чем-то самостоятельно существующем на острове можно разве только при известном рутинном взгляде на дело, который на каторге ищет прежде всего рудников и заводских работ.
Я начну с Александровской долины, с селений, расположенных на реке Дуйке. На Северном Сахалине эта долина была первая избрана для поселений не потому, что она лучше всех исследована или отвечает целям колонизации, а просто случайно, благодаря тому обстоятельству, что она была ближайшей к Дуэ, где впервые возникла каторга.