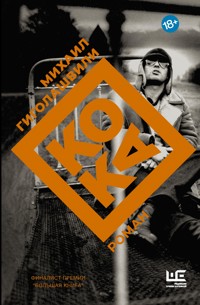Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Михаил Гиголашвили (р. 1954) — прозаик и филолог, автор романов «Иудея», «Толмач», «Чёртово колесо» (выбор читателей премии «Большая книга»), «Захват Московии» (шорт-лист премии НОС). «Тайный год» — об одном из самых таинственных периодов русской истории, когда Иван Грозный оставил престол и затворился на год в Александровой слободе. Это не традиционный «костюмный» роман, скорее — психодрама с элементами фантасмагории. Детальное описание двух недель из жизни Ивана IV нужно автору, чтобы изнутри показать специфику болезненного сознания, понять природу власти — вне особенностей конкретной исторической эпохи — и ответить на вопрос: почему фигура грозного царя вновь так актуальна в XXI веке? Роман вошел в шорт-лист премии «Большая книга» и удостоился «Русской премии».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1085
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Михаил Гиголашвили Тайный год
© Гиголашвили М. Г.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
В 1575 году от девственного Рождества Спасителя царь и великий князь всея Руси Иван IV Васильевич внезапно сложил с себя все титулы, отрёкся от престола, посадил на царство Симеона Бекбулатовича, выкрещенца из татар, потомка Чингисхана, сам же с семьёй на целый год скрылся от людских глаз. Причины сего поступка доселе неясны и туманны.
Далече мне с тобою путешествовать, страшный и грозный Ангеле, не устраши меня, маломощного!
Даруй мне, Ангеле, смиренное своё пришествие и прекрасный приход, и тогда я вельми возрадуюсь!
Часть первая. Страдник пекла
Глава 1. Град кровопийственный
…Утро начиналось дурно: спал нехорошо, с просыпами, сердечные колотья заели, хребет ныл, шишки на ногах тянули. И сон противный никак не отцепится – будто бредёт он один по дороге, а навстречу – покойный дружок Тишата, мелким шажком, словно что-то расплескать боясь. Его голова разрублена пополам, распадается по плечам. Тишата смыкает руками эти половинки, но сходятся они криво, отчего на косом лице вспучивается странная ухмылка – такая была, когда он, Иван, дикий от багрового гнева, в беспамятстве рубанул топором закадычного дружка и рассёк ему голову…
Тишата, смыкая половинки головы, плаксиво нюнит, выдувая кровавые пузыри:
– За что, государь?..
Он кидается ему помочь – и проснулся.
Серое небо в окне. Тихие разговоры за дверью.
Ох, Тишата… Недаром явился…
Кое-как перебрался к образам, с трудом установив колени. Начал молитву, но что-то мешало ему, кроме болей в спине и коленных мозолей. Это был шёпот, откуда-то несущийся. Мыши шуршат? Нет, для мышей светло, они тьму любят, как и тати ночные, что после войн, холеры и опришни участились на дорогах и проездах. Вопль в ночи – убой! Свет в ночи – налёт! Голоса во тьме – грабёж! А он-то думал опришней разбой усмирить! Какое там! После неё-то всё и разъехалось по швам: целые волости стоят сожжены, людишки разбежались, по весям шатаются, зловредством и воровским обманом промышляя. Опришня вышла из-под надзора, стала творить самовольное бесовство и беззаконие, пришлось окоротить её сильной рукой, ибо он есть длань Господня! Но теперь всё кончено – мир ему не нужен, и он миру ни к чему…
Первые дни в Александровой слободе, отчине покойной матушки, прошли в суетах и хлопотне по устройству – без хозяйского глаза и одёжу не постирают, и слуг не разместят, и летнее по шкапам не спрячут – зима на носу, а у них, суетников, всё по углам навалено, чтобы моль жрала да мышь гадила! Лень им сундуки открыть и туда покласть! Пока семью на бабской половине разместил, пока сам во дворце устроился (дворец – название одно: пристройка к церкви в три этажа, на горницы-кельи разбитая), пока охрану наладил – время прошло, а он устал.
Устанешь тут! От жены Анюши помощи мало – всё сидит возле дочери и вздыхает. И от слуг бестолковых хорошего не жди. Вчера сам охрану по крепости расставлял – хотя зачем она, охрана? Был царь – стал человек. А человеку много ль нужно? И он, Иван, кому нужен? Хватит, отцарствовался. Пусть теперь другие жилы рвут, а он сам по себе будет… Дел много найдётся… В семье, как в державе, всё по нужным местам определить надобно, тогда и крепко будет. А чуть не то – и съедет набок, словно треух с башки упойного писаря, как давеча: отхожее место для стрельцов правильно поставить не сумели – так косо возвели, что нужник, простояв малость, рухнул в выгребную яму, утопив воинника с казённым оружием.
А вчера шёл по двору, видит, какая-то прачка из портомойни вместе с клубом пара выскочила, зыркнула на него – и за угол, как от бешеной собаки. Что за напасть? Все от него шарахаются, будто он идолище поганое. Чуть руку поднимешь – отшатываются, а он крестное знамение сотворить хотел! Чуть пальцем двинешь – ниц падают, а он дитё по головке погладить вздумал, не более… «Вдали от тебя замерзаешь, а рядом – горишь!» – выхрипнул Федька Басман, на плаху всходя в шутовском летнике[1]. «Ты ж не сгорел, а куда уж ближе был?! А меня сжечь хотел в огне адовом, вот и получай, изменщик, душепродавец!» – ответил ему тогда. А ныне сказал бы: «Со мной тепло и хорошо было вам всем, а без меня – холодно и боязно будет!» Пусть, пусть теперь помёрзнут, охолодают и оголодают без него! Узнают, каково с такой махиной управляться, поляка гнать, шведа в узде держать, с татар ясак взимать, крымцов на султана науськивать!..
Прибыв в слободу, собрал дворовых и охрану возле Распятской церкви и самолично сообщил, что с сего мига он – не царь всея Руси, а простой малый князь. А царь сидит в Кремле, его величество Семион Бекбулатович, его почитать, государём величать и всяческие почести оказывать, а перед ним, Иваном, и шапок ломать в холод не надо:
– Ещё занеможете, чего доброго, а мне о вас печься потом, лекарствием поить! Обойдусь без ваших вшивых голов! Я ведь простой княжонок, Иванец Васильев Московский… Кто меня царём назовёт – батогами одарю! Вы свою работу исправно делайте, а я свою буду трудить…
Онемевший люд повалился ниц, не смея поднять глаз. Был слышен перешёп:
– Как не царь? А кто? Княжонок? Шапок не ломать? Какой Бекбулат? Что за напасть, Господи? Работу? Где ж видано, чтоб царь работал?
Переждал и добавил для ясности:
– А ежели прознаю, что царя Семиона татарской собакой, басурманом или ещё каким бранным словом шельмуете – языки враз поотрубаю и псам выкину! И лишнего люда чтоб в крепости не валандалось! Поймаю какого прожигу без дела или праздную шлынду – запорю!
Это всем было понятно. Людишки стали расползаться – кто на коленях задом пятясь, кто и ползком. А самые умные уже вполголоса объясняли, что обижен-де царь на московских бояр, на важных шишей, тиунов, воевод и всяких блудоумов – он их после измен и великого пожара простил, а те опять шебуршиться зачали. Вот он и ушёл от них сюда, в родное гнездовище, где ещё дитём бегал, старики это помнят… Отогреть и обогреть его надобно, а то зело холодно там, на Москве: в Кремле, бают, велики домины строены, где залы огромны, окна стрельчаты и цветны, тысячи свечей горят, а по углам бардадымы усаты и брадаты в два аршина ростом понапоставлены для порядка и услуг.
Шёпот не проходил.
Кряхтя, опираясь о посох, со стоном встал с колен и, в ночной рубахе, босой, приник к двери, без звука приоткрыв её на узкую щель (с малолетства умел, сильно сжав дверь или оконную раму, приказать им не скрипеть – и они повиновались, давая быть подслуху и подсмотру).
Так и есть: слуги – Прошка и его шурин, Ониська, знающий красивопись, закусывают калачами и сплётки про него накручивают. Ониська, новый человек в покоях, слушал, а Прошка разорялся почём зря – да ещё о чём, негодник? О царских болячках! О том, что каждую ночь царь парит ноги в окропе, где растворены горчица, мята, лимон и какая-то алоя, а эта алоя растёт в особой кадке на Сытном дворе и была подарена Салтанкул-мурзой, пока тот, собака, к крымчакам не перекинулся, хотя опосля и был выкран, привезён в Москву и посажен на кол.
– А через день царь в бочке сидеть изволит – там горячая вода с солью из святых палестин… Вода густая, что твоя сметана, шипуча, обжигуча, фырчет и пузырится…
– А чего с ноги? Раны, что ль? – спросил Ониська, подливая себе квас и разламывая калач, на что Прошка важно оживился:
– Какое там! У царя хидагра, еле ковыляет, вскорости ходить не сможет, солями просолился наскрозь… Перчёное да солёное охотно кушал, к этому его прежняя змея-жена Темрюковна, черкеска проклятая, привадила… Она его и на опришню навела! Страм один, говорит, у нас в Кваквазе каждый княжонок своё войско имеет, а у тебя, великого владыки необъятных земель и неисчислимых толп, даже и двух дюжин верных дружинников не наберётся!
Ониська захлопал глазами:
– Где? На ква-ква… Это чего того?
Прошка сгрёб и закинул в рот крошки со стола:
– А! Это там, далеко… где брадатые люди бесчинства творят… Вот с того и пошла эта кутерьма – набрал тьму молодцов: это-де мои верные государевы люди, опричь их мне ни опоры, ни доверия нет. А все другие – земщина, погана и продажна, топчи её, стриги как овцу, полосуй палашами, мордуй по-всякому! Так-то и пошла мясобойня! А ещё царь часто лишаями идёт – на спине гнойник надысь вылупился важный…
На это Ониська перекрестился:
– Господи Иисусе Христе! А чего?
Прошка вытянул ноги на лавку:
– А кто ж его знает! Дохтур Елисей, нехристь, что царя пользует, ну, немчин, звёздная гляделка, без него царь никуда ногой, так тот немчин сказал мне на ухо, чтобы я царскую одёжу сам особо не трогал и только одной какой-нибудь портомое на стирку и полоскалку давал. А почему – не сказывал: так делай, говорит, здоровее будешь. А главное, велел ту портомою ему потом показать. Неспроста сие!
Со двора донеслись скрипы колёс и крики возниц.
Прошка кинулся к окну, поглядел:
– Зерно на мукомольню повезли… – Вернулся на лавку. – Всем хорош наш государь, только вшей не терпит, за каждую по мордасам брязгает… А как их извести, когда их – чёртова пропасть? И площиц, и мокриц, и гладышей, и слепняков, и тараканов! Все они нам Господом в наказание дадены, и как нам теперя? А он – нет, ярится, рубахи меняет по пяти раз на дню… Зело брезглив стал: чуть увидит вошь или клопа – сразу мне по рогам чем попало хлещет, будто я их напускаю! А намедни Федьку-кухаря за таракана в каше тыкнул в лягву ножом до крови и в придачу мышь дохлую сожрать заставил.
– Сожрал, чего? – застыл Ониська, отложив калач.
– Сожрёшь, когда над тобой ослоп громовой завис!
Ониська сказал, что против вшей он защиты не знает, но против тараканов есть верное дело: у них в деревне старик Митрич умеет заговором эту нечисть выводить: берёт берёзовый веник, входит в избу, шепчет что-то, обмётывает пол, стены, вещи. После веник в угол ставит, тараканы на него сползаются, и через ночь веник шевелится, аки пчелиный рой, – его тут же с молитвой надо в печь кидать, он с треском вспыхнет, вонючим дымом обдаст – и всё! Верное дело.
Про тараканов надо запомнить.
Стоять босому стало холодно, вернулся в постели.
Лежал между сном и явью, вздрёмывая и урывками думая о том, что в этих докучных попыхах по устройству день с ночью местами поменялись.
До полудня отсыпался, от постылых дел прячась и веля всех гнать взашей, в Москву переправлять, где оставленная им Удельная дума – Нагие, Годуновы, Курлятевы, Безнины, Черемисиновы – вершила главные дела и следила за Семионом Бекбулатовичем, хотя сия покорная овца никогда не взбрыкнёт – от неё, кроме пуков и рыгов, ожидать нечего. Этот татарский князь, Сеин-Булат-хан, потомок Чингисхана, в крещении Симеон, а царь называл на свой лад – Семион, был выбран им в местоблюстители и посажен на трон как за родовитость, так и за кроткий нрав, добрую душу и верное сердце, не способное на большие подлости, а в малых мы все замешаны…
Но, слава Богу, на Москве потишело, опришные заторщики и подбивалы высланы или казнены, объезжие головы следят за порядком, ночами исправно уличные рогатки замыкают, от разора жителей оберегая, а днями по городу и посадам рыскают, всякое ворьё и грабьё успешно ловя, – в подвалах Разбойной избы уже не повернуться, мест нет, кандальникам снаружи, как цепным псам, под дождём куковать приходится!
Ночами копался в келье, читал Святое Писание, переглядывал бумаги, коих собралось множество за то время, что от царства отошёл и не только престол, но и всё другое покинул, что его к миру привязывало и обузой стало, словно каменюга на шее утопца. Кое-что рвал, кое-что прятал в рундуки и по шкапчикам, а кое-что и сжигал – не всё человечьим глазам видеть надобно.
Летописи истово читал, а кое-где и правил, чтоб потомкам правда досталась, а не писцовая гиль. Одну только Царственную книгу в полторы тысячи листов так обильно обчиркал, что рука чуть не отсохла!
И письма перечитывал, ни на одно не отвечая. А над теми письмами, где с него другие государи и заимодавцы кучу долгов требовали, только посмеивался: «Какой с меня спрос? У вас кто деньги брал – московский царь? Так и идите к московскому царю Семиону – посмотрим, что он вам отдаст, а я ныне – никто, так, сбоку припёка, с меня всё снято, смыто как с гуся вода! Был царь – да весь вышел! Нате, выкусите, пьявкоротые и гадовидые! Нет меня – ни для вас, булычей, ни для врагов, ни для друзей!»
Да и друзей осталось – кот наплакал. И что за друзья? Кто зависть в душе, кто корысть в сердце лелеет, кто изменные подлости готовит. Или просто так, за здорово живёшь, в казне, словно в бездонной бочке, своими воровскими лапами шарит и шурует, тащит что ни попадя. Ох, любят людишки к казне льнуть – батогами не отгонишь! Вот со скрипом сердечным последних лихоимцев и ворюг пришлось на Пасху по плахам разложить – а опять доносят, что всюду покражи замечены… Дашь слабину – тут же ужрут насмерть!
Одно хорошо – с главными злодеями разделался, с опришней за все её подлости, трусости, самовластье, сдачу Москвы, пожар, потачки крымцам, самовольные грабежи, за все её происки и мерзости расчёлся, квит-квитной, и концы обрубил! Ныне надо как бы поумнее вернуть земщине то, что опришней отнято было. Жизней не воротишь, Бог только раз вдувает дух в прах, но добро, домы и сёла возвращать надобно, чтоб не зачахла земля на корню.
Нет больше опришни! И слово такое настрого запрещено! А кто скажет – тут же язык с телом врозь! Пусть земщина из пепла восстаёт и строится, а он будет жить тут, в матушкиных угодьях, вдали от вельзевуловой Москвы – простой слобожанин, княжонок Иван Васильев с чадами и женой Анюшей да с убогими приживалами и юродами. И без греха дни свои закончит. Что ему в миру? Одна мотовня, болтовня трескучая, суета и маета, распри и расплюйство! Уйти скитником – и душу спасти! Ведь и так получернец, в Кирилловом монастыре у владыки рукоположения просил – и получил, вместе с именем Иона и обещанием принять в обитель, когда жизнь мирская опостылеет и до ручки доведёт. Да, чернецом в скит, смирением душу спасти, ещё есть время, авось Бог простит – у него ведь сотня праведников за одного грешника идёт, а уж такой греховодник, как он, за многие тысячи сойдёт!
Да, прошли сытые годы, ныне бремя худых времён настало: пожары, войны, холера, чума, людоедство, ложь, безверие… Всё, хватит! Довольно! Раз тут, на земле, ничего ни кнутом, ни пряником исправить невмочь, то зачем за гранью земной жизни ответствовать за всё это перед таким Судиёй, коего мздой не соблазнить и золотом не купить? Не лучше ли о душе вовремя позаботиться, чем отдавать её бесям? Беси душу крючьями стянут в ад и там, в своём логовище поганом, сытное пиршество из неё устроят! Ежели беси веруют и трепещут перед Господом, то что же людишкам остаётся, хоть бы и царям? Молитва, плач и покаяние – и более ничего. Самые великие мужи от мира уходили, а он их ничем не хуже! Мудрость бежит от мира, жаждет уединения и покоя перед большой дорогой, а грехи нанизываются на душу, как мясо на вертел; сымешь их в исповеди, ходишь чист, а потом опять налезают. Грешить и каяться рождён человек, за Адамов грех отвечая и свои к тому добавляя в изобилии. Только одиночество собирает душу воедино. Речено Исааком Сириянином: возлюби молчание, ибо оно приближает тебя к плоду!
Но сколько бы ни говорил себе, что он – простой человечишка, княжонок Ивашка Московец, что у него нет никаких забот, кроме разбора старинных книг в либерее бабушки Софьюшки, пения на клиросе и хлопот по семье, в глубинах души не мог забыть, что он – богоизбранное существо, скипетродержец, хозяин всего, докуда дотягиваются глаз и слух, что на него взвалено до конца его скорбных дней печься о державе и бить врагов, со всех сторон глазьми злобесно зыркающих… Недаром матушка Елена учила его, восьмилетнего, что ему должно держать в голове две главные мысли: служить Богу и истреблять врагов Руси!..
Уловив из-за двери новые звуки, сунул ноги в мягкие чёботы и прокрался к щели, где стал алчно (как и всё, что делал) вслушиваться в болтовню слуг. Опять Прошка-пустобрёх! Никак своё квакало не зажмурит! Начал теперь о самом уж сокровенном:
– И в омрак падать стал! Ономнясь как стоял – так и грохнулся на мостницы! Я ему скорее ноги кверьху задрал – ничего, отошёл, а то я думал – всё… Ежели увидишь, что он оседает, опадает – тут же ему ноги наверьх задирай…
Ониська перестал жевать: как это – царю ноги задирать? Прибьёт же!
Прошка снисходительно-ласково потрепал шурина по щеке:
– Да не, он в тот миг покорен, как курица под ножом! Сам же не свой, без памяти… Потом ещё «спаси тя Бог» скажет… А ноги кверьху тянуть – штоб кровища от ног к голове прилилась и его в себя вернула! Вот хуже, когда царь сам с собой гутарить начинает – сядет в углу и бубнит, и бубнит, ажно страх берёт страшенный… Тогда к нему не подходи!
– А чего того – бубнёж? Молится? – предположил Ониська.
Прошка объяснил, отламывая от калача румяные бочки́:
– Нет, какое там! Пока в красном угле перед иконами шебуршит и вздыхает – то тих и леп, а как из угла вылезет – так другой делается: на лицо темнеет, бухнется на лавку – и давай сам с собой лопотать. Да так гневно! Меня за дверью дрожь хватает! И руками машет, и на пол что ни попадя кидает! Раз, слышу, кричит: если Ты есть, то почто терпишь меня, пса злосмрадного, и дела мои грешные? Почему не разразишь меня на месте, в столп соляной не обернёшь, как жену Лотову? – Прошка вскочил и замахал руками, рубя воздух. – Почему не расколешь молнией надвое, не рассечёшь небесной секирой, как я, неразумный зверь, рассёк надвое свою державу? Почто прощаешь мне грехи мои тяжкие, скользкие, кровью наболтанные, не казнишь? Всё прах и пыль и суета сует? И ложь, и суесловие, и обманный морок? Если я ещё жив – то Ты мёртв!
«Если тут такое разбалтывает, то и с другими язык на привязи держать не будет! Заткнуть ему глотку навсегда!» – подумал в ярости, однако стерпел. Но чем дальше – тем обиднее выявлялись вещи, в коих сам себе боялся признаться.
– И уставать стал быстро – раньше день-ночь в делах был, а теперя чуть что – присаживается отдыхать, очи смежив. И злобится часто. У него от злости даже наплечные наколы вспучиваться стали…
Тут уж не выдержал, перехватил посох и, распахнув настежь дверь, ринулся на Прошку. Стал рукоятью дубасить его по спине, прикрикивая:
– Ах ты, вошь кровоядная! Вот будет тебе секреты разбалтывать, раб ползучий! Исполнять и молчать должен, а ты языком мелешь, собака иудомордая, всякую чушь несёшь, хабалда! Это кто же немощен и стар? Я? Вот узнаешь, выродок! На ви́ске болтаться будешь, доводчик подлый! Любой пёс своего хозяина любит и бережёт, а не лает, как ты, зломесок, дьяволов оглядчик!..
Бил тяжёлым набалдашником. Прошка катался в ногах, Ониська отпрыгнул к стене. Но посох становился всё тяжелее. Удары – слабее. Вдруг обвалился на лавку, в голос сетуя на то, что новый грех на душу навернул. И так – всё время! Злят и изводят, на дурное вызывают, охальники, клеветники, ироды продажные вредоносные!
Прошка с Ониськой отнесли его на постели, исчезли. Было слышно, как стучат ведром, – Прошка обмывал лицо. О Господи! Не хотел никого обижать – и вот… Сам виноват, поделом пустобрёху!
– Святый ангеле, грозный посланниче, избави меня от суетного жилища сего! О Царице Владычице, сирым питательница и обидимым заступница и больным надеяние, и мне, Ивашке Васильеву, грешному, будь помощница и спасительница!
Постепенно молитва вытеснила ярость. Гнев стал уползать из сердца.
Согреваясь под периной, лежал тихо, уставившись в карту на стене.
Это карта Руси – подарок китайского богдыхана: на буйволиной шкуре из бисера выложены границы, из рубинов – города, из малахита – реки, из раковин – горы, из изумруда – озёра. Только лукавый китаец немного сдвинул границы в свою пользу. Ну ничего, пусть тешится. Главное – всамделишные межи под охраной, а богдыхану будет шиш, если сунется в страну Шибир. Да, преогромный троеперстный сатанаилов шиш тебе, узкоглазый ходя с косицами, а не страна Шибир, куда уже с моей стороны Строгоновы вошли и как голодные псы в землю вцепились – своего не отпустят.
О, хитрое и вкрадчивое Китайское царство! Лучше с ним не якшаться – Бог с его дарами, травой ча, лимонами, шёлком, посудой и безделками! Прибывает раз в год от них посольство – и хватит! Прошлый раз письмена от своего богдыхана привезли, где тот пишет, давай-де объединим наши державы и возьмём в свои руки весь мир. Заманчиво! Да как, если границы на востоке неизвестны: свои ещё кое-как различаем, а уж китайские… Где их державы начало, где конец – неведомо! Как с такой ползучей страной объединяться? И хан Кучум взбунтует! И богдыханы китайские зело злы, себя за богов выдают, а это уж всем ересям ересь! А ну станет такой требовать, чтобы ты перед ним на колени пал, – он же бог, а ты только царь? Нет уж, пусть они своими алтан-ханами повелевают, а мы у себя свои порядки наводить будем. С ханом Кучумом бы справиться, а уж после за дальние межи заглядывать.
Часто стоял перед этой картой, озирая своё царство и пытаясь представить себе, каковы его просторы и пределы на самом деле, какие люди, звери, птицы населяют сии дальнеконные города и веси…
И концы державы лежали в дымке, были размыты, двигались как живые: сего дня – тут, а завтра – уже там, всё дальше и дальше, во славу Святого Креста и Господа Бога, Царя Царей и Господаря Господарей! И он, радуясь величию и обилию Руси, летал мыслью над своей землёй, разглядывая всё подробно и отчётливо, как на ладони.
А потом, улёгшись в постели, вдруг терял это орлиное зрение и видел себя больным слабым одиноким стариком с редкими волосами, с желваками на плечах (особо вспухали к весне и держались до морозов), с болями в спине, с тухлым запахом изо рта (против него были бессильны даже мятные полоскания), с треском в костях, с шумом в ушах, с камчюгой в стопах, кою не брали ни солёные воды из палестин, ни алчные пиявки из Мещерских болот.
Теперь у него другой путь. Не намерен из-за ваших вражьих затей вечные муки терпеть! На Страшном-то суде все нагие стоять будем, души в руках держа, а архистратиг Михаил будет их на весы шлёпать и взвешивать. И какая треть души – Божья, зверья или человечья – перевесит две другие, так тому и быть: если Божья – райские кущи уготованы, зверья – спустят к бесям в ад, человечья – уйдёшь в могилу (хотя мамушка Аграфена, убаюкивая его на сон, иногда шептала, что он никогда не умрёт, ибо душа его после смерти в капле дождя вернётся на землю, капля лопнет, душа выпорхнет и в какого-нибудь красивого и здорового младенца влетит: «И будешь ты опять жить-поживать да добро наживать!» – на его же вопросы, будет ли он опять царь, поджимала губы: «Вот это неизвестно…»).
Воистину дорога человеков – до Страшного суда, за коим не будет ничего, кроме страха во тьме, вечной тьмы страха… Посему смириться и раскаяться надобно – более ничего не спасёт! Вот пророк Иона ослушался Бога, бежал – будто от Бога можно спрятаться… Из чрева китова взывал к совести Бога, а только на третий день додумался в своих грехах раскаяться – и тут же был исторгнут чудесной силой из морского зверя! Кто ты есмь, человече, чтобы укорять Бога? Только стелиться перед ним по земле, аки лист осенний, и молча уши души открывать пошире! Слава Господу, что здесь, в Александровке, родной отчине, я скрыт от всех! И пусть никто меня не беспокоит! И не защитник я ничей, и не хранитель, и не решатель, и не радетель, и не делитель, и не учётчик я ничей, а просто человек! Иванец Васильев с семьёй – и всё, дальше пропасть, край, гиль…
Никого видеть и принимать не следует. Кудесник Тит напророчил в этом году смерть московского царя от стрелы: мститель тайно пронесёт сайдак[2] в церковь и выпустит ядовитую стрелу в государя на молебне. Только коснись она тела – и дело кончено, от яду спасу нет! Пусть теперь в Семиона Бекбулатовича целят – он царь московский, а я так, ни то ни сё, сбоку припёка, княжонок Иванец Московский, никому зла не делаю – зачем в меня стрелять?
Отбросил перину, сел, стал озираться. Без Прошки – что без рук.
Прошка был с ним с малолетства – привязался к их шайке, когда они с Клопом, Малютой, покойным Тишатой и другими озорниками по балчугам да сёлам рыскали, наводя шороху, пограбливая, уводя коней, тиская девок и отнимая у мужиков что ни попадя. А Прошка был спокоен, на всякие бузы не очень охотчив, больше любил резаться в зернь или городки, бабки катать или ещё что безобидное. И всегда оказывался там, где был нужен.
Без Прошки – что без ног. Иногда ночами они переругивались: он требовал того и другого, а Прошке было лень бежать на кухню за едой или в погреба за питьём. А однажды, ещё до Казани, так взбесился на Прошку за болтливость, что, выхватив засапожный тесак, загнал слугу в угол, повалил как барана, голову меж колен зажав и на скулы давя, чтоб рот открыть и язык откромсать. Да вбежала на шум покойница жена Анастасия, стала на руки вешаться, – ослабил хватку, Прошка вырвался и сгинул, с неделю на крепостном валу куковал, пока не нашли.
Без Прошки – что без головы: когда какое снадобье пить, что кушать, одевать – Прошка наперечёт знает, даже грамотой шибко владеет, хотя зачем рабу азбука?
Так привык к Прошке, что прощал ему мелкую наглость и крысятное воровство, зная, что на большое тот не посмеет позариться.
Вот сбежал. А кто еды подаст? Под ложечкой уже сосёт, пора бы овсянку и творог пустой, будь он проклят, скушать.
Выбрался на лестницу и стал кричать наверх, пугая охрану и зная, что Прошка сидит в башенке:
– Иди сюда, валандай, не трону!
– Побожись! – донеслось сверху.
– Вот те крест, дурень худоумный!
Прошка появился, с заплывшим глазом и кровавым ухом. Угрюмо буркнул:
– Вишь чего? И за что?
– А язык свой поганый распускать не будешь! И всякую небыль обо мне пороть! Ты, увалень, должен только хорошее обо мне трезвонить, а ты что? Ежели господин твой дурак – то ты и того хуже. А если господин хорош да пригож – то и слуге его почёт от других!
Прошка глянул затравленно, одним глазом:
– А я – что? Сижу, с шурином брешу, учу его уму-разуму, а ты как зверь лютый кидаешься! Давеча дохтура Елисея так отделал, что тот едва дух не испустил! Лежит теперь лежмя второй день – башка раскроена и глаз не видит. Ты этого колдуна Елисея или убей, или не тронь, а то сглаза не оберёшься. Мало тебе болячек? Новой порчи надобно?
– Молчи. Кашу неси.
Прошка ушёл, чтобы вернуться с едой и сообщить: самочинно, без царёва вызова, явился иноземчанин Хайнрих Штаден, чего-то с глазу на глаз сказать имеет. И пара-тройка служилых бояр у крыльца топчется. И какие-то купцы у ворот шум подняли – их стража без проезжей не впускает, а они заладили, что проездные грамоты вместе с товаром сгинули у разбойников, на них где-то напавших.
Поклевал бессольную кашу и пресный творог и велел вести немца, хотя и добавил, играя агатовыми чётками (подарок бывшего друга и брата, а ныне врага и сатаны крымского царя Девлет-Гирея):
– Известны наперечёт сказания этого Штадена – жалиться будет на взятки, поборы, подати, бояр… И всё-то этим фряжским брадобритцам неймётся – и то им не так, и так им не эдак! Всюду им порядок нужен – а где его взять? Сам жажду навести! Гнал бы их всех взашей, да что делать, если лучше немцев наёмников не сыскать? Немцам я доверяю. Немец если говорит, то делает, а не вертит задом, как иные вруны, в лжи погрязшие. Зови!
Явился наёмник. Еле в дверь пролез, да в полукольчуге, да в медном наплешнике[3], да в кольчатой бармице, будто на бой. Топчется, гремит, на одно колено припасть пытаясь.
– Ты бы ещё пушку прихватил, Хайнрих! Что, воевать меня пришёл? Чего ногами переминаешь, как конь в чалдаре[4]? Без твоих поклонов обойдусь, тебе, вижу, не согнуться. Смотри, какие у него латунные запоны[5] на плечах! Сам делал, что ль? И мисюрка начищена, блистает, словно золотая!..
Немец Штаден нелепо застыл, не решаясь приблизиться:
– Да, сама делаль… Мой цар, дай помош, нету сила эти ужусы терпивать… Иван Тарасовитш…
– Какие такие ужасы?
Хайнрих, не отходя от двери, как пёс от конуры, начал рассказывать, что в Хлебном приказе совсем дьяки обнаглели – он был в походе, не успел своих денег за два месяца получить, так с него теперь требуют десятую часть им отломить, не то грозятся вовсе ничего не выдать:
– Ешели, кафарят, путешь рыпатси – сафсем денги не получиш, в мёртфы книга, в смертны графа запишем – иди патом докази, што жифой!
Но этого мало – оказалось, что и в Кормовом приказе тоже совсем распоясались насчёт иноземцев: если им деньгу не дать – самый плохой липец[6] с патокой нальют или того хуже – крысу дохлую или мышь снулую в бочку от зловредства сунут (Штаден, как все иноземцы, помимо ратной службы, приторговывал у себя в шинке пивом и медовухой, кои покупал оптом в Кормовом приказе).
– А если дать им, проклятым, деньгу?
Штаден возмущённо заколыхался, звеня цепочками и ощупывая железные бляхи на груди:
– А если дать – токта миод кароши… А ешели мноко дать – в келлер[7] пустят, сам миод выпирай, какой хош, пошалуста… «Чтопы делать блин, надо скафаротка маслом мазать», – гафарит всекта Ифан Тарасовитш…
Насторожился:
– И сколько просят… для смазки? Ну, за сороковуху хорошего мёду?
Немец надул губы, считая:
– Полталер для Ифан Тарасовитша… И его хелферу[8] – пять-шесть алтынов…
На это бегло и зверовато улыбнулся (отчего в немце вдруг проскользнуло паническое сожаление, зачем он вообще сюда явился). Чётки застыли в руке:
– На пять алтын дюжину куриц купить можно… Значит, дьяк Соймонов, Иван Тарасович, говоришь? Вот кознодей, казнокрад! Сам Приказом заправляет – и такое молвить не опасается, подлюка!
«Будет ужо тебе вдоволь масла на сковородке, гадина ротозадая, сатаны согласник!» – угрюмо подумал про Соймонова (и отца его, князя Балагура, и дядьёв-служильцев хорошо знал по прежнему житью под Шуйскими, они и тогда чем-то хлебным заправляли). И перевёл неприятный разговор:
– Разберусь. Скажу, чтоб тебя не трогали… Ну а каково тебе ныне ходить верным Христу? Ты ж недавно перекинулся, нашу истинную греческую веру принял?
– Та, мой цар, карашо… Как хотишь назыфай, толки в печи не сашивай…
– Тепло ли тебе во мною даренной шубе?
– И шуба кароши, тёплым жарки… Как птюч небесны, зер гуд чустфуй…
Улыбнулся, представив себе, как этот «птюч небесны» недавно на свадьбе у своего соплеменника, выпив пять кубков медовухи, так разошёлся, что сначала разрубил саблей серебряный талер, потом завалил на стол вестфальца Ральфа, стянул с него панталоны и отрезал кинжалом одно муде – якобы за то, что Ральф обокрал его при каком-то пивном гешефте. Будь пострадавший кастрат москвичом – Штаден был бы наказан. А так – пусть рвут себе яйца, меньше нехристей на свет родится! Видно, в их отчинах таковы обычаи: чуть что – яйца рубить! Да и подумаешь – «обокрал»! А что есть гешефт, если не воровство и обман? Один у другого обязательно что-нибудь слямзить должен, а так – чего без выгоды бодаться?
– А ты что с тем муде сделал? Ну, что на свадьбе отхватил? Съел, чай, сырым? Вкусное было яйцо врага?
Штаден покраснел, щёлкнул налобником:
– Найн, чай не пивал, и много фино пивал… О, стид! Стид фелики! Я на та сфатьба сафсем дик стал… Я Ральфу гросс-сатисфакци платил, десять талер, и мудю отдафал… А Ральф свой яиц спиритус ложил и всем покасал… Этот Ральф тоже Иван Тарасовитшу фсегда платиль, штопи кароши миод в келлере брать… Отин рас мало дал – Иван Тарасовитш зер шлехте[9] миод дафал и ишо денга трепофал за шлехте миод!..
От этих слов защемило в горле, сердце окунулось в горячую печаль – опять! Одно и то же! Хуже чумы и холеры! Надоело! Каждый раз за душу цепляет! Землю из-под ног выбивает! Что делать со мздоимцами, что хуже татар и страшнее ливонцев?
Сидел, понурившись, хотя в жалобах немца не было ничего нового: кто же не знает, что дьяки и их служки отмеривают снедь по своему усмотрению, обвешивая и обдуривая всех подряд, а особенно немых иноземцев: если немчин сдуру принимал что дают – хорошо, а коли нет, так не получал ничего, если не подмазывал. Мало того, по сыску тогда ещё живого Малюты злодеями-дьяками варился двойной мёд – хороший и плохой, и на этом змеино-хитро сберегалась третья часть мёда-сырца. И если иноземец одаривал их чем-нибудь, то сам мог идти цедить пробу изо всех бочек – бери, не жаль, только плати… Да и хуже того делалось: если иноземец умирал или погибал, то эти нехристи в Кормовом целый год продолжали заносить в книги все якобы ему выдачи, кои брали себе. Каково-то трупу мёд пить? Все, все растленны разумом! Сердцем очерствели! Ничего, нахлебаются смолы в аду! Кто там иноземным коштом заведует, кроме Соймонова? Путило Михайлович… Хм, дальний свойственник по батюшке, из малых захудалых Рюриковичей шестого коленца… Ну да что – из-за этого терпеть его наглоту беспредельную?
Забыв о немце, ушёл в себя. В голове гневно мелькало, что терпеть нельзя, что надо их всех там, в Приказах, жизни лишить! И не надо далеко прятать те сковороды, на которых прежних дьяков Кормового приказа братьев Скульских, Олексашку и Ондрюшку, за их подлость невыносимую принародно изжарили на Болоте, сказав им перед казнью: «Не вы ли всё подмасливаться хотели? Вот вам вдоволь!» – а Малюта ковшом на длинной ручке кипящее масло зачерпывал, им на спины лил, приговаривая: «Вкусны будут дьяволу – с хрустящей-то корочкой, с поджарочкой!»…
Штаден стоял навытяжку, как в строю, не смея смотреть по сторонам, уткнув глаза в пол: как и другие, знал, что царь иногда в мыслях уходит в иные миры, куда простым людям хода нет.
Вздохнул, огляделся.
При виде налитых щёк и двойного подбородка Штадена пришла на ум жалоба одного стрельца, что, мол, немцы-наёмники не ложками, как все христиане, а двурогими вилками сатанинскими жрут, а эти вилки для того сделаны, чтобы ими бо́льшие куски из общего котла подцеплять и к себе тянуть:
– А ты, Хайнрих, случаем, не вилкой ешь?
Наёмник клацнул зубами:
– Was?[10]
Объяснил:
– Смотри, вилкой не ешь, это придумка сатаны, кою он вашему Лютору подсказал. Ведь «Лютор» – от слова «лютой», не знал? Эта вилка к нам через проклятых поляков лезет… Вилку дьявол придумал, детей ослеплять и людям рты калечить! Бог дал нам пригоршню, а сатанаил – рога… Ешь ложкой, как христианину пристало!
Штаден хлопал глазами, силясь понять, что надо царю.
Вот истукан! Но и немецкий язык нам тоже известен, в селе Воробьёве пленный пастор в детстве учил.
– Nicht mit Gabel fressen! Nur mit Löffel! Hast du Löffel?[11]
Уловив, о чём речь, Штаден полез за голенище:
– Jawohl, ich habe Löffel! Hier![12]
– Ну и хорошо. Гут, гут! Оставь себе – на кой она мне. Ложкой лопай, а не этой двурогой шайтанкой… Красивая у тебя ложка! Покажи! – Взял ложку, заметив на черенке кириллицей гравировку: «СПАСИ БОГ». – Откуда у тебя?
– В Нофгород…
О, Новгород!
В досаде швырнул ложку на пол. И звон её о половицы вдруг ударил ему в уши, как звон колоколов, бившихся в тот день над Новгородом, пока звонари не были сброшены вниз со вспоротыми животами… Опять это слово! Но Новгород сам виноват – почто не хотел подобру в союз идти? И батюшке Василию, и деду Ивану, и всем прежним московским владыкам столько горя приносил! «Новгородская земля – отчина есть моя, изначала от дедов и прадедов наших, от моего предка, светлого князя Володимира, крестившего Русь, первого великого князя в земле вашей, посему же Новгород – мой по праву!» – писал дед Иван сто лет назад, грозил, что будет казнить, коли Новгород на Москву по старине смотреть начнёт. Нет, ничего не помогало! Новгород бунтовал, чванился, на Москву крысился – мы-де умнее и древнее вас! В Польшу одним глазом косил, Старицких на престоле уставить хотел, большие заявы на московский престол предъявлял! Вечевым скопом править желал, чего не будет на Руси по словам пророка о разделённом царстве, кое обязательно падёт, как Вавилон пал, Тир заглох и Рим остыл! Новгородцы всем учителями быть хотели, такали, такали да Новгород и протакали! Сами виноваты во взвергнутой на них опале. По-хорошему не хотели – а я что? Вторую щёку подставлять должен? Если царь свои ланиты всем подставлять будет, то такое царство вмиг рассыплется в прах. Может, христианину и подобает свои щёки направо и налево раздавать, а вот царю, хоть и христианскому, – совсем наоборот… Да и кто слушаться будет битого царя? «Вот битый царь идёт!» – кричать будут и тухлыми яйцами кидаться…
Штаден зазвенел, загремел, пытаясь поднять ложку, а он, стряхнув с души морок мёртвого Новгорода, добавил поучительно:
– И чужой ложкой никогда не шамай, не то во рту заведутся заеды и зело обжорлив станешь! Ложку клади брюшком вверх – так будет защита от злых бесят. Анастасия, жена моя любимая, всегда на крестинах, поев крестильной каши, бросала ложку через плечо: упадёт брюшком вниз – следующим будет мальчик, брюшком вверх – девица…
Подождал, пока наёмник уколыхнётся, и решил спросить его окольно об одном деле, о коем давно замышлял: ему, Ивану, надо кое-куда отправиться, может ли Хайнрих тайно собрать голов сотню верных немцев для охраны?
– Каждому по пять гольд-талеров тут и ещё столько же – на месте.
Штаден ответил, что собрать можно – все только и ждут, где какая новая война проклюнется, чтобы заработать.
– Да не на войну, а на поездку… В дальнюю страну… А есть ли среди твоей братии опытные корабелы, чтобы укромно и без шума три корабля построить?
На это было отвечено, что были бы деньги, а люди найдутся: полно бездельных голландцев в Болвановке – сидят, трубки курят. Из пленных шведов – многие мастера по кораблям. Да и новые полоняне-полячишки кое-чему научились у себя в Гданьске.
– А можно ли найти верных шкиперов, боцманов? Команду для этих трёх кораблей? Но набрать надо тихо, без шуму и гоготу, чтобы никто, а особо на Москве, не знал!
– Да, мой цар, как нет?
– Bist du sicher? Antwortest du mit dem Kopf?[13]
– Jawohl, bin ich sicher, mein velikij Knese![14]
– Ну, тогда ищи людей, человек сто охраны, а корабелов сюда привези. Ты же по-прежнему на Неглинке живёшь? Ну, иди! Скажу в Приказе, чтобы тебя не трогали! И вилкой не ешь, не то подавишься! А подлые дьяки у меня попляшут! Больше тебя обижать не будут! Иди!
Под грохот сапог наёмника приходили колкие и острые мысли: пора перебрать бояр и дьяков, а то забыли, видать, что такое гнев Господень и как разит крестоносный меч! И тех особо взять к ногтю, кто про сеймы, рады и вече разговорцы ведёт, на московский престол посягая и на раскол державы рассчитывая. Ох, прав был тысячу раз князь-инок Вассиан, говоря: если хочешь быть истинным самодержцем, не терпи возле себя никого мудрее тебя самого и, так поступая, будешь твёрд на своём царстве. А ежели держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться, и расползётся держава, как гнилая ткань, ибо у каждого умника – своя мудрость, сколько голов – столько и умов.
Ну да теперь всё равно, пусть сами, как хотят… Пусть дурацкие рады выбирают и перед своими упырями-маестетами[15] хвостами виляют, казнокрады и куроцапы! А я тут семью устрою и пешком в Кириллову обитель отправлюсь – что человеку надо? Кус хлеба, звено рыбы, чашка кваса… Нет, не увидят меня больше в адовой Москве!
Опять Прошка заглянул:
– Мастер Барма из Москвы приволокся. Совета домогается.
Это имя разожгло приятное и доброе: Барма у него совета просит, а сам – мастер великий от Бога, таких не сыскать ни в отцовых, ни в заморских землях:
– Дадим совет, как не дать! Зови!
Вошёл рослый человек в чёрной бороде, волосы горшком подрезаны, лентой стянуты, как у рукодельцев. Правый глаз раздут и красен.
Ласково мотнул рукой на лавку перед собой:
– Что с глазом приключилось?
Барма приложив руку к сердцу и, глубоко поклонившись, остался стоять, потёр веко:
– Ячмень присел, пыли много на стройке.
– Не три, не трожь, не тревожь, сам пройдёт с Божьей помощью. Варёным яйцом моя мамушка Аграфена лечила. И примочки из календулы хороши. Садись!
Полюбил этого мастера ещё со времён Казани, где Барма возвёл такой великий кремль, что все, увидев его, умом обомлели, словами обмелели – это как земной житель такую небесную красу сотворить в состоянии? Не без чудесного тут, не без ангелов небесных!
Потом в Москве был возведён Бармой Покровский храм – в день Покрова Богородицы была взята Казань. Да не просто построил чудо, а с подковыкой: восемь малых куполов напоминали о восьми минаретах казанской мечети, а большой девятый купол над ними вознесён, как вечный господин! Теперь же, после пожара, учинённого проклятым псом Девлет-Гиреем, храм надо отстраивать почти заново, чем Барма и занят.
Да, Бог даровал такого мастера, что премудр и преискусен в своём деле. И не иноземчанин, а свой, сын Постников, городовых и церковных дел мастер. Ему можно доверять – вон сколько денег через его руки прошло, а ничего не прилипло, а могло бы, ох могло бы! Поди узнай, сколько камня, железа, гвоздей, скоб, щебня, раствора на храм уходит, сколько вёдер щей слопали подмастерья, сколько лопат и молотков потребно стройке!
– Что тебя, Бармушка, от трудов твоих великих сюда, ко мне, многогрешному, отвлекло?
Барма завозился на лавке, раскладывая по коленям руки-клешни:
– Нет сил терпеть! Чего ни хвачусь – всего нет, всё тащат! Недавно ценный камень, пять подвод, завезли – наутро уже нет, пусто, будто бес унёс! И как умудрились так тихо подчистую столько камня спереть – ума не приложу! Надысь доску из севера доставили, хорошую, без жучка, глазков и задоринок, гляжу – на том месте, где доски свалены были, – уголья трепещут. Что такое? «А сгорело всё!» – подрядчик, вражья морда, говорит и шало так смотрит, уже с утра пьян. А я в золе поворошил – там, может, две или три доски сожжены, а остальные где? Покрадены!
Вздохнул: и здесь то же самое! Не приставлять же к каждому камню стража с бердышом! Что за напасть такая, хуже чумы и холеры!
– А где охрана была? Кто покрал? Сам на кого мнение держишь?
Барма развёл ручищами:
– А кто его знает? Может, сама охрана и покрала…
– Кто должен был стройку охранять? Где ваши объезжие головы были?
Барма пожал плечами:
– Я в этих делах не силён. Я там начальник при свете, а как мрак ночи сойдёт – другие в ответе. По мне, так все охранники – на одно лицо! Только мешают, по стройке шастают и что плохо лежит, без присмотру, – тут же тащат. Я свою работу как муравей работаю, по сторонам не зыркаю, кто там палашами гремит. Много стало начальников, всех и не усмотришь. Да те, кто на стройке, ещё ничего, не самые опасные…
Уловил недосказанное:
– А кто – самые?
Барма набычился:
– А дьяки приказные, за весами сидящие! Давеча отдал им просьбу на двести трёхсаженных брёвен, тридцать досок и полтысячи гвоздей, всё вместе ценой в четырнадцать рублёв. А дьяк прямо говорит: «Пиши роспись заново, цену ставь семнадцать рублёв». А зачем? А затем, отвечает, что у меня дети голодные по лавкам сидят, я в год шесть рублёв получаю, а пуд коровьего масла шестьдесят копеек стоит, а за сапоги пятьдесят копеек просят. Посему я себе два рубля оставлю, а один рубль тебе дам. И мне хорошо, и тебе, от трёх рублёв казна не иссякнет. А не напишешь – ничего не получишь, кроме шиша! Так-то рек, Бога не боясь! Я плюнул да и пошёл, доски и гвозди перекупил у артельщиков, что Введенскую улицу мостят!
И снова, забыв спросить, кто сей алчный дьяк, провалился в жерло горьких мыслей. Барма прав, много начальников – конец и стройке, и державе! Расплодились в опришне! И никак им хвосты не прищемить, разлютовались на воровство, на всяческую мерзость хитрогоразды стали! Ах, клятвопреступники, казнокрады, взяткодавы! Они и Иисуса Христа с креста уворуют и татарам в залог снесут, лишь бы шебаршиться всю ночь с блудодейками, бузить с задовёртками! Сребролюбцы, богаты и брюхаты!
– Скажу. Велю. Прикажу. Помогу! – пообещал, доверительно уложив свою длинную ладонь на ручищу мастера. – Как не помочь? Ведь ты – воитель Христов, Божий соловей, домы Господни великие сотворяешь, дела неимоверные творишь. Мы перед тобой – пыль, прах и пакость, от нас ничего не останется, а тебя люди всегда будут помнить. Бармушка! Лей смелей небесный елей в мой улей! – пропел, на что Барма пустил слезу из больного глаза:
– О государь! Ты зело в виршеплётстве силён! И тебя, государь, никогда не забудут, по делам твоим великим! – Был обнят и поцелован и попросил ещё денег на пять дюжин подвод камня на облицовку, полдюжины умелых гвоздарей и толкового камнереза: – А то прежний главный мой, с лесов сверзившись, ноги повредил – ни сидеть, ни стоять не может.
Молча полез в постели за кошелём, отсыпал Барме нужные деньги (тот запрятал их в калиту под холщовой рубахой). Ещё особо дал золотой талер:
– Отдашь семье камнереза, пока им хватит. А сидя он работать не может? Что? Недвижно на спине лежит? Мастер великий? Вот несчастье! На, дай ему ещё, – отсыпал несколько монет вдобавок, крестясь с тяжёлым сердцем, ибо и его дочь уже целое время недвижно лежит, и он знает, какая это му́ка – смотреть на страдания близких.
Поговорили о нуждах стройки – сколько ещё чего требуется, нет ли болезней среди пленных, под бичами храм возводящих, не надобно ли страдным людишкам кошта прибавить и как будет красиво, когда храм встанет во всей красе на благо Богу, людям и потомкам. Храм – это навечно.
Услышав невнятные крики со двора и решив, что это рвутся обобранные купцы, коих не впускают в Александровку без подорожных, спросил у Бармы, как тот добрался до него – ведь велено никого в крепость без пропуска не впускать.
– А дал полушку на воротах – и прошёл, – бесхитростно объяснил мастер, отчего стало совсем тошно и никло на душе («если под боком такое творится – то чего от дальних волостей и уездов ждать?»).
– А кому дал? – без особой нужды и надежды спросил через силу.
– А не знаю, их там целая свора набежала. Сунул – и прошёл…
Удручённо покачал головой и взмахом чёток отпустил Барму – тот, глубоко поклонившись, неторопливо и твёрдо ступая, удалился, отчего в келье стало тихо и пусто.
Не успел справить нужду в помойный ушат в смежной мыленке, как появился Прошка с глазом, покрытым листом капусты. Увидев это, ощутил что-то вроде укола совести или жалости (что было для него одним и тем же), миролюбиво потрепал слугу по загривку:
– Радуйся, что отлупцевал. Не бил бы – убил бы!
– Спаси Бог многажды! Премного благодарен! – с издёвкой поклонился Прошка и сказал, что дикий монах, весьма злобен, к царю рвётся.
Да вот он и сам без приглашения прёт! Большой, рыхлый, нелепый, разлапистый, почти слепой, с обильным белым волосом из-под клобука, в пегой бороде по пояс, протоиерей Мисаил Суки́н стоял на пороге, тяжело отдышиваясь от подъёма и опираясь двумя руками на простую ольховую палку.
Это был его, Ивана, воспитатель и духовник. А прежде – духовник батюшки Василия. А начинал ещё чернецом при деде Иване и деду жизнь спас, когда на молебне толпа сзади вдруг так напёрла и навлеклась, что деда с ног повалила и чуть не затоптала, а Мисаил его из-под тел за амвон уволочь успел прежде всех рынд и воевод.
Схватил было поцеловать старческую руку, но Сукин руку вырвал и сразу приступил к тому, за чем пришёл:
– Почто моих монахов, что в Сергиевом Посаде христарадничали, в подвалы забрал? Чернецов Авраамия Глазатого, Иоасафа и инока Даниила? Они нужное богоугодное делали, на монастырь собирали, а ты их – в острог! За что? Почто людишек бьёшь, тягловое быдло изводишь, за кое ты перед Господом в ответе, человекоядец? Перед Богом змеить у тебя не выйдет! Не спасут тебя от огня адова ни твои молитвы, ни вклады, питуха ты крови человеческой, страдник пекла!
Опешил от такого сурового напора:
– Отче, ничего о монахах не знаю. А прочее всё – прошло! Было – и нету! Заднее забыл – вперёд иду! Ныне я тих и кроток. Не из сердца моего косматого, а из-за измен и татьбы наказывал, чтоб другие знали, что их ждёт… Грешникам ад надо тут, на земле, показать, чтобы неповадно было, – сам же учил!
Но Сукин, нависая над ним своим громадным брюхом, разя по́том и немытым телом, гнул своё, не раз от него слышанное:
– Окстись и ехиднино словоблудие не разводи! Любоначалие никому ещё впрок не пошло! Ты не Господь, чтобы ады на земле устраивать! Если рая не сделал – то ада не надо! Хватит жестоковать! Пожалей народ! Чем он провинился? Зачем резать мозольных людишек, как скот? Разве не пашут они неутомимо и молча? Разве покорно не собирают, не одевают, не обувают, не кормят твоих солдат, чтоб воевать чужие земли? А куда тебе эти новые земли – со своими бы совладать! Чего ты хочешь от своего мужварья, у твоих ног распростёртого? Не то странно, что человек падает, а то, что поднимается! А ты его – сапогом в грязь! За что его кромсать и резать, в клетях на смерть свозить, как ирод Нерон – первых христиан?..
Выбрался наконец из-под стариковской длани:
– Какие клети? Что за Нерон? Дай ответить, отче. Почтения хочу. Послушания. Веры. Любви. Надежды. Но ничего не имею!..
От этих слов протоиерей совсем взбесился:
– Ишь какие иеремиады развёл! Ты эти выкомуры брось! Любовь и почтение возжелал? Какие же будешь иметь, ежели людей египетскими казнями казнишь? Почтение и любовь не кровью и страхом, а добрыми делами добываются! А кровь родит злобу. Довольствуйся малым – получишь бо́льшее. А в гоне за бо́льшим и малое утеряешь! А ты что? Ад устроил! Что за игры твои палачи затеяли? Что? Не знаешь, в какие они игры игрывают? А в такие, чтоб каждому казнь по его имени придумывать!
И Сукин, пристукнув палкой (за ней надо следить, чтоб не получить по спине, не раз бывало в детстве), злым глухим задыхающимся голосом стал говорить, что недобитые опришники в Галиче, Муроме, Вологде и ещё кое-где новое развлечение себе отыскали: делать с каждым то, что в его имени обозначено, при этом зверски жизни лишая. И понеслось! Илию Собакова, избитого до мясного естества, кинули некормленым псам! Двоюродного брата его, Макария Овцына, живьём освежевали, как овцу! Дормидонта Коровьева зажарили на костре, насадив на вертел! Семёна Крошку изрубили на мелкие части и всех угощали, а кто не брал, тому персты отсекали! Служилого дьяка Афоньку Мясного палач разделал, как скотину, – на оковалок, вырезку и голяшки – и кривлялся, будто торгуя этим мясом! Максим Языков через щипцы языка лишился! Подьячего Сытного приказа Савву Холодухина обливали то ледяной водой, то кипятком, а потом, обрубив ноги по колено, спустили в прорубь!
Попытался остановить старика:
– Отче, стой! Дай сказать! Кто это делал – уже наказаны! Это было – и прошло! Отныне всё по-иному! – Пытался объяснить, что опришню вынужденно созывал: – Мой народец таков, что не сожми его в кулак и все соки из него не выдави – так и будет на печи дрыхнуть да молочных рек дожидаться. Что ещё делать, как не дергать, тормошить, гонять? Народец до татар тих и скромен был, не воровал и не бранился, а татары пришли – всё пропало!
Но Сукин ярился, бычился:
– Ты на татар-то не съезжай! Мёртвые не воскреснут и мук своих обратно не получат! Для мук времени нет! Даже иноземцев казнят! Купцу Хольцнагелю[16] загнали под ногти сапожные иглы, а ноги деревянными колодками всмятку раздавили! Пастору Вильдфогелю[17], что якобы римские блудни прилюдно плёл, обрубили обе руки – полетай-ка, дикая птица! А какие блудни – он же латинской веры, раньше не знали, что ли? Чего молчишь, будто не ведаешь про всё это?!
Не молчал – пытался возражать, что всё это творилось теми, кто, себя обманно опришней называя, на самом деле разбойничали и куролесили без его ведома, по своим прихотям и утехам, за что и наказаны. Но куда там! И слова не вставить! Протоиерей даже замахнулся на него палкой, прогремев:
– У, не будь ты царь, неприкосновенная особа, так бы и оттаскал тебя за волосья, ирод! Ты и отца и деда хужее! Те тоже кровопийцы были, но далеко им до тебя! Человечинка-то сластит, небось, а? Сладка, как сахар, а, говори? Человекоядец! Выжималка!
Непочтительные слова про отца и деда взбеленили – выхватил у старца палку и стал кричать в ответ:
– Ты кадык-то не распускай, отче! Охолонись маленько! Да кто ты таков, чтобы мне тычки давать? Забыл, кто я? Что я делаю, что я не делаю – всё от Бога, всё в его воле! Я – царь своей земли и всего, что на ней! И под ней! И над ней! – И напомнил старику, что как Рюрикович – он прямое колено цезаря Августа, через бабку Софью он – потомок ромейских базилевсов, по матушке Елене Глинской – из рода Мамая, ведь первый Глинский, Лексада, в крещении Александр, был родным внуком хана Мамая, а матушкина тётка, Тулунбек-ханум, была в прямом сродстве с Джучи, сыном Чингисхана. – Так что и золотоордынские земли мои, и северные волости, и южный край царьградский, и все царства Римской империи – всё моё, на всё имею право длань свою наложить – вот кто я таков, ежели у тебя память отшибло в твоём монастыре! И люду моему я зело люб – сие тебе весьма известно!
На это Сукин зло вырвал обратно палку и с чавканьем, смачно и обильно, плюнул на пол:
– Любийца нашёлся! А тьфу на всё это! Очи преют на тебя смотреть! Всё цари и базилевсы – тлен и прах перед лицом Бога! Ты – главный зажига, смутотворец, грешник, кровосос, всему злу соединитель! И град твой кровопийственный! Уймись, пока Силы Небесные тебя не окоротили! Ревмя реветь будешь – а никто не услышит! Слезами заливаться станешь – а никто утиралки вонючей не подаст! Говорильней живодёрню не перешибёшь! И моих трёх монахов из подвалов чтоб отпустил, не то прокляну! Прокляну-у, хладодержец окаянный!
Тут уж не выдержал:
– Ябло бы заткнул, отче! Не боюсь я твоего проклятия! Чем щепки из моих глаз вынимать – брёвна из своих очей повыдергивал бы! Сам-то каков? По законам ли живёшь, отче? Сказывали, сидишь у себя в монастыре, как падишах персиянский, и тебе в келью твою, золотом убранную, всякие яства носят, да за едой келари тебя россказнями да прибаутками развлекают, а чернецы на ночь пятки чешут, если не более того! А таково-то в уставе писано, а? Помню, мы с матушкой Еленой, по богомольям ездючи, в Троицкий монастырь случайно прибыли – так нам даже каши поесть не дали: не время, сказали, ждите общей трапезы. Вот каково-то по старым понятиям строго было, даже царице с царёнком в неурочный час еды не давали! А теперь что? Может, ещё и волочаек они тебе туда доставляют, чтобы уже полное угождение чрева и похоти наладить?
В ответ Сукин, попритихнув, буркнул:
– Мои грехи перед твоими – что малые шиханы[18] пред горой Араратской! Чтоб монахов моих отпустил из узилища! – И напоследок с силой хлопнул дверью так, что камень сотрясся (откуда только сил у столетнего!). И полез вниз по ступенькам, щупая впереди себя палкой, ругаясь и отгоняя слуг: – Пшли вон, гадёныши!
Приход Сукина разворотил и всколыхнул всё внутри. Вот старый пень, расчехвостил так, словно тут баламошка какой, малец с Торжка! Сам знаю, что не всё прямо вышло, как задумано было! Нет, и он туда же, кнур столетний, – укоры возводить! Нет чтобы хорошее сказать сироте, без отцовского глаза и материнской ласки выросшему! Только бы сердце рвать и клеймами жечь до боли! И было же приказано – забыть об опришне?! Но нет, не забыто! Цепок ум, злопамятен. О, моя прокажённая совесть! Она не даст мне покоя ни в миру, ни в скиту! И бежать от неё некуда, только с осердием вырвать и псам на съеденье выбросить…
Всполошённо метался по келье, потом сел на пол и начал выкрикивать, задрав бородатое лицо к иконам:
– Великий архангеле, шестикрылых князь и Небесных Сил воевода, соблюди раба Божия Ивашку, избави от всяких напастей и от всякой притчи! Не отдай на съеденье ехиднам! Утаи под своей крепкой силой! Ты же знаешь, как царь я – зол и грозен, а как человечишко – тих и робок! Кто лучше тебя ведает сие? Ты же знаешь это? О, Богоматерь, Владычица душ, дай чудное заступление за сирого раба твоего, яви свой светлый зрак и лик! Научи, как жить дальше! Дай знак! По каким законам жить, по царским ли, по человеческим ли? Господи, вразуми раба Твоего, несмышлёныша, раз уж дал такое бремя, помоги! Видишь, тяжёл мой крест! Раскалена шапка Мономахова!
Но иконы молчат, сурово и мимо. И не понять, почему безмолвен архангел и безответна Богоматерь. Знаков нет.
«Или участь моя уже взвешена? И просто в презрении молчат, ибо конец предрешён и уготован?» – Лёжа на холодном полу, в смутном ужасе перебирал слова, коими его костерил Мисаил: страдник пекла, хладотворец, человекоядец, ирод кровавый, человековыжималка. И трепет страха входил в кости, мешаясь с холодом каменного пола.
…Где он? Что? Куда бредёт одинёхонек по снежной дороге, без шапки и посоха? То ли из саней выпал, то ли своим ходом заплутал… Вокруг леса непроглядны, колючи, белы от снега, черны от логов и берлог… Что-то светится! Волчьи зенки, светляки – не разобрать… Хотя какие светляки зимой? И оружия с собой никакого! Как он так вылупился, словно дитя неразумное, без ножа и кастета?
Вдруг голос:
– Здрав буди, путник!
А, знакомец, холоп Ананий Колтун, торгаш из села Карпово, на нелепых санях в одну лошадёнку тащится, приветливо так говорит:
– Присаживайся, Васильич, по пути будет.
– Бог в помощь! – отвечает, сам на мешки с рыбой взобрался, а от рыбы заскорузлая вонь прёт. – Чего это она у тебя? Порчена?
Ананий, не оборачиваясь, отвечает зло:
– Ага, как же, порчена! А сволота базарная дерьмом облила!
– Чего ж так?
– А зависть человечья больше неба стала, вот отчего. Моя рыба лучше ихней, вот лайном и облили… Теперя назад везу, отмывать…
– Да, зависть трескучая… – Кому и понять, как не ему, под коим крысы подколодные вечно ямы копают!
Так едут не спеша. Ночь вокруг ясная, луна круглая и яркая как солнце – далеко и хорошо кругом видно. Ананий кобылу пристёгивает и своим делится, и всё, что холоп блажит, так понятно, будто сам всю жизнь в мужицкой избе с тараканами куковал:
– Трудновато жить стало, земли мало, хлеб плохо родится, народец зерно прячет, друг другу горсти в долг не даёт, жить нечем, а оброки земские, а подати, а расходы мирские! Подавай исправно и пощады не жди ни от кого!
– А мне каково? – стал возражать. – Оброк собирать с ленивых? Торговых людей понукать? Стряпчих и целовальников проверять? Подати выбивать? На военные нужды с протянутой рукой по князьям таскаться? И что за князья, прости господи! Их отцы и деды ордынским мурзам стремена лизали да своих жён-дочерей на войлоки их смрадные подсовывали, а теперь тоже чванятся – мы-де князья! Голь перекатная, срамотники, а не князья!
Так в разговорах доехали до каких-то огней. Ба, да это же Александровка! Вон и колокольня Распятская высится! Вот оно что! Значит, гулял недалеко, заплутал…
Вдруг Ананий строго говорит:
– Всё, слезай, Васильич. Мне туда нельзя, твоя опришня больно люта стала – всех поперечных мутузят, оглоеды! Слезай, говорю, не то я тебя! – И погрозил кнутовищем.
Опешил от такой грубости, да делать нечего – не биться же на кулачках с холопом, да ещё таким здоровым и мосластым! И с собой, как назло, ни кистеня, ни заточки, ни подковы, ни ножа, даже посоха нет, чтоб наглецу по башке дать!
Слез, отошёл, оглянулся – а саней уж нет! Словно взлетели, как птицы небесные! Да Ананий ли это был? Ананий не смел бы грозить… Нет, какой там Ананий… Ангел суровый, что в человечьей личине промеж людей затесался и приговоры исполняет… Или леший…
Идти надо через снег к первой избе. И ноги задирать, как оленю, чтобы из сугробов выбраться. «Святый ангеле, страшный и грозный воевода, моли Бога о нас! Не устраши меня, маломощного, дай мне, ангеле, смиренное своё пришествие и красное хождение!»
Через ободворок подобрался к избе.
В окнах огня нет. Крыльцо.
Взошёл кое-как по гнилым мягким просевшим ступеням. Сени не заперты. Дверь со ржавым скрипом отворилась. Шагнул в темноту – и рухнул куда-то!
Очнулся в горячей воде. Откуда-то слабый красноватый свет точится… Вода удушливо-сладко воняет… Да не вода это, а кровь – горячая, вязкая… По самую шею в кровь ушёл, руками-ногами сучит, а жар всё прибавляется! И снизу кто-то за ноги хватает, тянет и булькает:
– Дай зарок – кровь не пускать! Дай зарок – не убивать! Дай зарок тихим и смиренным быть! Не то утоплю!
– Даю! Даю! Господи! Ни одной души за мной не будет! Ни за пазуху не спрячу, ни в подмышках не пронесу! Тих и смирен буду! Даю! Господи! Великий зарок! Только спаси!
И как только крикнул это – тут же в своих постелях очутился, оглушён и оглоушен. И всё тихо кругом. Лунный свет по келье стелется. Собачьи перелаи от ворот доносятся.
Ох, грехи наши тяжкие, гроздьями висят, аки вериги адовы!
Чего это кот Мурлыжка из угла лыбится? Мисаилов шум его вспугнул… С пустого в порожнее… Барсучий жир… Немчины доски мёдом облили – а нам расхлёбывать… Вороги и ворюги… Гнус витает… Комары-кровояды… Брысь отсюда, окаянный! Пштт! Прошка! Кошка! Ложка! Мошка! Кот шкатулу царапает! Золото высасывает, казну пустошит! Брысь, сгинь, уймись, серый сатана!
В печатне
На Распятской колокольне пробило «ночь». Крепость затихла. На гауптвахте у ворот ходили горбатые тени, взблескивали блики бердышей. Убрав келью после разгрома Сукина и кое-как уложив огорчённого царя, слуги, Прошка и его шурин Ониська, отправились исполнять царский приказ.
Держась стен, настороженно оглядываясь, юркими перебежками (как бы не попасть под огонь ручниц, открываемый стражей, если ночью что-то живое шлялось по двору) достигли низкого здания в одно жильё, где раньше была книгопечатня, коя после побега мастера Ивана Фёдорова стояла на замке.
– Куды, дядя? – спрашивал на ходу Ониська.
Прошка, со стопкой листов под мышкой, бурчал сквозь зубы, что государь велел кое-что переписать, – как прибыл в Александровку, так ночами пишет и пишет, запершись в книжной каморе: сядет к столу, рядом кресло поставит – и карябает почём зря, и, похоже, думает, что в кресле кто-то есть, – иногда что-то жарко говорит своему безвидному и безгласному собеседцу, пару раз даже пихал кресло ногой до скрежета.
– Кричал при том: «Много ты, дурень, понимаешь?!» А вдругорядь вопрошал так жалобно, ажно плакать хотелось: «Ну, правильно писано?» Кончит писать, сложит листы, помолится, наземь бухнувшись, и спать отползает. Мозоли видал на его коленях? У многострадальной звери верблюди меньше!
– А чего нас… того?.. Писчики есть – нет? Чего мы-то?
Прошка округлил глаза:
– Видать, что-то тайное, раз писчикам не выкатывает, а велит мне и тебе эти листы тайно перебеливать и ему сдавать… И ты молчи о том, что пишешь, не то враз языка лишишься – схватит за зябры и вырвет клещами, как у покойного князя Федота Нилыча! Эх, вообще тут, в Александровке, нас зело много работы ожидает – царь постельничих, спальников, мовников и других разогнал – не гоже-де христианину братьями во Христе помыкать, Христос-де ноги нищим омывал… Ну вот, ему негоже, Христос омывал, а всё на наши загривки взвалится… Такой уж кисмет в кисете!
Вошли в здание. Посреди под рогожей стояла давильная махина, «друк-машине», по стенам – полки с краской, скребками, формами, ящики с литерами, всякий бумажный товар. По углам – ещё разное, чего и трогать нельзя, недолго и перстов лишиться, как это случилось с убиралкой Маланкой, коя здесь зачем-то шастала и в одну из железяк невзначай палец впихнула по своему бабскому любопытству.
– А та механизьма, словно пёс, её и цапнула – полпальца как не бывало! Тут осядем, – Прошка смахнул рукавом пыль со стола (для противней с литерами), Ониська вытащил из сидора письменное: перья, черниленку, песочник.
Прошка разложил бумагу в две стопы, ворча, что ему совсем не нравится писать. Да что поделать, супротив приказа не попрёшь. Сколько ни отговаривался безграмотой – не помогло, царь знает, что Прошка грамотен. И глаз подбитый не спас. Ониська же научился писать в монастыре у родича-протопопа, чему был рад не меньше, чем месту в царских слугах, куда его, своего молодого шурина, определил Прошка, невзначай к царю приведя. А место великое, куда уж выше? Царь редким князьям удовольствовать себя даёт, а тут – Ониська, простой холоп, но чем-то приглянулся.
В одной стопе бумага была темна, тверда и шероховата, во второй – бела, легка, прозрачна.
– Эт чтось? Того… бамага?
Прошка положил руку на тёмную стопку.
– Сюда писать перечень царёвых соколов, кромешников, будь они неладны! Список опришни. Зачем? Да уж надо, раз пишет… – усмехнулся. – Просто так мараться не будет… Мыслю – счёты сводить будет. Списки, вишь, на что-то понадобились! Ну, не наше собацкое дело!
Этого Ониське объяснять не надо – не их пёсья забота, ясно.
– А вторая бамага, чего там… того… как?
Прошка вытащил из сапога баклажку со стакашко́м, куда плеснул сивогара:
– Этим, кто на прозрачные бумаги в перепись пойдёт, царство небесное, вечная память и земля пух-пером! – Опрокинул махом стакашок, потянулся носом в Ониськино плечо – занюхать, после чего, отдышавшись, объяснил, что сюда надо писать тех, кого царь из стана живых изгнать изволил. – Короче, список мёртвых, винно и безвинно им убиенных! – отчего Ониська поёжился:
– А зачем такое? Тоже – счёты?
Прошка с хохотком пристукнул шурина по лбу:
– Ну ты, сердяга, и королобый! С мёртвяков какой спрос? Нет, сей перечень выбывших из жизни нужен, чтобы по ним панихиды справлять… Вот, саморучно писать изволит заголовку: «Синодик опальных царя Ивана… Царь и государь и великий князь Иван Васильевич всея Руси шлёт в Кириллов монастырь сие поминание и велит поминать на литиях и литургиях во все дни сих опальных людей по грамоте царёвой и панихиды по них вести, а коих имена и прозвища не писаны, а только числом отошедших в мир иной стоят – ты, Господи, сам веси имена их…» Ну да, Богу подсказывать – последнее дело. Ты кого перекатывать хочешь? Живых? А мертвяков – того, боязно? – Прошка усмехнулся страхам шуряки. – Они ж бумажные, дурында! Да и писать тебе придётся вдвое моего поболее – живых пока больше, чем мертвяков. Хотя сего дня жив – а завтра, гляди, и того… Тяпнешь?
Но Ониська по молодости и глупости не хотел пить и с косолапой расторопностью принялся переписывать список опришни, а Прошка, засадив ещё два стакашка к первому (как того живоначальная Троица требует), начал корябать синодик, приговаривая:
– Кто не хочет – не читай, а нам писать велено, не отвертишься…
Роспись Людей Государевых[19]
Агафонов Игнашка, Адамов
Гаврило Матвеев сын, Айгустов
Афонасей, Александров
Семейка, Алексеев Илюша,
Аликеев Иван, Андреев Михей,
Аникеев Поздяк, Аннин
Алексей, Арапышев Куземка,
Арапышев Юшко Микитин,
Арсеньева Васюк Григорьев сын,
Артаков Сулеш, Архимандричь
Анисим, Архипов Иванко
Иванов сын, Архипов Ивашко
Васильев сын, Атмашиков
Андрей,
Бабкин Богдан Фёдоров сын,
Бабкин Васка Микитин сын,
Бабкин Игнат Данилов сын,
Бабкин Меншик Гаврилов
сын, Бабкин Микифорец
Микитин сын, Бабкин Никодим
Олексеев сын, Бабкин Павлец
Олександров сын, Бабкин
Романец Григорьев сын, Багаев
Тимофей, Бакланов Микифор,
Балакирев Проня, Бастанов
Васка Володимеров сын,
Бастанов Иванец Гутманов сын,
Бастанов Ишук Иванов сын,
Бастанов Ларка Гутаманов сын,
Бастанов Нагай Иванов сын,
Бастанов Осиф Гутманов сын,
Бастанов Пентей Власьев сын,
Бастанов Сергей Володимеров
сын, Бастанов Темеш Иванов
сын, Бастанов Янклыч
Володимеров сын, Батурин
Семейка Михайлов, Батюшков
Пятой, Баушов Третьяк,
Безобразов Васка Михайлов
сын, Безобразов Васка Шарапов
сын, Безобразов Володимер
Матвеев сын, Безобразов Гриша
Микифоров сын, Безобразов
Елка Володимеров сын,
Безобразов Захарья Иванов сын,
Безобразов Иван Михайлов сын,
Безобразов Меркур Иванов сын,
Безобразов Митка Шарапов
сын, Безобразов Михайлов
Игнатьев сын, Безобразов
Михалко Володимеров сын,
Безобразов Олёша Иванов сын,
Безобразов Онтон, Безобразов
Осипко Игнатьев сын,
Безобразов Романец Фёдоров
сын, Безобразов Семенец
Володимеров сын, Безобразов
Степан Осипов сын…
Синодик Опальных Царя[20]
После ноября 7075 года:
Раба своего Казарина
Дубровского, да двух сынов
его, 10 человек его тех, кои
приходили на пособь, Ищука
Ивана Боухарина, Богдана
Шепякова, Ивана Огалина,
Ивана Юмина, Григоря
Темирева, Игнатя Заболоцкого,
Фёдора Еропкина, Истому
Кузьмина, князя Василия
Волк Ростовского, Василия
Никитина Борисова, Василия
Хлуднева, Никифора, Степана
Товарыщевых, Дмитрея
Михайлова, Ивана Потапова,
Григоря Фомина, Петра
Шестакова, князя Михаила
Засекина, Михаила Лопатина,
Тихона Тыртова, Афонася инока
старца, что был Ивашов.
После 22 марта 7076 года:
Митрополичьих: старца
Левонтия Русинова, Никиту
Опухтина, Фёдора Рясина,
Семёна Мануйлова.
«Дело» боярина
И.П. Фёдорова:
Владыки Коломенского
боярина Александра Кожина,
кравчаго Тимофея, Собакина
конюшаго Фёдора, да владыки
Коломенского дияка владыкина.
Ивановы люди Петрова
Фёдорова: Смирново
Кирянова, дьяка Семёна
Антонова, татарина Янтоуган
Бахмета, Ивана Лукина,
Богдана Трофимова, Михаил
Цыбневского, Троуха Ефремова,
Ортемья седельника.
В Коломенских сёлах Григорий
Ловчиков отделал Ивановых
людей 20 человек. В Губине
Углу отделано 30 и 9 человек
Михаила Мазилова, Левонтия
Григорьевых, Бряха Кафтырёва,
Никиты Левашёва.