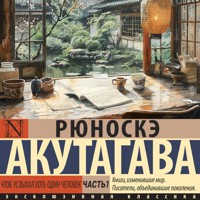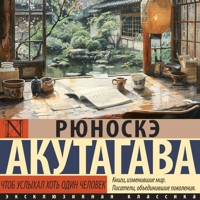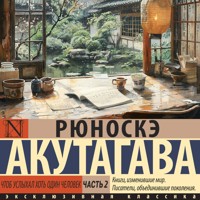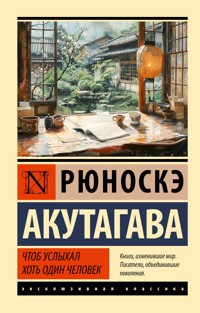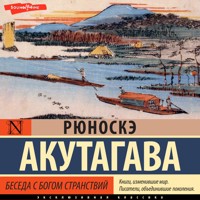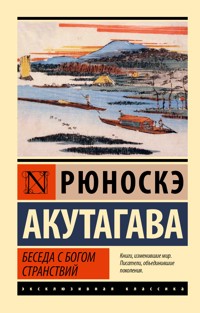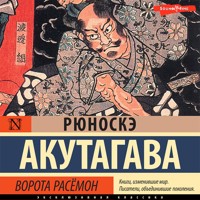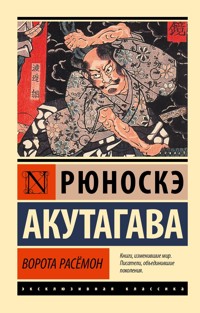
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Эксклюзивная классика
- Sprache: Russisch
В этот сборник вошли как принесшие Акутагаве мировую славу и автоматически ассоциирующиеся с его именем исторические рассказы и новеллы (включая легендарную «В чаще», послужившую основой для сценария бессмертного фильма «Расёмон» Куросавы), так и менее известные западному читателю, но почитающиеся на родине автора еще выше рассказы, действие которых происходит на фоне современной автору реальности Японии начала ХХ века, еще сохраняющей немало черт национального своеобразия, но жадно и стремительно «европеизирующейся». Отдельного упоминания заслуживают постоянно возникающие в творчестве Акутагавы реминисценции с классической русской литературой, которой он беспредельно восхищался и в которой наряду с родной историей нашел неисчерпаемый источник вдохновения.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Акутагава Рюноскэ Ворота Расёмон
Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Ворота Расёмон
Дело было на закате. Один слуга решил переждать дождь под воротами Расёмон.
Кроме него, под массивными воротами никого не было – лишь одинокий сверчок сидел на столбе, с которого облупилась красная краска. Ворота Расёмон находились в самом центре столичного города Киото, на улице Судзаку; можно было ожидать, что хотя бы несколько горожан – женщин в широкополых соломенных шляпах или мужчин в мягких шапочках-момиэбоси – захотят здесь укрыться. Но нет, кроме нашего слуги вокруг не было ни души.
За последние два-три года на столицу обрушилось множество бедствий: землетрясения, тайфуны, пожары, голод – так что пустые улицы стали делом обычным. В хрониках эпохи Хэйан[1] говорится, что в то время буддийские статуи и алтари разрушали, чтобы продать на дрова, и обломки, выкрашенные красной краской и позолоченные или посеребрённые, были свалены грудами у дороги. Пока столица была в упадке, никто не думал о том, чтобы чинить ворота Расёмон, и их, воспользовавшись общим запустением, облюбовали лисы, тануки[2] – а также воры. Дошло до того, что у ворот стали бросать трупы, которые некому было похоронить, и место стало внушать такой ужас, что теперь уже все обходили его стороной после захода солнца.
Вместо людей у ворот стали собираться огромные стаи воронья. Целыми днями они с карканьем кружили над высокой черепичной крышей, а по вечерам, в алых закатных лучах, рассыпались по небу, будто семена кунжута. Ворон, конечно же, привлекала мертвечина. Сейчас, впрочем, их видно не было – быть может, оттого, что час был уже поздний. Лишь на раскрошившихся каменных ступенях, где сквозь трещины проросла высокая трава, там и сям белел вороний помёт. Наш слуга, всецело поглощённый выскочившим на правой щеке прыщом, с рассеянным видом смотрел на струи дождя, примостившись в обтянутых линялых синих шароварах на верхней из семи ступеней.
«Слуга решил переждать дождь», – сказали мы. На самом деле наш герой понятия не имел, куда податься, когда непогода кончится. Будь всё, как обычно, его ждал бы хозяин – но тот несколько дней назад дал ему расчёт. Ведь, как мы помним, столица переживала трудные времена – и слуга, после долгих лет службы оставшийся без работы, являл собой ещё одну примету времени. Так что правильнее было бы сказать не «слуга решил переждать дождь», а «безработный слуга, застигнутый дождём, сидел, не зная, куда идти дальше». Сама погода вводила беднягу в меланхолию. Дождь зарядил ещё в час Обезьяны, то есть в четыре пополудни, и не думал прекращаться. Слуга пытался придумать, как бы заработать денег, чтобы не остаться завтра голодным, но в голову ничего не приходило, и он сидел, слушая – но одновременно будто не слыша – льющийся на улице Судзаку дождь.
Пелена дождя полностью заволокла ворота Расёмон. Издалека слышались раскаты грома. Опускалась ночная тьма, и, стоило поднять голову, казалось, будто тучи повисли на самом коньке двускатной крыши.
У человека в безвыходном положении мало выбора. Захочешь остаться честным – умрёшь от голода во рву или на обочине дороги, а потом тебя принесут к этим самым воротам и бросят, как собаку. А не захочешь… мысли слуги, всё время бегавшие по одной и той же колее, наконец дошли до этой развилки. Впрочем, «если» пока так и оставалось «если». Уже решив про себя, что теперь не до честности, он всё никак не мог через это «если» переступить – ему недоставало смелости, чтобы сказать себе: «Ну что ж, делать нечего – пойду воровать».
Он громко чихнул и с трудом поднялся на ноги. Ближе к ночи похолодало так, что хотелось погреться у огня. Под воротами теперь гулял ветер, сидевший на облупленном столбе сверчок куда-то исчез.
Слуга втянул голову в плечи, поднял ворот синего кимоно, надетого поверх жёлтого исподнего, и обвёл ворота глазами, высматривая местечко поудобнее, где можно переночевать подальше и от ветра с дождём, и от чужих глаз. Тут, по счастью, он заметил широкую, выкрашенную той же красной краской лестницу, ведущую в надстройку над воротами. Вряд ли там наверху мог скрываться кто-то, кроме мертвецов. Осторожно, следя, чтобы меч с простой деревянной рукоятью не выскользнул из ножен на поясе, слуга поставил на нижнюю ступень лестницы ногу в соломенной сандалии-дзори.
Прошло несколько минут. Сжавшись в комок, будто кошка, и почти не дыша, на ступенях широкой лестницы в воротах Расёмон таился человек. Свет, падающий со второго этажа, осветил его правую щёку, где среди короткой щетины краснел налившийся прыщ. Наш герой думал, что наверху нет никого, кроме разве что мёртвых тел, но стоило подняться чуть выше, и оказалось, что там горит свет – и не просто горит, а движется! Это было понятно по тому, как дрожали тусклые жёлтые отблески, освещая паутину в углах под крышей. Кто мог зажечь огонь над воротами Расёмон в эту дождливую ночь? Точно не простой человек!
Слуга бесшумно, будто ящерица, взобрался по крутой лестнице и очень осторожно, стараясь распластаться по ступенькам и держать голову пониже, заглянул на верхний этаж.
Слухи не врали: наверху валялись небрежно брошенные трупы – сколько, непонятно, потому что круг света был меньше, чем казалось снизу. Видно было только, что некоторые в одежде, а некоторые обнажены. Мужские и женские, они раскинулись на полу с открытыми ртами и разбросанными руками, похожие на глиняных кукол – настолько сильно было сходство, что даже появлялась мысль: а точно ли они прежде были живыми людьми? Тусклый свет выхватывал из тьмы выступающие части – плечи, грудь, а всё остальное оставалось в глубокой тени; мертвецы навеки погрузились в молчание.
Слуга зажал нос, спасаясь от вони разлагающихся тел, но в следующий момент опустил руку, потрясённый настолько, что напрочь забыл о запахе.
Он заметил скорчившуюся среди трупов человеческую фигуру: это была старуха, похожая на обезьяну, совершенно седая, мелкая, тощая, в коричневом кимоно. Сжимая в руках сосновую лучину, она вглядывалась в одно из мёртвых лиц – женское, судя по длинным волосам.
Слуга забыл, как дышать: на две трети им владел страх и на одну – любопытство. Как написано в старой хронике, «волосы у него встали дыбом». Тут старуха воткнула лучину между досками пола и потянулась к голове трупа, которую рассматривала. Осторожно, будто обезьяна, ищущая блох у детёныша, она стала перебирать длинные пряди, и они, волосок за волоском, кажется, оставались у неё в руке.
По мере того, как старуха выдирала у трупа волосы, страх в душе слуги понемногу утихал, сменяясь жгучей ненавистью к старухе… впрочем, нет – не совсем так. Не к старухе чувствовал он ненависть в тот момент, но к самому злу, и это чувство крепло с каждой секундой. Это был уже не тот человек, что сидел под воротами: пожалуй, сейчас, выбирая между голодной смертью и жизнью вора, он без колебаний выбрал бы смерть. Ненависть ко злу вспыхнула в его сердце так же ярко, как сосновая лучина в полу.
Конечно, наш герой не понимал, зачем старуха вырывает волосы, – а значит, строго говоря, не мог и судить о том, зло она творит или добро. Но ему достаточно было знать, что ненастной ночью над воротами Расёмон кто-то ворует волосы с трупов, – это само по себе казалось непростительным преступлением. Разумеется, он напрочь забыл, что ещё пять минут назад тоже собирался заделаться вором.
Изо всех сил толкнувшись ногами, он одним прыжком взлетел наверх и, схватившись за рукоять меча, предстал перед старухой. Та от неожиданности отшатнулась, распрямившись с быстротой спущенной тетивы.
– Стой! Куда? – прикрикнул он, преграждая ей путь: старуха в панике бросилась бежать и споткнулась о труп. Она попыталась было оттолкнуть слугу, но тот крепко схватил её, отказываясь отпускать. Некоторое время они молча боролись, окружённые мёртвыми телами. Однако исход схватки был предрешён. Слуга вывернул старухе руку – тонкую, будто цыплячья нога, лишь кожа да кости.
– Ты что тут делала? Отвечай, не то тебе конец! – Он выпустил пленницу и, одним махом выхватив меч из ножен, сунул блестящий клинок ей под нос. Старуха не издала ни звука – руки у неё дрожали, плечи ходили ходуном от частого дыхания, глаза едва не вылезали из орбит, но она продолжала упрямо молчать, будто утратила дар речи. Глядя на неё, слуга вдруг осознал, что её жизнь сейчас полностью в его руках, – и от этого ненависть, столь яростно пылавшая в груди, приутихла, осталось только спокойное, горделивое удовлетворение, какое бывает, когда справишься с работой. Нависая над старухой, он обратился к ней помягче:
– Я не из городской стражи, я просто путник, который проходил мимо ворот. Связывать тебя не буду, ничего тебе не сделаю. Просто скажи, что ты делала в такой час здесь, над воротами.
Старуха ещё шире распахнула покрасневшие глаза, пристально, будто хищная птица, вглядываясь в лицо слуги, и, наконец, зашевелила тонкими губами, похожими на ещё одну морщину, вытянувшуюся под носом. В тонком горле заходил острый кадык. Хриплый голос напоминал воронье карканье:
– Волосы, волосы выдирала. Волосы на парики.
Ответ слугу разочаровал, оказавшись неожиданно обыденным. Но вместе с разочарованием в нём вспыхнула угасшая ненависть. Видимо, старуха тоже что-то почувствовала, потому что, сжимая в руках длинные пряди волос, которые успела надёргать, по-жабьи заквакала:
– Может, и плохо – волосы рвать у мертвецов. Да только здесь такие мертвецы, что их не зазорно и обобрать. Вот эта, чьи космы, резала змею на куски длиной с ладонь и ходила к дворцовой охране продавать вместо сушёной рыбы. Если б не померла от чумы, до сих пор бы продавала. Хотя, если уж на то пошло, все её рыбу хвалили, стражники подчистую раскупали. По мне так она ничего дурного не делала. Деваться ей было некуда, а то бы от голода окочурилась. Значит, и я ничего дурного не делаю. Тут ведь либо так, либо голодная смерть. Торговка хорошо это знала – глядишь, и простит меня.
Слуга слушал её холодно, убрав меч обратно в ножны и держа левую руку на рукояти – правой-то он вновь принялся ковырять красный, налитый гноем прыщ на щеке. Но, пока он слушал, в сердце у него крепла решимость, которой не хватало прежде, когда он сидел внизу, под воротами. Теперь он чувствовал себя храбрым – только это была совсем не та храбрость, с которой он поднялся сюда и поймал старуху. Он больше не колебался: умереть от голода или стать вором? Нет, теперь и мысли о голодной смерти не возникало – не в чем тут было сомневаться.
– А и верно, – ухмыльнулся он, дослушав речь старой женщины. Вдруг оторвав руку от щеки, он быстро шагнул вперёд и крепко схватил пленницу за воротник: – Ну, тогда и на мне нет греха, если я подамся в грабители, не то с голоду ведь помру.
С этими словами он молниеносно сорвал со старухи кимоно. Та попыталась было вцепиться ему в ногу, но он с силой пнул её, и она упала на трупы. От лестницы слугу отделяло лишь пять шагов. Зажав под мышкой старухино коричневое кимоно, он мгновенно сбежал по крутым ступеням и скрылся в ночи.
Какое-то время старуха лежала, как мёртвая, но в конце концов её обнажённое тело медленно поднялось над другими телами. Охая и что-то бормоча, она в свете ещё горевшей лучины подползла к лестнице и оттуда, свесив короткие седые космы, вгляделась во тьму под воротами. Но мрак снаружи был непроницаемым, как в пещере.
Что случилось дальше со слугой, никому не известно.
Сентябрь 1915 г.
Обезьяна
Этот случай произошёл в самом конце длительного рейса, вместе с которым заканчивался и срок моей службы в качестве курсанта; на военных кораблях таких, как мы, называли «хангёку», будто учениц гейши. Наш корабль «А.» уже три дня стоял в порту Йокосука. Около трёх часов пополудни корабельный горн энергично протрубил построение для схода на берег. Действительно, настал черёд идти в увольнение тем, чьи посты были по правому борту, но они уже выстроились на верхней палубе. Тут прозвучал новый сигнал: общий сбор. Выходит, дело серьёзное. Что случилось, никто не знал, и мы, бросая друг на друга недоумённые взгляды, побежали к люку, ведущему наверх.
Когда все собрались, старпом объявил: «В последнее время у нас произошло несколько краж. Вчера на борт поднимался местный часовщик, и он сказал, что у него пропали двое неисправных серебряных часов. Поэтому сейчас мы проведём досмотр команды и личных вещей».
Про часовщика мы слышали первый раз, но про кражи на корабле было известно и раньше: у мичмана и двоих матросов пропали деньги.
Для личного досмотра матросы разделись догола. По счастью, в начале октября погода стояла ещё летняя, и на красных буйках в гавани играли солнечные блики, так что разоблачаться, похоже, было не слишком неприятно. Не повезло только тем, кто собирался в увольнение на берег: они-то готовились хорошо провести время, и сейчас у них из карманов посыпались эротические картинки и презервативы. Виновники краснели, суетились – но поздно. Два-три человека получили от офицеров по шее.
На корабле служило целых шестьсот человек, так что процедура заняла много времени. Странное, наверное, зрелище: шестьсот голых мужчин, выстроившихся на верхней палубе. Имелась среди прочих смена кочегаров с чёрными от сажи лицами и запястьями; на них пало подозрение в последней краже, и они, сняв даже панталоны, стояли с самым мрачным видом, будто говоря: ищите, где хотите.
Пока это происходило на верхней палубе, на средней и нижней начали обыск. Курсантов расставили у каждого люка так, чтобы никто из команды не мог сойти вниз. Меня отправили досматривать вещи, и я вместе с товарищами обходил каюты, перетряхивая матросские карманы и рундуки. Подобным я занимался впервые. Задача не так проста, как кажется: нужно заглянуть в каждый угол, проверить каждую полку. Наконец украденные вещи нашёл мой приятель, другой курсант по имени Макита. И часы, и деньги обнаружились в рундуке у сигнальщика по имени Нарасима – а с ними и нож с синей перламутровой рукоятью, пропавший у юнги.
Всех, за исключением сигнальщиков, распустили. На палубе обрадовались до чрезвычайности. Особенно довольными выглядели кочегары, которых подозревали ранее. Однако, когда собрали сигнальщиков, оказалось, что Нарасимы среди них нет.
Я тогда был совсем неопытен и не понимал, что к чему, но на военных кораблях такое порой случается: краденое находят, а преступника – нет. Разумеется, он кончает с собой – большинство вешается в угольном трюме; изредка прыгают за борт. Однажды на корабле, где я служил, кто-то воткнул себе в живот нож. Но не умер, его нашли и спасли.
Вот почему, обнаружив отсутствие Нарасимы, офицеры встревожились. Особенно мне бросилось в глаза, как обеспокоен старпом. Про него говорили, что он герой войны, а тут вдруг аж в лице изменился. Со стороны это выглядело нелепо. Мы с другими курсантами обменялись презрительными взглядами: мол, старпом вечно разглагольствует о стойкости духа, а сам, чуть что, запаниковал.
По его приказу на корабле объявили поиск. Тут я, да наверняка и не только я, ощутил приятное волнение – сродни зевакам, увидевшим в городе пожар. Когда полиция отправляется задерживать преступника, всегда есть опасение, что он станет сопротивляться, но на военном корабле подобное представить невозможно. У нас огромное преимущество – субординация. Тем, кто не служил, наверное, не понять, какая пропасть пролегает между матросами и нами, будущими офицерами. Поэтому меня вся эта суматоха лишь взбодрила, и я чуть ли не бегом отправился в трюм на поиски.
Вместе со мной пошёл и Макита, тоже до крайности заинтересованный. Тронув меня сзади за плечо, он спросил:
– Эй, а помнишь, как мы ловили обезьяну?
– Да. Боюсь, сегодняшняя не такая ловкая будет.
– Не задирай нос, а то упустишь.
– Да ладно, обезьяна – она и есть обезьяна.
Обмениваясь прибаутками в этом роде, мы сошли вниз.
Обезьяну, о которой шла речь, наш начальник артиллерии получил в подарок от кого-то в Брисбене, когда корабль ходил в Австралию. Однако во время рейса, за два дня до того, как мы зашли в порт Вильгельмсхафен, обезьяна пропала, прихватив часы командира, что вызвало на корабле большой переполох. Помимо прочего, все, проведя долгое время в море, изнывали от скуки. И потому мы, во главе с начальником артиллерии, прямо в курсантской форме отправились обыскивать корабль сверху донизу – от машинного отделения до орудийных башен. Суета поднялась нешуточная. Во время рейсов члены команды часто получают в подарок или покупают разных животных, поэтому, пока мы шли, у нас под ногами путались собаки, вокруг кричали пеликаны, попугаи в висячих клетках неистово хлопали крыльями… В общем, обстановка была, словно в цирке начался пожар. Чёртова обезьяна вместе с часами каким-то образом выскользнула на верхнюю палубу, где попыталась вскарабкаться на мачту. Однако там работало несколько матросов, которые не дали ей уйти. Один сразу же ухватил беглянку за загривок и без труда поймал. Хотя в часах разбилось стекло, в остальном они не пострадали. Начальник артиллерии велел в наказание два дня не давать животному еды, но, как ни смешно, сам же и не выдержал, накормив её до истечения срока морковью и бататом со словами: «Жалко зверушку, такая грустная сидит». Так вот поиски Нарасимы напоминали нам погоню за обезьяной.
Я первым спустился на нижнюю палубу. Там, как вы знаете, ничего толком не разглядишь, в полумраке только вырисовывается металлическая арматура или окрашенные панели. И такое впечатление, что не хватает воздуха. Пройдя в потёмках пару шагов по направлению к угольному трюму, я чуть не закричал в голос: из грузового люка по пояс торчал человек. По всей видимости, он пытался вперёд ногами пролезть сквозь узкое отверстие. Лицо закрывали воротник тёмно-синей матросской блузы и бескозырка, да и света было слишком мало, так что я видел лишь силуэт до половины. И всё же я сразу понял: Нарасима хочет пробраться в трюм и там наложить на себя руки.
Я предвкушал свой момент славы – приятное, ни на что не похожее волнение, от которого кровь быстрее струится по жилам. Как мне его описать? Наверное, так чувствует себя охотник, когда после долгого ожидания с ружьём наизготовку наконец замечает добычу. Будто во сне, я прыгнул на неизвестного и молниеносно, как охотничья собака, вцепился ему в плечи, крикнув:
– Нарасима! – Ругать или оскорблять его я не собирался. Голос дрогнул и прозвучал слишком высоко. Конечно, передо мной был именно тот, кого мы искали.
Нарасима, по-прежнему по пояс в люке, не попытался высвободиться, а лишь безропотно поднял голову. «Безропотно», – говорю я, однако слово не передаёт того, что нужно. Это было движение человека, неспособного роптать, потому что вконец обессилел, – будто рея, сломанная ветром во время шторма и беспомощно повисшая с наступленьем затишья. Подсознательно я ожидал сопротивления и, не встретив его, был даже разочарован. С некоторым раздражением я молча взглянул в обращённое ко мне лицо.
Такого выражения я больше ни у кого не видел – сам дьявол, наверное, разрыдался бы, узрев его. Впрочем, без объяснений вы едва ли сможете понять, о чём я говорю. Попытаюсь описать: полные слёз глаза, непроизвольно подёргивающиеся, будто в судороге, мышцы в уголке рта – это, наверное, вы в силах вообразить. Прибавьте сюда бледность и испарину. Их тоже легко представить. Но какому писателю под силу передать словами ужасное впечатление, складывающееся из совокупности этих элементов? Положа руку на сердце, могу сказать вам, литератору, лишь одно: вид несчастного сигнальщика поразил меня прямо в сердце, будто удар молнии. Пожалуй, это было самое сильное потрясение в моей жизни.
– Ты, негодяй, что делать собрался? – машинально спросил я. И вдруг услышал этот вопрос, обращённым к себе: «А ты-то сам, негодяй, что собрался делать?» Как ответить? «Я собираюсь обойтись с этим человеком, как с преступником». Кто может спокойно в таком признаться? Кто готов так поступить, видя перед собой то самое лицо? Сейчас, когда я рассказываю, кажется, что эти размышления длились долго, а на самом деле всё пронеслось в голове в мгновение ока. И тут…
– Мне стыдно, – услышал я тихо.
Сможете ли вы описать это? Фраза отдалась в моём сердце. Я ощутил её каждым нервом, словно укол иглы. Мне тоже захотелось сказать, как Нарасима: «Мне стыдно», – и склонить голову перед чем-то большим, чем я. Выпустив пленника, я поднялся на ноги и застыл возле угольного трюма в растерянности, как будто сам был пойманным преступником.
Что произошло дальше, вы, я думаю, можете догадаться и без объяснений. Ночь Нарасима провёл на гауптвахте, а на следующий день его отправили в военно-морскую тюрьму в Ураге. Как я слышал, заключённых там часто заставляют «подносить снаряды»: таскать железные ядра весом под двадцать килограммов между столами, стоящими на расстоянии в два с половиной метра. Считается, что для заключённых это самая мучительная пытка. У Достоевского в «Записках из мёртвого дома», которые я однажды брал у вас почитать, тоже говорится: «…если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, – я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки»[3]. Удивительно, что заключённые в Ураге, с которыми проделывают подобное, самоубийств, похоже, не совершают. Схваченный мной сигнальщик отправился именно туда. Невысокий, робкий, тихий человек с веснушчатым лицом…
В тот день я вместе с другими курсантами стоял снаружи, опёршись на леера и глядя на закат над гаванью, когда Макита, подойдя ко мне, словно в шутку сказал:
– А ты молодец, поймал обезьяну!
Видимо, думал, что я втайне этим горжусь.
– Нарасима – человек. Не обезьяна, – резко ответил я и отошёл подальше. Остальные, должно быть, удивились: мы с Макитой дружили с самого поступления во флотскую академию и никогда не ссорились.
Я в одиночестве шагал по верхней палубе от кормы к носу и с теплотой вспоминал, как встревожился старпом, когда пропал Нарасима. Мы все видели в сигнальщике подобие обезьяны, и только старпом увидел человека – и проявил сострадание. Мы же со своими презрительными усмешками выглядели полными идиотами. Я склонил голову, чувствуя себя до странности пристыженным. Потом вновь зашагал по палубе в опускавшихся сумерках, теперь от носа к корме, стараясь ступать потише. Мне казалось, что бодро стучать каблуками нехорошо по отношению к Нарасиме, запертому на гауптвахте.
Кражи он совершал, как выяснилось, из-за женщины. Не знаю, что за срок ему дали; думаю, минимум несколько месяцев. Ведь человеку, в отличие от обезьяны, рассчитывать на снисхождение не приходится.
Август 1916 г.
Носовой платок
Хасэгава Киндзо, профессор кафедры юриспруденции Токийского императорского университета, сидел в плетёном кресле на веранде своего дома и читал «Драматургию» Стриндберга.
Учитывая, что профессор специализировался на колониальной политике, выбор книги может показаться читателю неожиданным. Однако сей достойный муж, не только учёный, но и педагог, старался, если позволяло время, знакомиться с произведениями, занимавшими мысли и чувства современной молодёжи, даже если произведения эти не входили в сферу его научных интересов. Будучи по совместительству директором технического училища, он даже взял на себя труд прочитать любимые тамошними учениками «De Profundis» и «Замыслы» Оскара Уайльда. Потому неудивительно, что сейчас перед ним было сочинение о современной европейской драме и актёрском искусстве: некоторые из его студентов писали о Стриндберге, Ибсене и Метерлинке статьи и порой увлекались настолько, что решали в будущем пойти по их стопам и посвятить театру жизнь.
Каждый раз, дочитав очередную искромётную главу, профессор опускал книгу в жёлтом матерчатом переплёте на колени и рассеянно глядел на расписной бумажный фонарь, висящий на веранде. Любопытно: стоило отвлечься от Стриндберга, и мысли неизменно обращались к жене, вместе с которой они этот фонарь покупали. Профессор женился во время учёбы в Соединённых Штатах, как можно было ожидать, на американке. Тем не менее, она любила Японию и японцев не меньше, чем супруг, – в частности, питала слабость к изящным традиционным вещицам. Так что светильник отражал вкусы не столько хозяина, сколько хозяйки дома.
Отрываясь от книги, профессор всякий раз думал о жене, бумажном фонаре и японской культуре, в этом фонаре воплощённой. По его мнению, за последние пятьдесят лет Япония проделала очень большой путь в плане материального развития – чего, однако, нельзя было сказать о развитии духовном. Более того, в сфере духовной даже наметился упадок. Что же могли предпринять современные мыслители для решения столь актуальной проблемы? Профессор приходил к выводу: единственный возможный ответ – уникальная японская философия, бусидо. Не стоило сбрасывать её со счетов как мораль зашоренных островитян. Напротив, многое в этой системе воззрений соответствовало духу западных христианских ценностей. Выбрав в качестве ориентира бусидо, современная японская мысль могла бы не только поспособствовать просвещению Японии, но и облегчить взаимопонимание между Востоком и Западом, а значит, послужить укреплению мира на Земле… Так профессор видел свою роль – стать связующим звеном между восточной и западной цивилизациями. Ему было особенно приятно осознавать, что его жена и традиционный фонарь – а значит, и японская культура, которую тот символизирует, – пребывают в гармонии друг с другом.
Вновь и вновь смакуя это отрадное ощущение, профессор заметил, что мысли его всё больше отдаляются от Стриндберга. Он с досадой покачал головой и постарался сосредоточиться, вглядываясь в мелкий шрифт. В глаза бросился абзац: «Когда актёр находит подходящий способ выразить самую обычную эмоцию и достигает успеха, он начинает прибегать к этому приёму постоянно, независимо от того, насколько он уместен, – отчасти из-за простоты, а отчасти потому, что может таким образом повторить успех. Это называется манерой игры».
По натуре профессор был равнодушен к искусству, в том числе театральному. До сих пор его опыт ограничивался несколькими пьесами традиционного японского театра. Однажды в произведении, написанном его студентом, попалось имя Байко – и профессору, гордившемуся своей эрудицией, оно оказалось совершенно незнакомо. Дождавшись удобного случая, он спросил у автора:
– А кто такой этот Байко?
– Байко? Это актёр Императорского театра в Маруноути, он сейчас играет Мисао в десятом акте «Тайкоки»[4], – вежливо ответил молодой человек в простых полосатых хакама – типичной одежде студентов.
Итак, никакого собственного мнения о сценических методах, которые остроумно комментировал Стриндберг, у профессора не было, поэтому книга интересовала его лишь в той мере, в какой удавалось найти в ней переклички с немногочисленными спектаклями, увиденными во время учёбы за границей. Иными словами, он читал её, как школьный учитель английского читает пьесы Бернарда Шоу – в поисках идиом. Впрочем, даже такой, несколько однобокий, интерес всё же остаётся интересом.
Расписной фонарь, свисавший с потолка веранды, ещё не горел. Профессор Хасэгава Киндзо, сидя в плетёном кресле, по-прежнему читал «Драматургию» Стриндберга. Думаю, по этим приметам читатель легко может представить себе, как долго тянулся летний день. Впрочем, всё это совсем не значит, что профессору было нечем заняться, и тот, кто истолкует мои слова подобным образом, намеренно извратит их смысл. Меж тем от Стриндберга пришлось оторваться – философское уединение нарушила горничная, сообщившая, что хозяина хотят видеть. Даже к концу самого длинного дня работа у профессора не иссякала.
Отложив книгу, он посмотрел на поданную ему миниатюрную визитную карточку. На кремовой бумаге тонким шрифтом значилось: «Нисияма Ацуко». Имя ему ни о чём не говорило. Встав с плетёного кресла, профессор, обладавший широким кругом знакомств, порылся в памяти. Увы, на ум по-прежнему никто не приходил. Заложив страницу визиткой, он оставил книгу в кресле, с беспокойством одёрнул домашнее кимоно из модного шёлка «мейсен» и вновь взглянул на покачивавшийся перед глазами фонарь. Едва ли кто-то станет спорить, что хозяин, который заставляет гостя ждать, переживает сильнее, чем гость в ожидании. Профессор же по преподавательской привычке был пунктуален всегда – тем более при встрече с незнакомой женщиной.
Точно рассчитав время, он открыл дверь в гостиную. Одновременно, едва он выпустил ручку двери, со стула поднялась женщина лет сорока. На ней было стального цвета кимоно – настолько изысканное, что профессор не мог оценить его в полной мере, – а поверх него накидка-хаори из чёрной кисеи. Неплотно запахнутая спереди, она открывала на поясе-оби нефритовую брошь в виде ромба. Пышный узел на затылке даже профессор, обычно не обращавший внимания на такие мелочи, опознал как «марумагэ» – традиционную причёску замужней женщины. Гостья, с типичным для японки круглым лицом и смугловатой, янтарного оттенка кожей, будто лучилась материнской мудростью. Взглянув на неё, профессор почувствовал, что где-то её уже видел.
– Хасэгава, – представился он с учтивым поклоном. Если они и правда встречались, гостья наверняка об этом упомянет.
– Я мать Нисиямы Кэнъитиро, – хорошо поставленным голосом проговорила женщина и почтительно поклонилась в ответ.
Нисияму Кэнъитиро профессор помнил: один из тех, кто писал статьи о Стриндберге и Ибсене… вроде бы специализировался по немецкому праву и, даже поступив в университет, нередко заходил к профессору, чтобы обсудить философские вопросы. Этой весной юноша заболел перитонитом, и его положили в университетскую больницу; профессор пару раз ходил его навещать. Вот, значит, почему лицо женщины показалось ему знакомым. Тот жизнерадостный студент с густыми бровями был на неё удивительно похож – «будто две дыни с одного поля», как говорит японская поговорка.
– А, Нисияма-кун… – пробормотал профессор, словно сам себе, и указал на стул возле маленького столика. – Прошу вас.
Женщина, извинившись за внезапный визит, вновь вежливо поклонилась и присела на указанное место. В рукаве у неё мелькнуло что-то белое – вроде бы носовой платок, – и профессор тут же придвинул к ней корейский веер – для спасения от жары. Сам он занял место напротив.
– У вас прекрасный дом, – чуть натянуто произнесла женщина, обводя взглядом комнату.
– Ну что вы… Тут просторно, конечно, но мы его совсем запустили… – Привыкший к подобным светским ремаркам профессор дождался, пока подошедшая горничная поставит перед гостьей прохладный зелёный чай, и поспешил перевести разговор. – Как дела у Нисиямы-куна? Есть ли новости?
– Да. – Женщина скромно сложила руки на коленях и немного помолчала, а потом заговорила тихо, очень спокойным, ровным тоном: – Именно из-за сына я и осмелилась вас побеспокоить. К сожалению, его не смогли спасти. Благодарю вас – вы очень много сделали для него во время учёбы…
Профессор, решивший, будто гостья стесняется, уже поднёс чашку – европейскую, для чёрного чая – к губам, предполагая, что пример подействует лучше, нежели настойчивые призывы угощаться. Но не успели его мягкие усы коснуться края чашки, как он услышал слова гостьи и застыл, будто громом поражённый. Уместно ли в такой ситуации отпить чаю? Или нет? Первые его мысли были именно об этом, а не о кончине несчастного юноши. Однако просто поставить взятую в руки чашку было бы нелепо. Наконец решившись, профессор одним глотком отхлебнул половину и, слегка нахмурившись, сдавленным голосом произнёс:
– Ну и дела…
– …он часто говорил о вас, пока был в больнице, и потому я решилась вас побеспокоить, несмотря на вашу занятость. Хотелось выразить…
– Нет-нет, что вы… – Посерьёзнев, профессор поставил чашку и взял вместо неё веер из синей вощёной бумаги. – Ужасное несчастье. Перед ним открывалось большое будущее. А я давно в больницу не ездил – думал, наверняка уже поправился… Когда его не стало?
– Вчера как раз было семь дней.
– Это случилось в больнице?
– Да.
– Я действительно ошарашен…
– Во всяком случае, для него сделали всё возможное. Надо смириться с неизбежным. Хоть мне и трудно не сетовать, что так вышло…
Пока они беседовали, профессор с удивлением осознал: хотя женщина говорила о смерти сына, ничто в её поведении и манерах на это не указывало. Глаза были сухими, голос спокойным. Более того, она даже слегка улыбалась уголками рта. Сторонний наблюдатель, не слышавший её рассказа, наверняка решил бы, что она повествует о чём-то обыденном. Профессору это показалось странным.
…Много лет назад, когда он учился в Берлине, скончался Вильгельм Первый – отец нынешнего кайзера. Профессор узнал эту новость в излюбленной кофейне, но не придал событию особого значения. Когда же он, как обычно, с бодрым лицом и тростью под мышкой вернулся к себе в пансион, двое тамошних детей – двенадцатилетняя девочка в коричневой курточке и девятилетний мальчик в коротких тёмно-синих штанишках – бросились ему на шею и разразились слезами. Профессор, обожавший детей, совершенно не понимал, в чём дело, и лишь гладил их по белокурым головкам, повторяя: «Что случилось?» Дети продолжали безутешно рыдать.
– Сказали, что умер дедушка-император! – признались они в конце концов, шмыгая носами.
Профессора тогда поразило, что даже такие малютки горюют о кончине монарха. Однако задумался он не только о связи между императорской семьёй и народом. Приехав на Запад, он не раз обращал внимание, как импульсивны тамошние жители и как открыто выражают эмоции – и каждый раз удивлялся, с особенной остротой чувствуя, что сам он – японец и последователь бусидо. Он по-прежнему не забыл – не мог забыть – тогдашнее ощущение: сочувствие, смешанное с недоверием. Теперь же его поразило как раз обратное: гостья не плакала.
Вскоре последовало и второе открытие.
От соболезнований по поводу случившегося несчастья они перешли к воспоминаниям о жизни юноши и уже готовы были вернуться к сетованиям о его безвременной гибели. Тут из рук профессора выскользнул веер и со стуком ударился о паркет. Неспешная беседа позволяла на миг отвлечься, поэтому он наклонился за обронённым. Веер лежал под столом – у самых ног гостьи, обтянутых белыми носками-таби и обутых в домашние тапочки.
Взгляд профессора случайно упал на колени женщины. В лежавших на них руках она сжимала платок. Конечно, само по себе это не было открытием. Однако руки эти сильно дрожали и – видимо, силясь подавить бурю чувств, – терзали клочок ткани, едва не разрывая его на части. И, наконец, профессор заметил, что вышитый кончик шёлкового платка тоже подрагивает между изящных пальцев, будто колеблемый ветром. На лице у женщины была улыбка, но всё тело её сотрясалось от рыданий.
Подобрав веер, профессор поднял голову. Его лицо приняло новое выражение – сложное и несколько преувеличенное: благоговение, словно он увидел нечто, не предназначенное для его глаз.
– У меня нет своих детей, но я понимаю, насколько вам, должно быть, тяжело, – тихим, прочувствованным голосом сказал он, театрально отводя взгляд, будто от яркого света.
– Благодарю вас. Увы, никакие слова не изменят того, что произошло.
Женщина наклонила голову. На ясном лице застыла непроницаемая улыбка.
Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, закусил на десерт черешней и вновь удобно расположился в плетёном кресле на веранде.
В долгие летние вечера часы до наступления сумерек тянутся бесконечно, и на просторной веранде с раскрытыми окнами ещё не стемнело. Профессор сидел в тускнеющем свете, закинув левую ногу на правую и положив голову на спинку плетёного кресла; он рассеянно глядел на красную кисточку, украшавшую расписной фонарь. Хотя в руках у него была книжка Стриндберга, он так и не прочёл ни одной страницы. И неудивительно – из головы не шла беспримерная стойкость госпожи Нисиямы.
За ужином он рассказал всю историю от начала до конца жене, присовокупив панегирик японским женщинам, олицетворявшим философию бусидо. Жена, с её любовью к Японии и японцам, конечно, была впечатлена, и её супруг радовался, что нашёл в ней восторженного слушателя. Жена, недавняя гостья, бумажный фонарь – три этих объекта и те морально-этические концепции, которые за ними стояли, вновь и вновь всплывали в сознании профессора.
Он и сам не знал, сколько времени провёл за приятными размышлениями. Довольно долго; прервало их воспоминание о том, что его просили написать статью для одного журнала. Там под общим заголовком «Чтение для современной молодёжи» различные авторитетные фигуры рассуждали о нравственности. Профессор решил приступить к работе незамедлительно, используя сегодняшнее происшествие как отправную точку. Подумав об этом, он почесал в затылке.
Для этого из рук пришлось выпустить книгу. Вспомнив о ней, он раскрыл её вновь – на странице, которую заложил визитной карточкой. Подошедшая горничная зажгла над головой узорчатый фонарь, так что мелкий шрифт стало видно лучше. Углубляться в чтение профессор сейчас не собирался. Однако, опустив глаза, он упёрся взглядом в такие строки.
«В пору моей молодости, – писал Стриндберг, – у всех на слуху была мадам Хейберг[5] и её платок – кажется, то было парижское изобретение. Суть приёма заключалась в «двойной игре»: на лице актрисы улыбка, а руками она рвёт платок. Сейчас мы назвали бы это трюкачеством».
Профессор положил открытую книгу на колени. Посреди страницы по-прежнему лежала визитная карточка Нисиямы Ацуко. Но теперь профессор думал не о ней. И не о собственной жене, и не о японской культуре. Он ощущал некую угрозу гармоничному сочетанию этих элементов. Конечно, есть разница между сценическими методами, о которых писал Стриндберг, и вопросами прикладной морали. И всё же в прочитанном было что-то, смущавшее безмятежный покой, который снизошёл было на профессора после вечерней ванны. Что-то, имевшее отношение к бусидо и выработанной раз и навсегда манере игры…
Пару раз недовольно встряхнув головой, профессор вновь поднял глаза и уставился на яркий фонарь, по абажуру которого вились осенние травы.
Сентябрь 1916 г.
Mensura Zoili
Я сидел в кают-компании, а напротив меня, через стол, расположился странного вида мужчина…
Стоп. Я не был уверен, что нахожусь на борту судна: такой вывод я сделал потому, что за окном виднелось море, а сама комната показалась мне похожей на… кают-компанию. Но, может, это какое-то более привычное место? Впрочем, нет. Тогда не было бы такой качки. Я, конечно, не Киносита Мокутаро[6] и не могу сходу определить амплитуду колебаний, но комната качается – совершенно точно. Это, в конце концов, можно проверить, посмотрев в окно на линию горизонта, которая то поднимается, то опускается. День пасмурный, поэтому раскинувшееся, насколько хватает глаз, море – смутного серо-зелёного цвета, но граница, где оно соединяется со свинцовым небом, прыгает, по-разному перерезая круглое окно. Вот проплыла птица, почти того же оттенка, что и тучи, – видимо, крупная чайка.
Вернёмся к странному человеку, который сидит напротив и со скучающим видом читает газету. На носу у него очки с толстыми стёклами. Густые усы. Квадратный подбородок. Такое ощущение, что я его где-то встречал, но никак не могу вспомнить где. Судя по пышной всклокоченной шевелюре, передо мной какой-нибудь писатель или художник – правда, с этим образом совсем не вяжется его строгий коричневый костюм.
Какое-то время я внимательно рассматривал эту любопытную фигуру, потягивая из маленькой рюмки сладкий европейский ликёр. Мне было скучно, хотелось завязать разговор, но я всё не мог решиться – так неприветливо выглядел мой визави.
В конце концов господин с квадратным подбородком вытянул вперёд ноги и, подавляя зевок, сказал:
– Эх, скучно. – С этими словами он бросил на меня взгляд из-под очков и вновь вернулся к газете. Я окончательно уверился в том, что где-то его уже видел.
В кают-компании никого, кроме нас, не было.
– Скучно! – через некоторое время повторил странный человек. На этот раз он швырнул газету на стол и уставился на меня, рассеянно попивающего свой ликёр.
– Не хотите ли угоститься рюмочкой? – спросил я.
– О, спасибо. – Он склонил голову, но не сказал ни «да», ни «нет» на предложение выпить и продолжал: – Совсем измучился. Так и помереть можно со скуки, пока доберёшься.
Я не стал возражать.
– До Зоилии ещё больше недели, а судно у меня уже в печёнках сидит.
– До… Зоилии?
– Именно. До Республики Зоилия.
– А что, есть такая страна?
– Ну вы даёте. Неужели вы не слышали про Зоилию? Не знаю, куда вы направляетесь, но этот рейс всегда туда заходит.
Я был озадачен. Если уж на то пошло, я понятия не имел, как вообще оказался на этом судне. А название «Зоилия» мне точно не встречалось прежде.
– Правда?
– Конечно. Зоилия прославилась ещё в незапамятные времена. Вы, наверное, слышали, что именно здешний учёный когда-то раскритиковал Гомера. В столице и по сей день стоит великолепный обелиск в его честь.
Я удивился внезапно обнаружившейся эрудиции Квадратного Подбородка.
– Выходит, государство древнее?
– Ещё какое. По легенде, Зоилию когда-то населяли лягушки, но Афина Паллада превратила их в людей. Болтают, будто речь местных жителей похожа на кваканье, но правды в слухах нет. В исторических хрониках Зоилия впервые упоминается в связи с тем самым героическим учёным – обличителем Гомера.
– И что же, это и теперь просвещённая страна?
– А как же! Особенно известен столичный университет – он собрал в своих стенах лучших учёных страны и не уступает известнейшим университетам мира. А не так давно группа тамошних профессоров разработала один прибор – измеритель ценности. По отзывам, настоящее чудо! По крайней мере, так пишет местная газета «Зоильские вести».
– А что делает измеритель ценности?
– Буквально это и делает – ценность измеряет. По большей части используется для романов, картин и тому подобного.
– Какую ценность?
– В основном – художественную. Хотя, конечно, можно любую ценность померить. В Зоилии прибор назвали Mensura Zoili, в честь одного из славных предков.
– А вы эту диковину когда-нибудь видели?
– Сам прибор – нет, только иллюстрацию в «Зоильских вестях». На вид он как обычные весы: книгу или картину нужно положить на подставку. Немножко мешают переплёт или рама, но это не страшно – погрешность потом корректируется.
– Значит, полезная штука?
– Чрезвычайно полезная. Настоящий инструмент просвещения. – Квадратный Подбородок вытащил из кармана сигареты «Асахи» и, закурив, продолжил: – Больше можно не беспокоиться, что писатели да художники смогут нас надуть – как торговцы на рынке, которые вместо баранины норовят всучить собачатину. Тут сразу понятно – у произведения есть ценность, выраженная в цифрах. Думаю, в Зоилии поступили весьма разумно, когда без отлагательств оснастили этими аппаратами таможенные посты.
– Это зачем же?
– Чтобы проверять картины и книги, которые ввозятся из-за границы, и запрещать импорт тех, которые ценности не имеют. Говорят, сейчас всё проходит контроль – любые произведения из Японии, Англии, Германии, Австралии, Франции, России, Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии. Но что-то с Японией дела плоховаты. Хотя на наш – весьма доброжелательный – взгляд, там вроде бы есть неплохие писатели и художники.
Пока мы беседовали, дверь кают-компании распахнулась, и вошёл расторопный чернокожий парень в синей летней униформе. Он молча положил на стол стопку газет и мгновенно скрылся за дверью.
Квадратный Подбородок, стряхивая пепел, потянулся за газетой. Видимо, это и были «Зоильские вести». Лист покрывали странные значки, напоминающие клинопись.
Я вновь поразился познаниям собеседника, умеющего читать такие закорючки.
– Как всегда – только и пишут, что о Mensura Zoili, – сказал он, не отрываясь от чтения. – Вот, опубликовали таблицу ценности всей прозы, которая была издана в Японии в прошлом месяце. Даже пояснения от инженеров, проводивших измерения, имеются.
– А есть что-нибудь про писателя по фамилии Кумэ[7]? – спросил я, думая о своём приятеле.
– Кумэ? Это роман «Серебро»? А как же, есть.
– И какова его ценность?
– Нулевая. Тут пишут, что вся книга – набор банальностей о том, как человек открывает для себя жизнь. Автор, мол, так торопится показать, будто всё на свете понял, что скатывается в низкопробную вульгарность.
Мне стало не по себе.
– И вы уж меня простите, но про ваш рассказ «Трубка» тоже кое-что имеется, – ухмыльнулся Квадратный Подбородок.
– И что же?
– Примерно то же самое. Банальщина, которая и так всем известна.
– Хм-м-м…
– А вот ещё пишут: что-то автор слишком плодовит…
– Ох, ох.
Теперь мне было не просто «не по себе» – я чувствовал себя полным дураком.
– Да, это всех касается: измеришь кого-нибудь из писателей или художников новым прибором – и всё, лопнул пузырь. Технику не обманешь. Это самого себя можно нахваливать сколько угодно, а тут сразу видно, кто чего стоит. И дифирамбы, которые писатели друг другу поют, не помогут. Попробуйте-ка лучше напрячься и создать что-то по-настоящему ценное.
– Но как вы можете быть уверены, что оценка прибора точна?
– Достаточно положить на него шедевр – например, «Жизнь» Мопассана. Сразу выдаст самые высокие показатели.
– И другого способа нет?
– Другого – нет.
Я умолк: мне казалось, что в логике Квадратного Подбородка кроется какой-то изъян. Но тут мне в голову пришёл ещё один вопрос.
– Значит, и произведения авторов Зоилии можно оценить?
– Это запрещено местным законом.
– Но почему?
– Ну как же – потому, что граждане Зоилии против. Страна с самых древних времён была республикой. Всё по принципу: vox populi, vox Dei[8]. – Тут Квадратный Подбородок улыбнулся с непонятным выражением. – Хотя поговаривают, что на измеритель уже клали местные произведения, и оценки вышли очень низкие. Тогда и правда получается дилемма: либо усомниться в показаниях прибора, либо в ценности своих работ, – и то, и другое удовольствие сомнительное. …Впрочем, это всего лишь слухи.
Вдруг судно качнулось так сильно, что Квадратный Подбородок свалился со стула, а на него опрокинулся стол. Перевернулись бутылка и рюмки, разлетелись газеты, линия горизонта в иллюминаторе и вовсе пропала из виду. Воздух наполнился звоном разбитой посуды, грохотом падающих стульев и ударами волн о днище корабля… Крушение! Мы с чем-то столкнулись! А может, под водой начал извергаться вулкан?..
…Я проснулся у себя кабинете, в кресле-качалке, где задремал после обеда за чтением «Критиков» – пьесы Сент-Джона Эрвина. Видимо, покачивание кресла и вызвало в моей голове образ судна.
Что до Квадратного Подбородка – он вроде походил на Кумэ… а вроде и нет. Я так и не понял, он это был или не он.
23 ноября 1916 года
Удача
Вход в мастерскую загораживала занавеска из грубой бамбуковой циновки, сквозь щели в которой была видна дорога. Здесь, на пути, ведущем в храм Киёмидзу, людской поток не иссякал никогда. Вот прошёл буддийский монах с гонгом. Вот женщина с подвязанным, чтоб было легче идти, подолом. Вслед за ней – вот диковинка! – проехала плетёная повозка, запряжённая жёлтым волом. Все они появлялись в просветах занавески то с одной, то с другой стороны и тут же исчезали вновь. И лишь одно оставалось неизменным: утоптанная земля на узкой улочке, нагретая тёплыми лучами послеполуденного солнца.
Молодой подмастерье, некоторое время наблюдавший за прохожими со своего места, вдруг, встрепенувшись, обратился к горшечнику – хозяину мастерской.
– К богине-то Каннон, как я погляжу, всегда много людей ходит.
– Много, – проворчал тот – видимо, недовольный, что его отвлекают от работы. Впрочем, старик с маленькими глазами, вздёрнутым носом и задорным лицом и с виду, и по натуре был добрейшим существом. В холщовом кимоно и потрёпанной мягкой шапочке-момиэбоси, он будто сошёл со свитка с картинами прославленного Тобы Содзё[9].
– И мне бы туда каждый день ходить. Страсть как хочется выбиться в люди.
– Всё шутишь…
– Отчего ж? Если так можно удачу добыть, то и я, пожалуй, заделаюсь прихожанином. Хоть в храм начну бегать, хоть в молельне затворюсь и поклоны бить стану. Всё это ничего не стоит. С божеством, похоже, нетрудно сторговаться.
Высказав такие суждения, вполне отвечавшие его возрасту, юный подмастерье облизнул нижнюю губу и обвёл взглядом мастерскую. Та представляла собой хижину с соломенной крышей, за которой начиналась бамбуковая роща; внутри было до того тесно, что повернись – и упрёшься носом в стену. Однако по сравнению с оживлённой улицей снаружи здесь царили тишина и спокойствие, лишь лёгкий весенний ветерок обдувал красные глиняные бока горшков и кувшинов; казалось, загляни на сто лет назад – и увидишь то же самое. Даже ласточки словно бы избегали вить гнёзда под этой крышей…
Старик ничего не отвечал, и подмастерье заговорил вновь.
– А вы-то в ваши годы наверняка много разного повидали. И что же? Правду ли говорят, будто богиня Каннон дарует удачу?
– Правду. В прежние времена я, случалось, слышал о таком…
– А что бывало?
– Что бывало… сразу и не расскажешь. Да тебе, поди, и слушать будет неинтересно.
– Вот незадача. Меня, может, и тянет уверовать. Если б знать наверняка: мол, богиня удачу даёт, – я бы хоть завтра…
– Уверовать, значит, тянет. Или поторговаться тянет с божеством? – засмеялся старик, и у глаз его пролегли морщинки. Кусок глины, над которым он трудился, наконец обрёл форму горшка, и старик, видимо, пришёл в хорошее расположение духа. – Тебе в твои годы не понять замыслов богов и будд.
– И верно, не понять. Потому и спрашиваю у вас, почтенного человека.
– Не в том ведь дело, дарует ли божество удачу. А в том, хороши ли для человека его дары. Так сразу и не разобрать.
– Ну уж! Коли получишь дар от божества, то и будет ясно, хорош он или плох.
– Да вот именно этого вы, молодёжь, и не понимаете.
– Что хорошо, а что плохо, я знаю, а не понимаю того, про что вы говорите.
Солнце клонилось к закату, и тени прохожих на улице перед мастерской постепенно вытягивались. Вот, отбрасывая длинные тени, мимо бамбуковой занавески проплыли две торговки с лотками на головах. У одной в руке была ветка цветущей сакуры – видно, несла в подарок домашним.
– Вот и с женщиной, которая на Западном рынке держит лавку с пеньковой пряжей, так же было…
– Да ведь я вам сколько твержу: расскажите, что знаете!
Какое-то время оба молчали. Молодой подмастерье пощипывал ногтями волоски на подбородке и рассеянно глядел на улицу; там на земле белели пятнышки, похожие на ракушки, – видно, лепестки, осыпавшиеся с давешней сакуры.
– Неужто не расскажете, а, дедушка? – сонным голосом проговорил он в конце концов.
– Ладно, раз ты просишь, есть у меня одна история. Только она, как водится, о старых временах.
С этими словами старый горшечник неторопливо начал свою повесть. Говорил он с особой медлительностью, свойственной только людям, которым не приходится печься о времени.
– Случилось это лет тридцать-сорок назад. Та женщина, когда была ещё юной девицей, обратилась к богине Каннон в храме Киёмидзу с молитвой: хочу, мол, жить в довольстве до конца своих дней. Просила она не по прихоти, но потому, что после смерти матери осталась одна-одинёшенька и не имела средств к существованию.
Покойная мать была мико – жрицей в храме Хакусю, и в прежнее время к ней шли толпы за предсказаниями, но потом поползли слухи, будто она водит шашни с лисами, и люди к ней ходить перестали. Женщина она была, хоть и рябая от оспы, а дородная, свежая не по возрасту. Тут не то что лис, а и мужчина-то…
– Я бы лучше послушал о дочери, чем о матери.
– Ишь ты, ещё и привередничает! …Мать померла, не оставив дочери ничего, и та выбивалась из сил, чтобы выжить. Девица она была красивая и разумная, но, одетая в одни лохмотья, стеснялась даже на богомолье ходить.
– Что же, и впрямь красавица была?
– И впрямь, красавица. И нравом добрая, и лицом пригожая. Думается мне, такая везде пришлась бы ко двору.
– Эх, жаль, давно это было…
Подмастерье потеребил рукава выцветшего кимоно. Старик, фыркнув от смеха, неторопливо продолжил рассказ. В бамбуковой роще за домом заливался соловей.
– Трижды по семь дней провела она в храме в неустанных молитвах, и вот приснился ей сон: мол, сегодня твоё желание исполнится. Среди других богомольцев был один горбатый монах, который непрерывно бубнил мантры. И так ей это надоело, что, даже когда задремала, в ушах всё равно звучал его голос – словно червячок в земле копошится… Вдруг в однообразном гуле послышались слова, и она отчётливо разобрала: «По дороге домой встретишь мужчину. Делай, как он скажет!»
Девица вздрогнула и проснулась. Монах по-прежнему читал мантры, но в них нельзя было разобрать ни слова. Невзначай обернувшись, она увидела в тусклом свете лампады суровый и прекрасный лик богини Каннон, который с благоговением созерцала каждый день. Тут она чудесным образом вновь услышала: «Сделай, как скажет тот мужчина». Тогда уж девица уверилась, что с ней говорила сама богиня.
– Вон чего!
– В поздний час вышла она из храма и направилась по пологому склону вниз, к Пятой линии, – как вдруг её и впрямь кто-то схватил сзади. Вечер был весенний, тёплый, но стемнело рано, и потому она не видела ни лица этого человека, ни одежды. Только усов коснулась, пытаясь вырваться. А ведь в эту ночь должно было исполниться её желание!
Девица спросила было его имя, но он не отвечал. Спросила, откуда он, – и вновь осталась без ответа. Похититель лишь велел ей делать, что говорят, и, не ослабляя хватки, потащил её вниз по склону холма, а оттуда – дальше на север. По дороге в этот час им не встретилось ни души – хоть плачь, хоть кричи.
– Ого! И что же дальше?
– Он приволок её в пагоду Ясака, и там они остались на ночь. Ну, про то, что случилось ночью, мне, старику, и рассказывать не стоит. – Рассказчик снова усмехнулся, и возле глаз его опять собрались морщинки. За это время тени на дороге стали ещё длиннее. Лепестки сакуры, видимо, гонимые лёгким весенним ветерком, теперь белели у порога, на гальке, которой был выложен ливневый жёлоб.
– Дело нешуточное, – отозвался подмастерье, щипая волоски на подбородке, и, будто вспомнив о чём-то, спросил: – И что же, этим всё кончилось?
– Если б этим кончилось, то и рассказывать было бы нечего, – возразил старик, продолжая возиться с горшком, который лепил. – На рассвете мужчина сказал: мол, они связаны судьбой, и раз так, то он хочет на ней жениться.
– Ишь ты!
– Если бы не сон, девица бы, может, и не согласилась, но тут подумала, что так рассудила Каннон, да и кивнула головой. Они на скорую руку обменялись чарками сакэ[10], после чего мужчина удалился в глубину пагоды и принёс оттуда десять отрезов парчи и десять отрезов шёлка, сказав, что это ей на свадьбу. …Тебе-то, поди, за таким не угнаться!
Молодой подмастерье лишь ухмыльнулся и ничего не ответил. Соловей в роще тем временем примолк.
– Мужчина сказал, что вернётся на закате и поспешно куда-то ушёл, оставив девушку одну. Тут она пригорюнилась. Будь ты хоть семи пядей во лбу, а тоже, небось, станешь невесел, попав в такую переделку. Пытаясь немного развеяться, она наугад прошла вглубь пагоды – и что же обнаружилось? Какие там шелка! Подымай выше – множество сундуков, обитых кожей, в которых лежали груды драгоценных камней и золотого песка. Уж на что храбра была девица, а тут и у неё сердце в пятки ушло.
«Если у него столько сокровищ, то он, без сомнения, разбойник и вор», – подумала она, и если до сих пор печалилась, то теперь в одночасье испугалась не на шутку – до того, что находиться там стало невмоготу: а ну как её застанет стража?
Решившись бежать, она направилась было к дверям, как вдруг из-за спины, где стояли сундуки, услышала хриплый оклик. Она вздрогнула – ведь думала, что в пагоде одна. Глядь – а среди мешков с золотым песком сидит, скорчившись, какое-то существо, то ли человек, то ли каракатица. Это оказалась скрюченная в три погибели старуха-монахиня лет шестидесяти – низенькая, морщинистая, с воспалёнными глазами. Неизвестно, разгадала ли она намерения девицы, но выползла на коленях вперёд и вкрадчивым голосом, который не вязался с её видом, забормотала приветственные слова.
Страха она не внушала, но девушка подумала, что сейчас убежать без шума не удастся, а потому, облокотившись на один из сундуков, через силу завела со старухой разговор. Выяснилось, что та служила у мужчины кем-то вроде кухарки, однако о том, чем её хозяин занимается, лишь загадочно молчала. Это девицу обеспокоило; к тому же старуха была тугоуха, и приходилось то и дело переспрашивать и повторять, так что девица совсем выбилась из сил – хоть плачь.
Так они беседовали примерно до полудня. Тут девица, рассказывавшая про цветущую сакуру в храме Киёмидзу и про мост, который построили на Пятой линии, заметила, что удача ей улыбнулась: старуха – видимо, от старости, а может, потому, что собеседница медлила с ответами, – задремала. Услышав мерное дыхание, девица решила воспользоваться моментом и, на коленях подползя к выходу, приоткрыла дверь. По счастью, снаружи никого не было.
Если бы она просто сбежала оттуда, то на этом история бы и закончилась, но тут она вспомнила про подаренные ей ткани и решила осторожно прокрасться к сундукам и забрать их – да споткнулась о мешок с золотым песком и нечаянно коснулась старухиного колена. Та вздрогнула, открыла глаза – и сперва, казалось, не могла сообразить, что происходит, но вдруг, как безумная, вцепилась девице в ногу и плачущим голосом быстро-быстро забормотала что-то невнятное. Разобрать можно было лишь одно: ежели пленница сбежит, то старуху постигнут ужасные кары. Но и девица понимала: если останется, ей несдобровать, а потому повиноваться не собиралась. Женщины сцепились друг с другом.
В ход пошли и руки, и ноги, и мешки с золотом – такую подняли они суматоху, что даже мыши, жившие в потолочных балках, едва не повываливались из гнёзд. Старуха – видимо, от отчаяния – проявила недюжинную силу. Но всё же молодость победила – и вскоре девица, запыхавшись и сжимая под мышками отрезы ткани, тихонько выскользнула из дверей пагоды. Монахиня к тому моменту уже затихла. Как я слышал после, труп её нашли в тёмном углу, лежащим навзничь, из носа стекала кровь, а голова была осыпана золотым песком.
Выйдя из пагоды, беглянка постаралась держаться подальше от оживлённых улиц и направилась к подруге, что ютилась неподалёку от перекрёстка Пятой линии и Кёгоку. Та жила в большой нужде, но, получив в подарок отрез шёлка, принялась хлопотать: вскипятила воды, сварила кашу. У девицы наконец отлегло от сердца.
– Да и у меня отлегло!
Подмастерье вытащил из-за пояса веер и принялся ловко им обмахиваться, глядя на вечереющую улицу за бамбуковой занавеской. Там, громко смеясь и болтая, прошла компания из нескольких слуг, и тени их ещё тянулись по мостовой.
– Значит, так всё и закончилось.
– Нет! – преувеличенно затряс головой старик. – Пока она отдыхала у подруги, на улице вдруг собралась толпа, послышались голоса: «Глядите! Глядите!» Поскольку девице нашей было что скрывать, сердце у неё сжалось от страха. А ну как тот вор пришёл ей отомстить? Или стража явилась арестовать её? До того она перепугалась, что и каша уже не лезла в горло.
– Ещё бы!
– Тут она выглянула сквозь приоткрытую дверь и увидела среди толпы внушительный отряд из нескольких стражников вместе с приставом, которые волокли единственного пленника – связанного, в разорванной одежде и без шапки. Как оказалось, они схватили преступника и теперь направлялись к его логову в поисках награбленного. И вообрази-ка – вор оказался тем самым человеком, что притащил её ночью в пагоду Ясака. При виде него у девицы отчего-то навернулись на глаза слёзы. Она сама мне рассказывала. И не оттого, мол, что успела в него влюбиться – но, когда увидела его связанным, отчего-то преисполнилась такой жалости к самой себе… Надо сказать, и я, когда услышал эту историю, тоже призадумался.
– О чём же?
– О том, что непростая это штука – молитвы богине Каннон.
– Но, дедушка, ведь та женщина как-то устроилась в жизни?
– Не то что как-то устроилась, а живёт теперь припеваючи, в полном довольстве. Всё благодаря тому, что продала ткани. В этом богиня Каннон обещания не нарушила.
– Так, выходит, всё к лучшему обернулось?
Пока они разговаривали, лучи солнца снаружи окрасились в золотые закатные тона. Ветер тихонько шелестел бамбуковой занавеской. Поток прохожих, кажется, на время иссяк.
– Да, если считать, что убить человека и стать женой вора – это к лучшему.
Подмастерье, заткнув веер за пояс, поднялся на ноги. Старик уже смывал глину с рук водой из кувшина. Оба словно бы чувствовали смутное недовольство и весенним днём, подходившим к концу, и настроем собеседника.
– Как бы то ни было, ей повезло.
– Всё шутишь…
– Ни капельки! Вы и сами, должно быть, так думаете.
– Я-то? Я думаю, что такая удача и даром не нужна.
– Да ну? А я бы только благодарен был!
– Ну, сходи да помолись богине Каннон.
– А что же – вот прямо завтра и пойду!
Декабрь 1916 г.
Один день из жизни Оиси Кураноскэ
Яркий солнечный свет пробивался сквозь плотно закрытые ставни-сёдзи, и тень старой узловатой сливы на них, раскинувшаяся от края до края окна, казалась чёткой, будто рисунок тушью. Оиси Кураноскэ[11], от рождения наречённый Ёсикацу, прежде вассал князя Асано Наганори, а ныне узник княжеского дома Хосокава, сидел перед сёдзи очень прямо, со сдвинутыми коленями, погрузившись в чтение. Читал он, вероятно, один из свитков «Троецарствия», который одолжил у кого-то из приближённых Хосокавы.
Из девяти человек, обычно помещавшихся в этой комнате, Катаока Гэнгоэмон был в отхожем месте, Хаями Тодзаэмон отправился в комнату к младшим по рангу самураям и ещё не успел вернуться. Остальные шестеро – Ёсида Тюдзаэмон, Хара Соэмон, Масэ Кюдаю, Онодэра Дзюнай, Хорибэ Яхэй и Хадзама Кихэй – либо писали письма, либо тоже сосредоточенно читали, не замечая игры света и теней на сёдзи. Все они были людьми немолодыми – никого младше пятидесяти – и, быть может, потому в этот весенний день в комнате стояла такая тишина, что по коже пробегал холодок. Иногда раздавалось покашливание, но и оно едва колебало воздух, в котором был разлит запах туши.
Кураноскэ поднял глаза от «Троецарствия» и, притворяясь, будто смотрит вдаль, тихонько протянул руки к стоявшей рядом жаровне. Внутри, под металлической решёткой, красиво рдели тлеющие по краям угли, бросая отсветы на окружавшую их золу. Вместе с теплом от огня Кураноскэ почувствовал, как его сердце заново наполняется тихим удовлетворением. То же самое он ощущал в прошлом году, в пятнадцатый день последнего месяца, когда они с товарищами отомстили за господина и удалились в храм Сэнгакудзи, где он написал:
Покинув Ако, замок своего господина, он провёл почти два года в тревогах и заботах, готовя план мести. Терпеливо выжидать удобный случай, сдерживая рвущихся в бой товарищей, – было само по себе нелегко. Кроме того, за каждым его шагом следили лазутчики, засланные вражеским кланом. Ему приходилось изображать никчёмного гуляку, чтобы их обмануть, – и одновременно развеивать сомнения товарищей, чтобы не приняли такой образ за чистую монету. Вспоминая тайные сходки в Ямасине и Маруяме, он чувствовал, как в сознании воскресают тогдашние тревоги. …Но так или иначе – в конце концов они достигли цели, к которой стремились.
Теперь оставалось только одно: дождаться высочайшего приговора для всех сорока семи. Впрочем, это наверняка не займёт много времени. Да. Путь пройден. И дело не только в том, что они отомстили. Месть была практически совершенной – полностью соответствующей его представлениями о должном, и потому сердце Кураноскэ грело не только сознание исполненного долга, но и то, что удалось воплотить в жизнь свои нравственные идеалы. Никакие угрызения совести не тревожили его душу – не было причин стыдиться ни своих целей, ни средств. Может ли радость быть более полной?
При этой мысли лоб Кураноскэ разгладился. Со своего места у жаровни он окликнул Ёсиду Тюдзаэмона, который, видимо, утомившись чтением, опустил книгу на колени и чертил по ней пальцем знаки, будто практикуясь в каллиграфии.
– Жарковато сегодня.
– Да уж. Если так сидеть, от жары спать хочется.
Кураноскэ улыбнулся: ему вспомнилось хокку, которое в первый день нового года сложил Томимори Сукээмон, захмелев после трёх выпитых чарок сакэ:
Строчки в точности отражали его нынешнее настроение.
– Когда дело сделано, душа расслабляется.
– Оно, конечно, верно.
Тюдзаэмон взял трубку и деликатно затянулся. Голубоватый дымок поднялся лёгкой струйкой в послеполуденном свете весеннего дня и тихо растаял.
– Разве мы думали, что станем проводить дни в покое, как сейчас?
– И правда. Я и не мечтал увидеть ещё одну весну.
– Похоже, нам повезло.
Они переглянулись: в глазах у каждого плескалась довольная улыбка. Кураноскэ, наверное, мог бы сидеть так вечно, наслаждаясь теплом весеннего дня и мыслями о собственных успехах, если бы в этот момент на сёдзи позади него не легла тень, превратившаяся в мощную фигуру Хаями Тодзаэмона, который в следующий момент вошёл в комнату. Вместе с широкой улыбкой раскрасневшегося Тодзаэмона в их мирок бесцеремонно вторглась реальность. Впрочем, двое собеседников об этом пока не знали.
– У младших, похоже, весело, – сказал, вновь затягиваясь, Ёсида Тюдзаэмон.