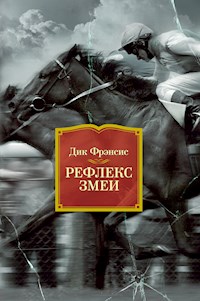Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Иностранка
- Kategorie: Krimi
- Serie: Иностранная литература. Классика детектива
- Sprache: Russisch
Дик Фрэнсис (1920–2010) — один из самых именитых английских авторов, писавших в жанре детектива. За свою жизнь он создал более 30 бестселлеров, получивших международное признание. Его романы посвящены преимущественно миру скачек — Фрэнсис знал его не понаслышке, ведь он родился в семье жокея и сам был знаменитым жокеем. Этот мир полон азарта, здесь кипят нешуточные страсти вокруг великолепных лошадей и крупных ставок в тотализаторах, здесь есть чем поживиться мошенникам. Все это и послужило материалом для увлекательных романов, ставших бестселлерами во многих странах мира. Роман «Вторая рука» входит в цикл произведений посвященных Сиду Холли — жокею, который, потеряв руку и возможность продолжить карьеру, смог стать весьма успешным частным детективом.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dick Francis
WHIP HAND
Copyright © 1979 by Dick Francis
This edition is published by arrangement Johnson & Alcock Ltd.
and The Van Lear Agency
All rights reserved
Перевод с английского Анны Хромовой
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Ильи Кучмы
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Фрэнсис Д.
Вторая рука : роман / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. А. Хромовой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — (Иностранная литература. Классика детектива).
ISBN 978-5-389-22254-0
16+
Дик Фрэнсис (1920–2010) — один из самых именитых английских авторов, писавших в жанре детектива. За свою жизнь он создал более 30 бестселлеров, получивших международное признание. Его романы посвящены преимущественно миру скачек — Фрэнсис знал его не понаслышке, ведь он родился в семье жокея и сам был знаменитым жокеем. Этот мир полон азарта, здесь кипят нешуточные страсти вокруг великолепных лошадей и крупных ставок в тотализаторах, здесь есть чем поживиться мошенникам. Все это и послужило материалом для увлекательных романов, ставших бестселлерами во многих странах мира. Роман «Вторая рука» входит в цикл произведений посвященных Сиду Холли — жокею, который, потеряв руку и возможность продолжить карьеру, смог стать весьма успешным частным детективом.
© А. С. Хромова, перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа„Азбука-Аттикус“», 2022Издательство ИНОСТРАНКА®
Пролог
Мне снились скачки.
Ничего удивительного. Я участвовал в тысячах скачек.
Мне снились препятствия. Снились лошади, снились жокеи в куртках всех цветов радуги, снились мили и мили зеленой травы. Толпы народу на трибунах, овалы лиц — просто пятна телесного цвета, неразличимые отсюда, где я лечу мимо, пригнувшись и привстав на стременах, весь вложившись в скорость.
Я видел разинутые рты и, хотя не слышал ни звука, знал, что все орут.
Орут, повторяя мое имя, желая мне победы.
Победа — это все. Победа — моя работа. То, чем я живу, к чему стремлюсь, ради чего родился на свет.
Там, во сне, я выиграл скачку. Рев толпы сделался торжествующим, и это торжество вознесло меня на своих крыльях, точно океанская волна. Но суть была не в торжестве — суть была в победе.
Проснулся я в темноте, как бывало часто. На часах — четыре утра.
Вокруг тишина. Никакого радостного рева. Просто тишина.
Я все еще чувствовал, как мчусь вперед вместе с конем, как переливаются мышцы в наших напряженных телах, двигаясь вместе, сливаясь воедино. Я чувствовал стремена на ногах, шенкеля, стискивающие бока лошади, равновесие, чувствовал вытянутую гнедую шею прямо напротив своего лица, и гриву, лезущую в рот, и поводья в руках...
Тут я очнулся во второй раз. Уже по-настоящему. Тот момент, когда я заворочался, открыл глаза и вспомнил, что больше мне в скачках не участвовать. Никогда. И меня заново, как в первый раз, ожгло болью утраты. Такие сны — они для здоровых, неискалеченных.
Мне они снились очень часто.
Дурацкие, бесполезные сны.
В жизни, конечно, все иначе. Забываешь сны, встаешь, одеваешься и живешь дальше как можешь.
Глава 1
Я вынул из руки аккумулятор, вставил его в зарядное устройство и осознал это только десять секунд спустя, когда пальцы почему-то отказались сгибаться.
«Как странно», — подумал я. Зарядка аккумулятора и все связанные с этим действия настолько стали второй натурой, что я проделал это машинально, помимо сознательных усилий, как зубы почистил. Только тут я впервые понял, что наконец-то заставил свое подсознание — по крайней мере, наяву — смириться с тем фактом, что вместо левой руки у меня теперь устройство из металла и пластика, а не из мышц, костей и крови.
Я развязал галстук, небрежно бросил его поверх пиджака, лежащего на кожаном подлокотнике дивана, потянулся и вздохнул с облегчением: наконец-то дома! Вслушался в привычную тишину квартиры и, как обычно, ощутил, как жесткие тиски внешнего мира разжимаются под действием долгожданного покоя.
Нет, наверно, эта квартира была скорее убежищем, чем домом. Уютная, да — но не сказать, чтобы неспешно и любовно обустроенная. Наоборот, покупалось все единым махом, за один заход в магазин: «Мне, пожалуйста, это, это и вот это... и отправьте как можно быстрее, будьте любезны». Как-то оно все со временем притерлось, однако теперь не осталось ничего такого, что мне было бы больно потерять. А если это защитный механизм — что ж, по крайней мере, я это осознавал.
Я расслабленно бродил по квартире без пиджака и без тапочек. Включил теплые лужицы настольных ламп, вразумил привычным шлепком капризный телевизор, налил себе малость виски с устатку, а вчерашнюю посуду решил пока не мыть. Стейк в холодильнике есть, деньги в банке тоже, и кому, вообще, нужна еще какая-то цель в жизни?
Я уже привык большую часть дел делать одной рукой — так было быстрее. Хитроумная искусственная рука, работающая при помощи электромагнитов на электрических импульсах, производимых тем, что осталось от моего предплечья, умела разжиматься и сжиматься не хуже тисков, но очень уж неспешно. Зато с виду она была почти как настоящая — вплоть до того, что некоторые люди даже не замечали, что она искусственная. На ней имелись и ногти, и длинные выступы связок, и синие полоски сосудов. Оставаясь один, я пользовался ею все реже и реже, однако предпочитал, чтобы она была при мне.
Я рассчитывал прожить этот вечер не хуже, чем многие другие. Развалился на диване, задрав ноги, согнув колени, с пузатым стаканчиком под рукой, готовясь наслаждаться чужой жизнью на небольшом экранчике. Когда на середине довольно милой комедии кто-то позвонил в дверь, я был несколько раздосадован.
Я встал скорее неохотно, нежели с любопытством, пристроил стаканчик на пол, нашарил в карманах пиджака запасной аккумулятор, который всегда там носил, и вставил его в гнездо на руке. Потом застегнул обшлаг рукава поверх пластмассового запястья, вышел в тесную прихожую и посмотрел в дверной глазок.
Никаких неприятностей за дверью не наблюдалось — разве что неприятности приняли облик леди средних лет в голубой косынке. Я отворил дверь и вежливо сказал:
— Добрый вечер! Чем могу служить?
— Сид, — сказала она, — можно войти?
Я пристально посмотрел на леди. Кажется, мы с ней незнакомы. Однако же очень многие незнакомые люди запросто называли меня по имени. Я всегда принимал это как комплимент.
Из-под косынки выбивались жесткие темные кудри, глаза прятались под темными очками, ярко-алая помада привлекала внимание к губам. Поведение женщины выдавало ее смущение, и она, похоже, дрожала под своим свободным бежевым плащом. Казалось, она пребывала в уверенности, что я ее узнаю, но на деле произошло это только тогда, когда она нервозно оглянулась через плечо и я увидел ее профиль на светлом фоне.
Но и тут я не уверился до конца и осторожно спросил:
— Розмари?
— Послушай, — сказала она, протиснувшись мимо меня, как только я распахнул дверь пошире, — мне просто необходимо с тобой поговорить!
— Ну... входи, что ли.
Пока я запирал входную дверь, она остановилась перед зеркалом в прихожей и принялась развязывать косынку.
— Господи, ну и видок у меня!
Узел никак не хотел развязываться — пальцы у нее слишком сильно дрожали. Наконец она досадливо фыркнула, задрала обе руки и попросту стянула косынку с головы. Вместе с косынкой снялись и черные кудри, и я увидел куда более знакомую каштановую гриву Розмари Каспар, которая уже пятнадцать лет звала меня «Сидом».
— Господи, — повторила она, пряча в сумочку темные очки и доставая платок, чтобы стереть эту жуткую кричащую помаду, — я не могла не прийти! Я не могла не прийти!
Я смотрел на ее трясущиеся руки, слушал срывающийся голос и думал о том, сколько людей в таком состоянии я повидал с тех пор, как сделал своей профессией чужие беды и невзгоды.
— Идем, я тебе налью, — сказал я, понимая, что она и нуждается в этом, и ожидает этого. Эх, пропал мой спокойный вечерок! — Тебе виски или джину?
— Джину... с тоником... да все равно.
Не снимая плаща, она прошла за мной в гостиную и плюхнулась на диван, как будто у нее ноги подогнулись. Я мельком глянул в ее мутные глаза, выключил хохот из телевизора и налил ей успокоительную дозу дешевого джина.
— На, — сказал я, протягивая ей стаканчик. — Ну и какие у нас проблемы?
— Проблемы! — на секунду взвилась она. — Проблемы — это слабо сказано!
Я взял свой стаканчик и уселся в кресло напротив нее.
— Я тебя сегодня видел издали на скачках, — сказал я. — На тот момент проблема уже существовала?
Она сделала большой глоток.
— Да, еще как! А как ты думаешь, почему я притащилась на ночь глядя в твою чертову квартирку, в этом дурацком парике, когда могла спокойно подойти к тебе прямо там, на скачках?
— Ну и почему же?
— Да потому, что мне меньше всего хотелось бы, чтобы меня видели беседующей с Сидом Холли на ипподроме или за его пределами!
Я несколько раз выступал на лошадях ее мужа, давным-давно, когда еще был жокеем. Когда я еще был достаточно легким для гладких скачек, до того, как перешел в стипль-чез. До успеха, до славы, до падения, до сломанной руки... короче, в былые дни. С бывшим жокеем Сидом Холли она свободно могла говорить в любой момент. Но к Сиду Холли, который не так давно переквалифицировался в частные детективы широкого профиля, она могла прийти не иначе как в темноте и страхе.
Лет сорок пять ей было, наверное. Я впервые задумался об этом и только теперь осознал, что, несмотря на долгое шапочное знакомство, я никогда не приглядывался к ней достаточно внимательно, чтобы во всех подробностях запомнить ее лицо. Общее ощущение изысканной элегантности — это да, это я помнил. А опущенные кончики бровей и век, шрамик на подбородке, легкий, но заметный пушок на щеках — это все было для меня новостью.
Она вдруг подняла глаза и тоже стала пристально всматриваться в меня, словно и она никогда прежде как следует меня не разглядывала. Я подозревал, что для нее перемена оказалась куда более радикальной. Теперь я был уже не мальчишкой, которому она некогда довольно резко выдавала указания на предстоящую скачку, а мужчиной, к которому она пришла за помощью. Я успел привыкнуть к тому, что этот новый взгляд на меня вытесняет прежние, более непринужденные отношения. Мне не раз случалось сожалеть об этом, но ничего не попишешь, пути назад нет.
— Все говорят... — неуверенно начала она. — Ну, то есть... за прошлый год я не раз слышала...
Она откашлялась.
— Поговаривают, что ты человек толковый... очень толковый в таких делах. Но я просто не знаю... вот я пришла... и как-то оно все... ну, то есть... ты ведь жокей.
— Был жокеем, — сухо уточнил я.
Она мельком глянула на мою левую руку, но больше ничего говорить не стала. Она и так все знала. В мире скачек это все были прошлогодние новости.
— Может, все-таки объяснишь, что ты хотела? — спросил я. — Если я не сумею ничем помочь, то сразу так и скажу.
Мысль о том, что я, может, еще и не сумею ей помочь, всколыхнула ее страхи, и она снова принялась дрожать в своем плаще.
— А больше никого нет, — сказала она. — Мне больше не к кому обратиться. Я вынуждена поверить, что ты... что ты можешь все, что рассказывают.
— Ну я же не супермен какой-нибудь! — возразил я. — Я так, хожу и разнюхиваю.
— Ну... Господи ты боже мой...
Она допила свой стаканчик, стекло зазвенело, стуча о зубы.
— Господи, только бы...
— Да сними ты свой плащ наконец, — решительно сказал я. — Выпей еще джину. Сядь на диван и начни с самого начала.
Она, словно загипнотизированная, встала, расстегнула пуговицы, сбросила плащ и снова села.
— Я не знаю, с чего начать.
Она взяла налитый заново стаканчик и прижала его к груди. Под плащом на ней были кремовая шелковая блузка, рыжеватый кашемировый свитер, массивная золотая цепочка и черная юбка элегантного покроя — скромный повседневный наряд женщины, не знающей проблем с деньгами.
— Джордж в ресторане, — сказала она. — Мы решили заночевать в Лондоне. Он думает, я в кино пошла...
Джордж, ее муж, входил в первую тройку британских тренеров спортивных лошадей и, вероятно, в первую десятку всего мира. На ипподромах от Гонконга до Кентукки его чествовали как одного из великих. В Ньюмаркете, где он жил, Джордж был королем. Если его лошади выигрывали Эпсомское дерби, «Триумфальную арку» или Вашингтонский международный кубок, этому никто не удивлялся. Часть из лучших чистокровных лошадей всего мира год за годом стекалась в его конюшню, и сам факт, что лошадь стоит у Каспара, придавал ее хозяину определенный вес среди коневладельцев. Джордж Каспар мог себе позволить отказать любой лошади и любому владельцу. Ходили слухи, будто дамам он отказывает редко, но, если проблема Розмари состоит именно в этом, тут я ей не помощник.
— Он ничего не должен знать! — нервно сказала она. — Обещай не говорить ему, что я приходила, слышишь?
— Ну, обещаю, с поправкой на возможные обстоятельства.
— Этого мне мало!
— Больше ничем помочь не могу.
— Ты сам поймешь, — сказала она. — Ты поймешь почему... — Она отхлебнула джину. — Ему это, может, и не понравится, но он же с ума сходит от беспокойства.
— Кто, Джордж?
— Ну а кто ж еще? Джордж, разумеется. Не валяй дурака. Для чего еще я могла сюда заявиться в этом дурацком маскараде?!
Розмари сорвалась на визг и, похоже, сама удивилась. Она старательно сделала несколько глубоких вдохов и начала заново:
— Что ты думаешь о Глинере?
— Э-э-э... — протянул я. — Все были разочарованы.
— Полное фиаско! — сказала она. — Ты же знаешь.
— Ну да, бывает, — кивнул я.
— Нет, не «бывает»! Один из лучших двухлеток, которые когда-либо стояли у Джорджа. Блестяще выиграл три скачки для двухлеток. Всю зиму считался фаворитом «Гиней»1 и дерби. Все говорили, что он станет одним из лучших. Что станет чудом.
— Ну да, — сказал я. — Я помню.
— И что потом? Прошлой весной он участвовал в «Гинеях». И спекся. Полный провал. О дерби ему даже и мечтать не приходилось.
— Ну, бывает, — повторил я.
Она бросила на меня раздраженный взгляд, поджала губы.
— А Зингалу? — спросила она. — Что, скажешь, и такое бывает? Два лучших жеребчика в стране, в два года подавали блестящие надежды, оба с нашей конюшни. И ни один не выиграл ломаного пенни в прошлом сезоне, в трехлетнем возрасте. Стояли в денниках, бодрые как огурчики, лопали как не в себя и ни к черту не годились!
— Ну да, тут есть над чем подумать, — согласился я, но не очень убежденно. Лошадь, не оправдавшая больших надежд, — это так же естественно, как дождь в выходные.
— Ну а Бетесда, годом раньше? — гневно зыркнула на меня Розмари. — Одна из лучших кобыл-двухлеток! Несколько месяцев считалась фавориткой «Тысячи гиней» и «Оукса». Потрясающая лошадь. Когда она выходила на старт «Тысячи», выглядела на миллион долларов. И пришла десятой. Десятой, чтоб тебя!
— Но ведь Джордж наверняка все проверил и перепроверил, — сдержанно сказал я.
— А то как же! Чертовы ветеринары всю конюшню облазили. Тесты, анализы — все. Все по нулям. Три блестящие лошади, все как одна, ни к черту не годятся. И никаких объяснений. Ничего!
Я тихонько вздохнул. С моей точки зрения — обычная история, со всяким тренером может случиться. И вовсе не повод для тайных визитов в париках.
— А теперь вот Три-Нитро, — ошарашила меня Розмари.
Я невольно выдохнул — только что не крякнул. Без Три-Нитро сейчас не обходилась ни одна колонка, посвященная скачкам. О нем говорили как о лучшем жеребчике десятилетия. Прошлой осенью, будучи двухлеткой, он затмил всех соперников, и почти никто не сомневался, что этим летом он будет звездой. Я видел, как он выиграл «Миддл-Парк» в сентябре в Ньюмаркете, с рекордным результатом, я, как наяву, видел его мчащимся по дорожке с почти невероятной скоростью.
— До «Гиней» всего две недели, — сказала Розмари. — Вот сегодня как раз четырнадцать дней. И предположим, что-то случится... опять что-то плохое... а вдруг и он провалится, как и те?..
Ее снова затрясло, но не успел я открыть рот, как она продолжила, повысив голос:
— Сегодня была единственная возможность... единственный вечер, когда я могла прийти... Джордж был бы вне себя. Он твердит, что ничего с конем не случится, что никто к нему даже близко не подойдет, что его стерегут как зеницу ока. Но он боится, я знаю! Весь как натянутая струна. Взвинчен до предела. Я ему предложила позвонить тебе и попросить покараулить лошадь, так он буквально взбесился. Не знаю почему. Никогда еще не видела его в такой ярости.
— Розмари... — начал я, качая головой.
— Послушай! — перебила она. — Я просто хочу, чтобы ты сделал так, чтобы с Три-Нитро перед «Гинеями» ничего не случилось. И все.
— И все...
— А что толку будет потом... если кто-то попытается что-то сделать... что толку будет жалеть, что я тебя не позвала? Я просто не вынесу этого. Я не могла не прийти. Просто не могла. Сид, скажи, что ты это сделаешь. Скажи, сколько ты хочешь, я заплачу.
— Да не в деньгах дело, — ответил я. — Ты пойми, не могу я караулить Три-Нитро так, чтобы Джордж ничего не знал, без его согласия. Это невозможно.
— Ты можешь, можешь! Я уверена! Ты ведь и раньше делал такое, про что все говорили, будто это невозможно. Я не могла не прийти. Я просто не переживу такого... и Джордж не переживет... три года подряд! Три-Нитро должен победить! Ты должен сделать так, чтобы ничего не случилось. Просто должен!
Ее вдруг затрясло еще сильнее, чем раньше. Похоже, надвигалась истерика. И я, скорее чтобы ее успокоить, чем всерьез думая, будто я способен исполнить ее желание, сказал:
— Ну ладно-ладно, Розмари. Я попробую.
— Он должен выиграть! — сказала она.
— Не вижу причин, почему бы ему не выиграть, — успокаивающе подтвердил я.
Она безошибочно уловила тон, которым я заговорил, сам того не заметив: скептический и снисходительный, намекающий на то, что все ее тревоги — не более чем фантазии впечатлительной дамочки. Я и сам заметил этот неприятный оттенок, увидел это ее глазами — и мне сделалось неловко.
— Господи, и зачем только я сюда пришла! Зря только время потратила, да? — с горечью бросила она и встала. — Ты такой же, как и все эти проклятые мужики. У тетки климакс, что с нее взять.
— Неправда! Я же сказал, что попробую.
— Ну да, конечно! — ядовито ответила Розмари.
Она нарочно раздувала свой гнев: ей сейчас просто необходимо было устроить скандал. Она практически швырнула в меня пустым стаканчиком, вместо того чтобы просто его отдать. Я попытался его поймать, но не сумел, стаканчик ударился о край журнального столика и разлетелся вдребезги.
Розмари окинула взглядом сверкающие осколки и затолкала ощетинившийся гнев обратно в коробочку.
— Извини, — отрывисто сказала она.
— Да ничего.
— Я просто переволновалась.
— Ну да, понятно.
— Надо все-таки сходить на этот фильм. А то ж ведь Джордж спросит...
Она накинула свой плащ и резкими шагами направилась к двери, по-прежнему дрожа всем телом.
— Не надо мне было сюда приходить. Но я думала...
— Розмари, — сказал я ровным тоном, — я обещал, что попробую, и я попробую.
— Никто не понимает, каково это...
Я вышел в прихожую следом за ней. Ее отчаяние сделалось осязаемым, как будто оно и впрямь висело в воздухе. Она взяла с тумбочки черный парик, нахлобучила его обратно на голову и принялась запихивать под него свои собственные волосы яростными, неласковыми тычками. Она ненавидела и себя, и этот маскарад, и меня — ненавидела свой приход сюда, и то, что пришлось врать Джорджу, и то, что приходится все делать с оглядкой, исподтишка. Она заново накрасила губы этой яркой помадой, сильнее, чем нужно, давя на тюбик, как будто хотела себя наказать; яростным рывком завязала узел на косынке и полезла в сумочку за темными очками.
— Я переодевалась в туалете на станции, — сказала она. — Как это все отвратительно! Но я не хочу, чтобы кто-то видел, как я отсюда выхожу. Потому что что-то происходит. Я это знаю. И Джордж боится...
Она стояла напротив входной двери и ждала, когда я ее отопру: стройная, элегантная женщина, выглядящая нарочито чудовищно. Мне пришло в голову, что ни одна женщина не стала бы так себя уродовать, не случись у нее беды настолько серьезной, что ей уже не важно, что о ней подумают. А я ничем ей не помог, и самое противное — из-за того, что я слишком долго знал ее совсем с другой стороны. Ведь это она всегда исподволь оказывалась в положении главной, а я с шестнадцати лет только и делал, что почтительно выполнял ее пожелания. Я подумал, что если бы я сегодня заставил ее разрыдаться, а потом пригрел, и обнял, и, может, даже поцеловал, я оказал бы ей куда большую услугу. Но между нами была стена, преодолеть которую было не так-то просто.
— Не надо мне было сюда приходить, — повторила она. — Теперь я это понимаю.
— Так ты хочешь, чтобы я... что-нибудь предпринял?
Ее лицо судорожно исказилось.
— О господи... Ну да, хочу. Но это все ужасно глупо. Я просто обманывалась. Ты ведь, в конце концов, просто жокей... всего лишь жокей!
Я открыл дверь.
— Хотел бы я, чтобы это так и было, — сказал я, как бы между прочим.
Она посмотрела на меня невидящим взглядом, думая уже о том, как поедет обратно, как пойдет в кино, как будет пересказывать фильм Джорджу...
— Я не сумасшедшая! — сказала она.
Розмари резко повернулась и пошла прочь, не оглядываясь. Я провожал ее взглядом, пока она не направилась к лестнице и не исчезла из виду, не задержавшись ни на секунду. Я закрыл дверь и вернулся в гостиную. Меня преследовало ощущение, что я все сделал не так. Казалось, в гостиной сам воздух колышется от ее страстной мольбы.
Я нагнулся и подобрал с пола крупные осколки стекла, но на полу осталось слишком много крохотных стеклянных иголочек, так что лениться было нельзя. Я сходил на кухню за совком и веником.
Держать совок нужно было левой рукой. Если просто попытаться разогнуть настоящую руку, которой у меня больше не было, искусственные пальцы разжимались, начиная с большого. А если отправить прежний приказ согнуть руку внутрь, они сжимались. Между мысленным приказом и реакцией электрических приводов всегда была задержка в пару секунд, и научиться принимать в расчет эту паузу было самым трудным.
Разумеется, эти пальцы сами собой не могли регулировать силу захвата. Люди, которые настраивали мне руку, сказали, что секрет в том, чтобы научиться брать яйца. И поначалу я раздавил пару дюжин, пока тренировался. С тех пор мне случалось по рассеянности разбивать лампочки и сплющивать в блинчик сигаретные пачки. Собственно, потому я и пользовался чудесами науки куда реже, чем мог бы.
Я вытряхнул осколки в мусорное ведро и снова включил телевизор. Но комедия уже кончилась, а начало детектива я пропустил из-за Розмари. Я вздохнул, выключил телевизор, пожарил себе стейк, а когда поел, снял трубку и позвонил Бобби Анвину, работающему на «Дейли планет».
— Даром ничего не скажу! — заявил он сразу, как понял, кто на линии.
— А что возьмешь?
— Баш на баш.
— Заметано, — сказал я.
— Ну и что тебя интересует?
— Э-э-э... — начал я. — Ты тут пару месяцев назад опубликовал в вашем субботнем цветном приложении большую статью о Каспаре. Аж на несколько страниц.
— Было дело. Спецрепортаж. Исчерпывающий анализ успеха. «Дейли планет» делает серию ежемесячных репортажей обо всяких важных шишках: магнатах, поп-звездах и так далее. Препарируем их под микроскопом, а потом всем рассказываем, как они ухитрились дойти до жизни такой.
— Ты там с девицей, что ли? — спросил я.
Повисла короткая пауза, потом я услышал сдавленное девичье хихиканье.
— Иди ты в Сибирь со своей интуицией! — сказал Бобби. — С чего ты так решил?
— Даже и не знаю, от зависти, наверно.
На самом деле я просто хотел узнать, один он или нет, причем так, чтобы не было понятно, что это важно.
— Ты в Кемптоне завтра будешь?
— Наверно, да.
— Слушай, привези мне этот номер, а? С меня бутылка на твой выбор.
— Ладно-ладно. Будет тебе этот номер.
И без долгих церемоний бросил трубку. Остаток вечера я провел, листая отчеты с гладких скачек прошлых лет и прослеживая карьеры Бетесды, Глинера, Зингалу и Три-Нитро, но так ничего толком и не откопал.
1 Имеется в виду «Две тысячи гиней», классическая британская скачка для трехлеток на ипподроме «Роули Майл» в Ньюмаркете. В упомянутой ниже скачке «Тысяча гиней» участвуют только кобылки-трехлетки.
Глава 2
В последнее время я завел привычку по четвергам обедать со своим тестем. Точнее, со своим бывшим тестем — адмиралом в отставке Чарлзом Роландом, отцом самого серьезного промаха в моей жизни. Его дочери Дженни я отдал всю преданность, на какую был способен, но в конце концов она потребовала невозможного: чтобы я бросил участвовать в скачках. Мы прожили вместе пять лет: два года в любви и согласии, два в раздоре и год на ножах. Теперь от всего этого оставались лишь зудящие полузажившие раны. Да вот еще дружба с ее отцом: она досталась мне нелегко, и теперь я ценил ее как единственное сокровище, спасенное в катастрофе.
Обычно мы встречались в полдень в баре на втором этаже отеля «Кэвендиш». Теперь перед нами на аккуратных соломенных салфеточках стояли у него — розовый джин, у меня — разбавленный виски, и мисочка с орешками.
— Дженни на выходных будет в Эйнсфорде, — сказал он.
Эйнсфорд — его дом в Оксфордшире. В Лондоне по четвергам у него была работа. Перемещался между ними он на «роллс-ройсе».
— Я буду рад, если и ты приедешь, — сказал он.
Я смотрел на тонкое, аристократическое лицо, слушал ненавязчивый, с ленцой голос. Тонкий, обаятельный джентльмен, который при необходимости прошьет тебя навылет, как лазер. Человек, в чью порядочность я поверил бы даже у адских врат и от которого не приходилось ждать пощады.
Я ответил сдержанно, без злобы:
— Я не готов ехать туда, где меня будут клевать.
— Она согласилась, чтобы я тебя пригласил.
— Не верю.
Он с подозрительной сосредоточенностью уставился на свой стакан. Я по долгому опыту знал: он на меня не смотрит, когда хочет от меня чего-то, что, как ему известно, мне не понравится. И так возникает пауза, пока он собирается с духом, чтобы поджечь фитиль. Судя по длине паузы, ничего приятного ожидать не приходилось. В конце концов он произнес:
— Я боюсь, у нее неприятности.
Я пристально смотрел на него, но он так и не поднял глаз.
— Чарлз, — в отчаянии начал я, — ну не можете же вы... вы не можете требовать... Ну вы же знаете, как она со мной теперь обращается!
— Ты ей тоже спуску не даешь, насколько я припоминаю.
— Ни один человек в здравом уме не полезет в клетку к тигру!
Он мельком взглянул на меня, губы у него слегка дернулись. Возможно, не всякому приятно, когда красавицу-дочь сравнивают с тигром.
— На моей памяти, Сид, — сказал он, — ты не раз входил в клетки с тиграми.
— Ну, с тигрицей! — поправился я шутливо.
Он тотчас же вцепился в меня:
— Так ты приедешь?
— Нет... По правде сказать, есть вещи, которых терпеть нельзя.
Он вздохнул и откинулся на спинку стула, глядя на меня поверх стакана с джином. Мне не понравился его рассеянный взгляд: это означало, что он еще не отказался от своих планов.
— Ну что, морской язык? — предложил он как ни в чем не бывало. — Зовем официанта? Пора бы уже и поесть, а?
Он заказал нам обоим морского языка — без костей, как обычно. Теперь-то я уже мог нормально есть на людях, но был у меня долгий неприятный период, когда все, что осталось от моей руки, представляло собой уродливую, бесполезную корягу, которую я стыдливо прятал в карман. А к тому времени, как я наконец с этим свыкся, руку мне разбили снова, и я окончательно ее лишился. Наверно, это и есть жизнь. Достижения сменяются потерями, и если тебе удалось спасти хоть что-нибудь — пусть это всего лишь ошметки самоуважения, — оно поможет тебе пережить все, что будет дальше.
Официант доложил, что столик накроют через десять минут, и бесшумно удалился, прижимая стопку меню и блокнот для заказов к своему смокингу и серому шелковому галстуку. Чарлз бросил взгляд на часы, потом непринужденно окинул взглядом просторную, светлую, тихую гостиную, где другие такие же, как мы, сидели попарно в бежевых креслах, разбираясь с мирскими делами.
— В Кемптон сегодня поедешь? — спросил он.
Я кивнул:
— Первая скачка в два тридцать.
— Ты очень занят сейчас?
Для непринужденного вопроса это прозвучало вкрадчивей, чем нужно.
— Не поеду я в Эйнсфорд, — сказал я. — Пока там Дженни — не поеду.
Он немного помолчал, потом сказал:
— Лучше бы ты приехал, Сид.
Я молча смотрел на него. Он провожал глазами официанта из бара, несущего напитки куда-то в дальний угол, и обдумывал свою следующую фразу — дольше, намного дольше, чем следовало.
Наконец он откашлялся и сказал, словно бы в пространство:
— Дженни одолжила деньги... и, боюсь, свое имя тоже... некоему предприятию, которое, похоже, оказалось аферой.
— Что-что?! — переспросил я.
Он с подозрительной готовностью перевел взгляд на меня, но я перебил его прежде, чем он успел открыть рот.
— Нет уж, — сказал я, — если она это сделала, разбираться с этим — ваша епархия.
— Разумеется, она воспользовалась твоим именем, — сказал Чарлз. — Дженнифер Холли.
Я почувствовал, как ловушка захлопывается. Чарлз вгляделся в мое молчаливое лицо и тихо вздохнул с облегчением, — видимо, до сих пор его терзала тревога. «Умеет же он, — с горечью подумал я, — подцепить меня на крючок!»
— Ей приглянулся один мужчина, — бесстрастно сказал он. — Мне он не очень-то нравился, но, с другой стороны, мне и ты не очень-то нравился поначалу... и, по правде сказать, эта ошибка в суждении мне изрядно мешает, потому что я теперь не доверяю первому впечатлению.
Я съел орешек. Меня он невзлюбил потому, что я был жокей и, с его точки зрения, не пара для его породистой дочурки. Я его, разумеется, тоже невзлюбил, за интеллектуальный и социальный снобизм. Даже странно подумать, что на данный момент он, вероятно, самый дорогой для меня человек во всем мире.
Он продолжал:
— Этот человек ее уговорил поучаствовать в какой-то торговле по почте... чрезвычайно престижной и респектабельной, по крайней мере с виду. Достойный способ раздобыть денег на благотворительность... ну, знаешь, как оно бывает. Вроде рождественских открыток, только у них там, кажется, была какая-то восковая политура для старинной мебели. Дескать, купите дорогую политуру, а большая часть денег пойдет на добрые дела.
Он бросил на меня угрюмый взгляд. Я слушал молча, не надеясь услышать что-нибудь хорошее.
— Повалили заказы, — сказал он. — А с заказами и денежки. Дженни с подружкой только и делали, что отправляли посылки.
— А товар Дженни, разумеется, закупила заранее, на свои деньги? — предположил я.
Чарлз вздохнул:
— Тебе ничего рассказывать не надо, ты и так все знаешь, да?
— И все почтовые расходы, рекламу и прочие бумажки оплачивала тоже Дженни?
Он кивнул:
— А все поступления она переводила на специально для этого открытый счет благотворительной организации. В один прекрасный день все деньги со счета сняли, красавчик испарился, а благотворительная организация оказалась несуществующей.
Я смотрел на него с ужасом.
— Ну а Дженни что? — спросил я.
— Боюсь, что у Дженни дела плохи. Могут завести уголовное дело. Причем на всех бумагах стоит ее имя, а имени этого человека нет нигде.
У меня не было слов, даже бранных. Чарлз пригляделся ко мне и медленно, сочувственно кивнул.
— Да, глупость она сотворила изрядную, — сказал он.
— А вы что, не могли ее остановить? Предупредили бы...
Он грустно покачал головой:
— Я об этом ничего не знал до вчерашнего дня, когда она в панике примчалась в Эйнсфорд. Она этим всем занималась у себя на квартире, в Оксфорде.
Мы отправились обедать. Мы ели морского языка, но вкуса я не чувствовал.
— Человека этого зовут Николас Эйш, — сказал Чарлз за кофе. — Ну, по крайней мере, он так себя называл.
Он помолчал.
— Мой адвокат считает, что было бы неплохо, если бы ты его отыскал.
В Кемптон я ехал на автопилоте, руководствуясь исключительно рефлекторными реакциями. Мысли неотвязно крутились вокруг Дженни.
Похоже, что наш развод ничего не изменил. Обеззараживающая процедура — безликое судебное заседание, на которое никто из нас не явился (детей нет, раздела имущества нет, попытки примирения отсутствуют начисто, ходатайство удовлетворить, следующие, пожалуйста), не то что не помогла поставить точку и начать с новой строки — она не тянула даже на запятую. Юридическое оформление развода отнюдь не стало дверью на волю. Преодоление эмоциональной катастрофы было медленным и мучительным, и бумажка стала в лучшем случае аспиринкой.
Когда-то мы сливались воедино радостно и страстно — теперь, если нам случалось встретиться, мы немедленно принимались драть друг друга когтями. Я провел восемь лет, любя, теряя и оплакивая Дженни, и как бы мне ни хотелось, чтобы мои чувства к ней умерли, — они жили. До полного безразличия было еще очень и очень далеко.
Если я ей помогу выбраться из истории, в которую она влипла, Дженни устроит мне веселую жизнь. Если я ей не помогу, я сам себе веселую жизнь устрою. «Ну какого черта, — думал я в бессильной ярости, — какого черта эта дура набитая сделала такую глупость?!»
Для апрельского буднего дня народу в Кемптоне было порядочно, хотя я не в первый раз пожалел, что в Британии чем ближе к Лондону, тем меньше народу на трибунах. Играть на тотализаторе горожане любят, а вот свежий воздух и лошадей — не очень. Бирмингем с Манчестером лишились своих ипподромов из-за всеобщего равнодушия, а ливерпульский ипподром выжил исключительно за счет Большого ливерпульского стипль-чеза2. Вот где-нибудь в глубинке ипподромы трещат по швам, вплоть до того, что программок на всех не хватает. Все же самые могучие деревья растут из самых древних корней.
Возле весовой все те же толковали на все те же темы, которые не менялись веками. Кто на ком выступает, кто выиграет скачку, пора поменять правила, что сказал такой-то, когда его лошадь проиграла, времена нынче дурные, а вы знаете, что этот шалопай жену бросил? Хватало там и сальных баек, и преувеличений, и откровенного вранья. Всегда одна и та же смесь честности и продажности, принципиальности и изворотливости. Люди, готовые подкупать, люди, готовые взять деньги. Измученные маленькие люди, исполненные надежд, и надменные большие шишки. Неудачники, придумывающие смелые оправдания, счастливчики, прячущие тревогу в глазах. Все это было, есть и будет, пока существуют скачки.
На самом деле, мне рядом с весовой теперь делать было нечего, хотя меня никто никогда не прогонял. Я очутился в серой зоне, куда попадают бывшие жокеи: в саму весовую нам хода нет, но в остальных местах нас терпят. Уютное жокейское святилище пало в тот день, когда полтонны конины приземлились копытами на мои пястные кости. С тех пор я научился радоваться уже тому, что меня по-прежнему признают частью братства, а мучительное желание сесть в седло сделалось лишь частью прочих сожалений. Еще один бывший чемпион как-то раз поделился со мной: мол, у него двадцать лет ушло на то, чтобы перестать мечтать о скачках. Я сказал — ну, спасибо большое!
Джордж Каспар тоже был там. Он разговаривал со своим жокеем: тому в этот день предстояло участвовать в трех скачках. Была там и Розмари. Она вздрогнула всем телом, увидев меня в десяти шагах, и немедленно повернулась ко мне спиной. Я представил, как волны тревоги накатывают на нее одна за другой, — хотя в этот день она выглядела ухоженной и элегантной, как обычно: норковая шубка, защищающая от пронизывающего ветра, лаковые сапожки, бархатная шляпка. Если она боялась, что я заговорю о ее визите, она ошиблась.
Кто-то легонько ухватил меня за локоть, и приятный голос произнес: «На пару слов, Сид!»
Я расплылся в улыбке еще до того, как обернулся к нему: лорд Фрайерли, граф, землевладелец и чрезвычайно порядочный малый, был одним из тех людей, на чьих лошадях я выступал много-много раз. Он принадлежал к аристократам старой школы: почтенный джентльмен за шестьдесят, с безукоризненными манерами, неподдельно внимательный к людям, чуточку эксцентричный и куда более умный, чем предполагали окружающие. Он чуточку заикался, но это был не дефект речи — он всего лишь старался не размахивать своим титулом в нашем стремящемся к равноправию мире.
За эти годы я несколько раз гостил в его доме в Шропшире, в основном по дороге на северные ипподромы, и намотал немало миль вместе с ним на его очередном драндулете. Манера ездить на старых машинах не имела отношения к скромности — скорее к несклонности тратить деньги на несущественное. Существенным, с точки зрения графа, было содержание Фрайерли-холла и максимально возможного количества скаковых лошадей.
— Рад вас видеть, сэр, — сказал я.
— Сколько раз говорить, зови меня «Филип»!
— Ага... Извините.
— Слушай, — сказал он, — мне твоя помощь нужна в одном деле. Говорят, ты чертовски хорошо разбираешься во всяких секретах. Меня это не удивляет: ты же знаешь, я всегда дорожил твоим мнением.
— Ну конечно помогу, если сумею, — сказал я.
— У меня такое неприятное чувство, что меня используют, — сказал он. — Ты же знаешь, я обожаю смотреть, как выступают мои лошади: чем чаще, тем лучше, и все такое. Ну и вот, в последний год я согласился вступить в один синдикат... знаешь, когда расходы делятся человек на восемь-десять, хотя лошади-то выступают от моего имени и в моих цветах.
— Ага, — кивнул я. — Понял.
— Ну так вот... Я этих всех людей лично-то не знаю. Синдикаты созданы одним малым, который именно этим и занимается: собирает людей и продает им лошадь. Знаешь, да?
Я кивнул. Мне были известны случаи, когда такие дельцы покупали лошадь по дешевке и продавали ее членам синдиката вчетверо дороже. Нормальное мелкое жульничество, пока что ничего незаконного.
— Так вот, Сид, эти лошади выступают хуже, чем должны бы, — напрямик заявил он. — Есть у меня неприятное ощущение, что кто-то из членов синдикатов нарочно мухлюет, чтобы лошади проигрывали. Не выяснишь, в чем тут дело, а? Тихо-мирно?
— Постараюсь, конечно, — сказал я.
— Вот и хорошо! — удовлетворенно кивнул граф. — Так и думал, что ты согласишься. Так что я тут тебе принес имена — список членов синдиката. — Он достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. — Всего четыре лошади. Все синдикаты зарегистрированы в Жокей-клубе, все официально, проверенная отчетность и так далее. На бумаге все чисто, но, Сид, откровенно говоря, я недоволен!
— Я разберусь, — пообещал я, и он рассыпался в благодарностях совершенно искренне и через пару минут отошел поболтать с Розмари и Джорджем.
Чуть поодаль Бобби Анвин, с блокнотом и карандашом наперевес, вытрясал душу из тренера средней руки. До меня доносился его голос, по-северному напористый, приправленный инквизиторским тоном, который Бобби перенял у телеведущих. «То есть вы можете сказать, что вполне удовлетворены тем, как выступают ваши лошади?» Тренер озирался в поисках выхода и переминался с ноги на ногу. Я подумал: как странно, что он с этим мирится, — хотя статейки Бобби Анвина бывали обычно куда более ядовитыми, если Бобби не имел удовольствия постращать свою жертву лицом к лицу. Писал Бобби бойко, читали его жадно, и большинство скакового братства от всей души его ненавидело. Мы с ним в течение многих лет поддерживали своеобразный вооруженный нейтралитет: на практике это сводилось к тому, что он употреблял не более двух выражений типа «слепой кретин» на абзац, описывая проигранные мною скачки. С тех пор как я ушел из жокеев, я перестал быть мишенью его нападок, и в итоге мы получали некое извращенное удовольствие, разговаривая друг с другом, — все равно что болячку расчесывать.
Увидев меня краем глаза, Бобби оставил злосчастного тренера в покое и развернул свой ястребиный нос в мою сторону. Бобби был высокий человек лет сорока и вечно щеголял тем, что родился в рабочем поселке в Брэдфорде, — драчун, воспитанный на улице и не позволявший никому об этом забыть. Казалось бы, у нас должно быть много общего, я ведь и сам был дитя городских помоек, но темперамент мало зависит от окружающей среды. Бобби встречал превратности судьбы яростно, а я молча. Как следствие, он в основном говорил, а я слушал.
— Цветное приложение у меня в портфеле, в пресс-центре, — сказал он. — А тебе оно зачем?
— Так, из интересу.
— Ладно, брось! — сказал Бобби. — Над чем работаешь-то?
— А ты бы стал со мной заранее делиться свежей сенсацией? — поинтересовался я.
— Ладно, понял! — сказал Бобби. — Короче, с тебя бутылка лучшего шампусика в баре для владельцев. После первой скачки. Идет?
— А за сэндвич с копченым лососем могу я рассчитывать на какую-нибудь дополнительную информацию, которая в печать не пошла?
Бобби ехидно ухмыльнулся: мол, почему бы и нет, — и в должный срок, после первой скачки, слово свое сдержал.
— Ты себе можешь это позволить, Сид! — говорил он, уминая сэндвич с розовой рыбкой и ревниво обнимая бутылку с золотой фольгой, что стояла на стойке рядом с нами. — Ну и что же ты хочешь знать?
— Ты ведь ради этой статьи ездил в Ньюмаркет, на конюшню к Джорджу Каспару? — спросил я, кивнув на цветной журнал, который лежал рядом с бутылкой, сложенный вдвое.
— Ага, а то как же!
— Так расскажи мне, о чем ты не стал писать.
Он остановился, не дожевав:
— О чем именно?
— Что ты лично думаешь о Джордже как о человеке?
— Ну, — сказал он, пережевывая куски ячменного хлеба, — большую часть того, что я думаю, я написал в статье. — он покосился на журнал. — Он разбирается в том, когда лошадь готова к скачке и на какую скачку ее выставлять, лучше любого из наших тренеров. А вот в людях он разбирается не лучше бетонного столба. Любую из ста двадцати с лишним лошадей, что у него стоят, он знает по кличке и всю ее родословную и способен их различить даже c хвоста и в ливень, хотя это практически невозможно, но всех сорок конюхов, что на него работают, он зовет «Томми», потому что не в состоянии отличить одного от другого.
— Ну, конюхи-то меняются, — невозмутимо заметил я.
— Так и лошади тоже. Нет, все дело в самом Каспаре. Ему просто похрен на людей.
— И на женщин тоже? — уточнил я.
— Женщин он просто использует, бедняжек. Могу поспорить, когда он с ними, он на самом деле думает о завтрашних скачках.
— Ну а Розмари? Как она ко всему этому относится?
Я подлил ему шампанского и пригубил свой бокал. Бобби запихал в рот последний кусок сэндвича и облизал крошки с пальцев.
— Розмари? Да у ней шарики за ролики заходят.
— Да? А вроде вчера на скачках нормальная была, — заметил я. — Да и сегодня я ее видел...
— Ага, ну да, изображать из себя великосветскую даму на публике — это она еще может. А я у них три дня подряд бывал наездами, и знаешь, что я тебе скажу, старик: у них там такое творится, не услышишь — не поверишь!
— Например?
— Например, Розмари орет на весь дом, что у них недостаточно охраны, а Джордж на нее орет, чтобы она захлопнула пасть. Розмари, понимаешь, вбила себе в голову, будто бы у них в свое время нескольких лошадей испортили, — ну, надо тебе сказать, тут не поспоришь: чтобы на такой здоровенной и преуспевающей конюшне, как у них, не нашлось ублюдка, который норовит подправить шансы, — такого не бывает. Но как бы то ни было, — он опорожнил бокал и широким жестом наклонил бутылку, чтобы пополнить запасы, — как-то раз она ухватила меня за грудки у них в холле... а холл-то у них как приличный амбар... буквально ухватила меня за грудки и говорит, мол, лучше бы я написал про то, как Глинера и Зингалу испортили... ну, помнишь, были такие шикарные двухлетки, из которых в итоге так ничего и не вышло... а тут Джордж выходит из кабинета и говорит: мол, она стала нервозная и страдает от возрастных изменений, — и, короче, они прямо при мне устроили настоящую семейную сцену.
Он перевел дух и отхлебнул вина.
— Что самое странное — я бы сказал, что при этом они по-своему любят друг друга. Насколько Джордж вообще способен кого-то любить.
Я провел языком по зубам изнутри и сделал вид, будто мне это все не особо интересно и я думаю о чем-то другом.
— Ну а Джордж что говорит насчет ее подозрений про Глинера и Зингалу?
— Ну, Джордж счел само собой разумеющимся, что я ее всерьез не принимаю, но сказал, что она просто жутко переживает, как бы кто-нибудь не испортил Три-Нитро, вот и делает из мухи слона. Он говорит, это все возраст. Мол, женщины в этом возрасте всегда делаются странными. Он говорит, что Три-Нитро и так уже стерегут вдвое усерднее, чем он сам считает необходимым, все из-за ее подстрекательств, а когда начнется новый сезон, он еще и ночных сторожей наймет с собаками, и так далее. Сейчас, видимо, уже нанял. Еще он мне сказал, что Розмари в любом случае ошибается насчет того, что Глинера и Зингалу испортили, но Розмари буквально помешалась на этом вопросе, и он, уж так и быть, согласился ей немного подыграть, чтобы она не спятила окончательно. Похоже, что у них обоих... у лошадей, я имею в виду... обнаружились шумы в сердце, что, конечно, объясняет, почему они так хреново выступали, когда повзрослели и набрали вес. Только и всего. Никаких сенсаций.
Он опустошил свой бокал и заново его наполнил.
— Короче, Сид, старик, что ты хочешь знать о Джордже Каспаре на самом деле?
— Э-э-э... — протянул я. — Тебе не кажется, что он чего-то боится?
— Это Джордж-то?! — недоверчиво переспросил Бобби. — Чего, например?
— Чего угодно.
— Когда я там был, я бы сказал, что он боится не больше, чем грузовик с кирпичами.
— Он не выглядел озабоченным?
— Ни капельки.
— Не нервничал?
Бобби пожал плечами:
— Только из-за жены.
— А скажи, давно ты туда ездил?
— Ну-у... — Он призадумался. — После Рождества. Ага, точно: на вторую неделю января. Эти цветные приложения приходится готовить сильно заранее.
— То есть ты не считаешь, — спросил я разочарованным тоном, — что ему может понадобиться дополнительная охрана для Три-Нитро?
— Ах вон ты что задумал!
Бобби ехидно ухмыльнулся:
— Нет, старик, не выгорит дело. Попробуй сунуться к кому попроще. У Джорджа и так все схвачено намертво. Смотри: для начала, это одна из тех старых конюшен, которые со всех сторон обнесены высокой стеной, что твоя крепость. На входе — десятифутовые двойные ворота с шипами поверху.
Я кивнул:
— Да, я и сам видел.
— Ну и вот.
Бобби пожал плечами, давая понять, что тут больше и говорить не о чем.
Во всех барах в Кемптоне стояла телетрансляция, чтобы болельщики, плотно засевшие в баре, могли смотреть скачки, не выходя наружу. Вторую скачку мы с Бобби Анвином смотрели на таком экране. Первой, опередив соперника на шесть корпусов, пришла лошадь, которую тренировал Каспар, и, пока Бобби задумчиво изучал бутылку, в которой оставалось шипучки на два пальца, в бар вошел Джордж Каспар собственной персоной. За ним ввалился дородный мужчина в верблюжьем пальто, со всеми симптомами счастливого владельца, чья лошадь выиграла. Морда как у кота, объевшегося сметаны, широкие жесты, всех угощаю и так далее.
— Допивай шампанское, Бобби, — сказал я.
— А тебе не налить?
— Оно твое!
Он возражать не стал. Налил, выпил, смачно рыгнул.
— Я лучше пойду, — сказал он. — Мне еще писать про тех чертовых жеребчиков в третьей скачке. Смотри не проболтайся моему редактору, что я вторую скачку из бара смотрел. Меня ж уволят!
Бобби шутил. Немало скачек он смотрел в баре.
— Пока, Сид! Спасибо за угощение.
Он кивнул, развернулся и уверенно направился к двери, и ничто не выдавало, что за полчаса он усидел семь восьмых бутылки шампанского. Это он только разгонялся, вне всякого сомнения. Вместимость у Бобби была феноменальная.
Я спрятал его журнал во внутренний карман куртки и не спеша пошел следом за Бобби, размышляя о том, что он рассказал. Проходя мимо Джорджа Каспара, я сказал: «Поздравляю!» —обычная любезность в подобных случаях. Он коротко кивнул, бросил: «Привет, Сид!» — обмен расшаркиваниями завершился, и я пошел дальше своей дорогой. И тут он окликнул меня, повысив голос:
— Сид!
Я обернулся. Джордж помахал. Я вернулся.
— Хотел тебя познакомить с Тревором Динсгейтом, — сказал он.
Я пожал протянутую руку: белоснежная манжета, золотая запонка, холеная бледная кожа, чуть влажноватая, ухоженные ногти, на мизинце золотой перстень с ониксовой печаткой.
— Победитель ваш? — спросил я. — Мои поздравления!
— А вы знаете, кто я?
— Тревор Динсгейт?
— Помимо этого.
Я впервые видел этого человека вблизи. У могущественных людей часто встречается такой особенный прищур, выдающий затаенное ощущение собственного превосходства, и он щурился именно так. Темно-серые глаза, черные, тщательно уложенные волосы, поджатые губы, говорящие о натренированных мышцах, ответственных за принятие решений.
— Ну давай, Сид! — сказал Джордж, видя мое замешательство. — Если знаешь, говори. Я Тревору сказал, что ты все знаешь.
Я бросил взгляд на Джорджа, но на его жестком, обветренном лице не читалось ничего, кроме насмешливого ожидания. Я знал, что для многих моя новая профессия — нечто вроде игры. Что ж, ничего страшного, послушно прыгну через подставленный обруч.
— Букмекер? — предположил я и, обращаясь напрямую к Тревору Динсгейту, добавил: — «Билли Бонс»?
— Вот! — хмыкнул довольный Джордж. — Я же тебе говорил!
Тревор Динсгейт принял это философски. Я не стал копать глубже, иначе его реакция могла оказаться не столь дружелюбной. По слухам, настоящая его фамилия была Шеммок: Тревор Шеммок из Манчестера. Он родился в трущобах с острым, как бритва, умом и, пробиваясь наверх, сменил и имя, и говор, и общество. Как сказал бы Бобби Анвин, все мы такие — а почему бы и нет?
Путь Тревора Динсгейта в высшую лигу практически завершился тем, что он перекупил старую, но загибающуюся фирму под названием «Билли Бонс», которой владели какие-то братья Рубинштейн и их дядя Солли. И за последние несколько лет «Билли Бонс» сделался серьезной конторой. В любой спортивной газете, на любом ипподроме тебя встречали ядовито-розовые рекламные объявления и слоганы вроде: «Остров сокровищ — „Билли Бонс“ знает, где клад!». Если бизнес был столь же напорист, как рекламная кампания, видимо, Тревор Динсгейт процветал.
Мы культурно обсуждали победителя, пока не настало время идти смотреть жеребчиков.
— Как там Три-Нитро? — спросил я у Джорджа по пути к выходу.
— Отлично! — ответил он. — Рвется в бой.
— И никаких проблем?
— Ни малейших.
За дверью мы расстались. Оставшуюся часть дня я провел так же бестолково, как обычно: смотрел скачки, болтал со знакомыми, думал о пустяках. Розмари я больше не видел. Я понял, что она меня избегает, и после пятой скачки решил ехать домой.
У выхода с ипподрома местный служащий перехватил меня с некоторым облегчением, словно он меня ждал, причем несколько дольше, чем рассчитывал.
— Мистер Холли, вам записка!
— Да? Спасибо.
Он протянул мне неброский серый конверт. Я сунул его в карман, дошел до своей машины, сел за руль, достал конверт и прочел:
Сид!
Я весь день был занят, но мне надо с тобой поговорить. Не могли бы мы встретиться в кафетерии? После последней скачки?
Лукас Уэйнрайт
Тихонько ругнувшись, я побрел назад через автостоянку, миновал калитку и прошел в кафе, где обеденные блюда уступили место сэндвичам и кексам. Последняя скачка только что кончилась, завсегдатаи кафе тянулись внутрь маленькими группками, жаждущими чаю и не чаю, однако командора3 Лукаса Уэйнрайта, начальника службы безопасности Жокей-клуба, нигде видно не было.
Я немного поболтался в кафе, и наконец Уэйнрайт явился, запыхавшийся, встревоженный, замотанный и извиняющийся.
— Чаю хочешь?
— Да не особенно.
— Все равно. Возьми чаю. Тут можно посидеть спокойно, чтобы к тебе никто не лез, а то в баре слишком много народу толчется.
Он провел меня к столику и жестом предложил садиться.
— Слушай, Сид. Как насчет того, чтобы поработать на нас?
Командор Уэйнрайт времени зря не терял.
— «На нас» в смысле на службу безопасности?
— Ну да.
— Официально? — удивился я. Ребята из ипподромовской охраны в принципе знали, чем я занимаюсь в последнее время, и вроде бы не предъявляли претензий, но мне никогда не казалось, что это одобряется. В каком-то смысле я охотился на их территории и путался у них под ногами.
Лукас побарабанил пальцами по скатерти.
— Неофициально, — сказал он. — Лично для меня.
Поскольку Лукас Уэйнрайт сам был главной шишкой службы безопасности, той ветви Жокей-клуба, что выполняла охранные и следственные функции, даже неофициальная просьба с его стороны могла считаться достаточно серьезной. По крайней мере, пока не будет доказано обратное.
— А что за работа? — спросил я.
Этот вопрос в первый раз за все время заставил его сбавить скорость. Он помычал, покашлял, побарабанил пальцами, но наконец сформулировал то, что оказалось проблемой из проблем:
— Видишь ли, Сид, все это строго между нами...
— Разумеется.
— У меня нет полномочий вот так вот обращаться к тебе...
— Понимаю, — сказал я. — Ничего, продолжайте.
— А поскольку полномочий у меня нет, то и обещать, что мы заплатим, я тебе не могу.
Я тяжело вздохнул.
— Я могу предложить только... ну... помощь, если тебе вдруг потребуется помощь. И разумеется, только то, что в моих силах.
— Это может оказаться ценнее денег, — кивнул я.
Он приободрился:
— Хорошо. Так вот... ситуация очень неловкая. Крайне деликатная.
Он еще немного поколебался, но наконец со вздохом, похожим на стон, выдавил:
— Я прошу тебя потихоньку навести справки касательно... э-э-э... деятельности... одного из наших людей.
Повисла небольшая пауза. Я поинтересовался:
— Вы имеете в виду, одного из вас? Из сотрудников службы безопасности.
— Боюсь, что так.
— А о какого рода деятельности идет речь? — спросил я.
Вид у него сделался несчастный.
— О подкупе. О мошенничестве. Таких вот вещах.
— Хм, — сказал я. — Правильно ли я понимаю? Вы полагаете, что один из ваших ребят берет взятки у мошенников, и хотите, чтобы я с этим разобрался?
— Да, — сказал он. — Именно так.
Я пораскинул мозгами:
— А отчего вы сами не проведете расследование? Поручите это кому-то другому из ваших ребят.
— А-а-а... Ну... — Он откашлялся. — Тут все не так просто. Если я все-таки ошибаюсь, я не могу допустить, чтобы о моих подозрениях сделалось известно. Это сулит очень большие, огромные неприятности. А если я прав — а боюсь, что я прав, — мы... ну, то есть Жокей-клуб... предпочли бы разобраться с этим делом без лишнего шума. Публичный скандал с участием службы безопасности причинит серьезный вред скачкам.
Я подумал, что он, кажется, малость преувеличивает, — но он не преувеличивал.
— Речь идет, — сказал он с самым несчастным видом, — об Эдди Кейте.
Вновь повисло молчание. На тот момент в иерархии службы безопасности главным был Лукас Уэйнрайт, а ступенью ниже стояли двое его помощников с одинаковыми полномочиями. Оба они были полисменами высокого ранга в отставке. Один из них — бывший суперинтендант Эддисон Кейт.
Я без труда представил его себе: мне не раз приходилось с ним общаться. Жизнерадостный грубоватый верзила, обожавший хлопать людей по плечу увесистой лапищей. Громогласный, с отчетливым провинциальным саффолкским выговором. Пышные соломенные усища, развевающиеся русые волосы, сквозь которые просвечивала розовая макушка, глаза с мясистыми веками, казалось вечно искрящиеся благодушием, за исключением тех случаев, когда Эдди был не в духе.
Не раз мне случалось видеть, как его глаза сверкали холодно и безжалостно, будто расселина в леднике. Будто лед на солнце — красивый, но таящий в себе множество ловушек. Человек, который с жизнерадостной улыбкой защелкнет на вас наручники, — вот каков Эдди Кейт.
Но чтобы Эдди сделался жуликом? Уму непостижимо.
— А что об этом говорит? — спросил я наконец.
Лукас Уэйнрайт пожевал нижнюю губу и наконец сказал:
— За последний год четыре его расследования дали неудовлетворительные результаты.
Я поморгал:
— Не особо убедительно.
— Да. Именно так. Будь я уверен, я бы с тобой не говорил.
— Ну да, наверно... — Я поразмыслил. — А что за расследования-то?
— Речь о синдикатах. О том, насколько люди, желающие создать синдикат для совместного владения лошадьми, для этого годятся. Ну, чтобы всякие нежелательные личности не проникли на скачки через черный ход. И Эдди дал добро четырем предполагаемым синдикатам, в которые на деле вошел один человек (а может, и больше), которого даже к воротам подпускать не следовало.