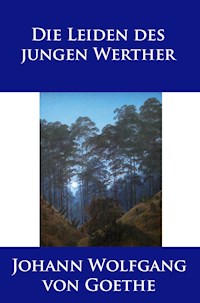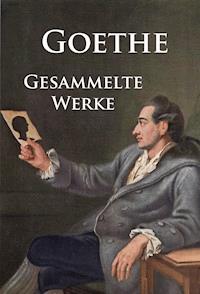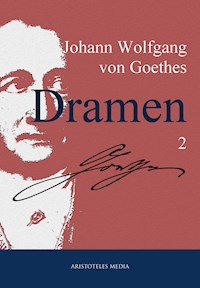Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rodina Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Имя крупнейшего немецкого поэта Гете (1749–1832) принадлежит к лучшим именам, которыми гордится человечество. Трагедия «Фауст» занимает центральное место в его творчестве, принадлежит к шедеврам мировой литературы. Перевод ее выполнен одним из лучших русских поэтов XIX столетия Афанасием Фетом.Фет с детства по материнской линии был тесно связан с немецким языком и немецкой культурой, с эстетико-философскими взглядами И.В. Гете и Г. Гегеля. Литературный критик Аполлон Григорьев писал: «Гете преимущественно воспитал поэзию г. Фета; влиянию великого старого учителя обязан понятливый ученик и внутренним достоинствам, и замечательным успехом своих стихотворений, и, наконец, самою изолированностью своего места в русской литературе».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Иоганн Вольфганг фон Гёте Фауст
© Гете И. В.
© Фет А. А., перевод
© Вострышев М.И., предисловие, комментарии, 2021
© ООО «Агентство Алгоритм», 2021
* * *
Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832)
Гете и его «Фауст»
Иоганн Вольфганг фон Гете (1749–1832) – немецкий писатель, философ и естествоиспытатель, государственный деятель. Его обширное творческое наследие, в особенности трагедия «Фауст», признано шедевром немецкой и мировой литературы. Он – крупнейший европейский лирик, автор драм и эпических поэм, романист.
«Гете представляет, может быть, единственный в истории человеческой мысли пример сочетания в одном человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого», – писал русский естествоиспытатель К.А. Тимирязев.
Гете – автор научных трудов в области геологии и минералогии, ботаники и оптики, анатомии и зоологии, он – выдающийся философ, хотя сам неоднократно иронически высказывался об этой гуманитарной науке. Широкий круг философских проблем поднят в его художественных произведениях, прежде всего в «Фаусте». Гете обладал необычайно широким кругозором в истории философии, творчески перерабатывая в своих произведениях воззрения на мир Спинозы, Аристотеля, Платона, Руссо, Канта, Гегеля. Его постоянно преследовала мысль о высшей цели жизни, он мечтал о гармонии человека и природы.
Уже в молодые годы Гете получил широкую известность в Европе благодаря роману «Страдания юного Вертера». В дальнейшем он неоднократно подтверждал своим творчеством свою славу великого немецкого писателя. И среди его шедевров выделяется вершина, самое дорогое ему произведение, итог всей его кипучей деятельности – трагедия «Фауст».
Гете много ездил и по городам Германии, где и столкнулся с удивительным явлением – кукольными ярмарочными спектаклями, в которых главными действующими лицами был некий Иоганн Фауст – доктор и чернокнижник и Мефистофель – черт и соблазнитель. Это была веселая, ироническая и сатирическая комедия…
Замысел трагедии о докторе Фаусте возник у Гете еще в начале 1770-х годов, когда ему было чуть больше 20 лет, а заканчивал текст автор, будучи глубоким 82-летним стариком. В 1790 году он напечатал ряд сцен «Фауста», предупредив читателей, что это отрывки, а не законченное произведение. Действие было доведено до сцены, где Маргарита молится в соборе. В 1794 году Гете сблизился с немецким поэтом Фридрихом Шиллером. Именно в годы общения с ним замысел трагедии обрел тот всеобъемлющий философский характер, который так высоко поднял это творение над другими произведениями всей немецкой литературой. Первая часть «Фауста» вышла в свет в 1808 году. Потом настал перерыв. Для того, чтобы Гете снова принялся за работу, понадобилось вмешательство Иоганна Петера Эккермана – секретаря писателя. Именно Эккерман побудил его вернуться к незавершенной работе. С 1825 года начинается последний период создания «Фауста», длившийся семь лет. В эти годы Гете сам определил для себя, что это произведение является для него «главным делом». Вторая часть была закончена в 1831 году и появилась в печати в 1833 году, уже после смерти его создателя. В 1886 году был обнаружен текст «Прафауста» (Urfaust), сочиненного Гете в молодости, в 1772–1775 годах.
Трагедия начинается с не имеющего отношения к основному сюжету спора между директором театра и поэтом о том, как надо писать пьесу. В этом споре директор разъясняет поэту, что зритель груб, бестолков и не имеет собственного мнения, предпочитая судить о произведении с чужих слов. Да и не всегда его интересует искусство – некоторые приходят на представление лишь для того, чтобы щегольнуть своим нарядом. Таким образом, пытаться создать великое произведение не имеет смысла, поскольку зритель в массе своей не в состоянии его оценить. Вместо этого следует свалить в кучу все, что попадется под руку, а так как зритель все равно не оценит обилия мысли – удивить его отсутствием связи в изложении.
Действие начинается на небе. Господь признает, что из всех духов отрицания он больше всего благоволит к Мефистофелю, заслуги которого состоят в том, что он не дает людям успокоиться. В целом злой дух изначально признает свою полную зависимость от Бога, ибо негативное начало парадоксальным образом всегда превращается в добро. Мефистофель заключает с Господом пари на то, сможет ли Фауст спасти от него свою душу.
Профессор Фауст, своими изысканиями принесший много добра жителям окрестных селений, не удовлетворен теми знаниями, которые за многие годы удалось ему извлечь из книг. Осознавая, что сокровенные тайны мироздания недоступны человеческому разуму, в отчаянии он подносит к губам склянку с ядом. Лишь внезапно зазвучавший благовест предотвращает самоубийство.
Бродя по городу со своим учеником Вагнером, Фауст встречает собаку, которую приводит за собой в дом, где она принимает человеческий образ Мефистофеля. Злой дух после ряда искушений убеждает старого отшельника вновь изведать радости опостылевшей ему жизни. Плата за это – душа Фауста. Скрепив договоренность кровью, Фауст отправляется в путь. В поисках развлечений он и Мефистофель кружат по Лейпцигу. В погребке Ауэрбаха злой дух поражает студентов извлечением вина из пробуравленной в столе дырки. Он потворствует желанию Фауста сблизиться с невинной девушкой Маргаритой (уменьшительное Гретхен), видя в этом желании одно лишь плотское влечение.
Чтобы подстроить знакомство Фауста с Маргаритой, Мефистофель втирается в доверие к ее соседке Марте. Фаусту не терпится провести ночь наедине с возлюбленной. Он убеждает Маргариту усыпить мать имеющимся у него снотворным. Последняя от полученного снадобья умирает. Позже Маргарита обнаруживает, что беременна. Ее брат Валентин вступает с Фаустом в поединок. Убив в драке Валентина, спутники покидают город, и Фауст не вспоминает Маргариту до тех пор, пока не встречает ее призрака на шабаше. Призрак является ему в Вальпургиеву ночь на Броккене как пророческое видение – в виде девушки с колодками на ногах и тонкой красной линией на шее. Из расспросов Мефистофеля он выясняет, что его возлюбленная в темнице ждет казни за то, что утопила дочь, зачатую ею от Фауста.
Фауст спешит на помощь в темницу к Маргарите, которую постепенно покидает рассудок, и предлагает ей побег. Девушка отказывается принять помощь нечистой силы и остается ждать казни. Вопреки ожиданиям Мефистофеля, Господь принимает решение спасти душу девушки от мук ада и объявляет свой вердикт: «Спасена».
Вторая часть представляет собой поэтический философский текст, который заключает в себе множество зашифрованных символических и мистических ассоциаций и неразрешимых загадок. Эта часть более эпизодична, чем первая. Она состоит из пяти актов с относительно самостоятельными фабулами. Действие переносится в атмосферу античного мира, где Фауст сочетается браком с Еленой Прекрасной. Фауст и Мефистофель сводят знакомство с императором и предпринимают ряд мер по улучшению благосостояния его подданных.
Художественный мир второй части – это сложное переплетение между средневековьем, где происходит действие первой части, и античностью. Для понимания текста необходимо хорошее знание древнегреческой мифологии.
От союза Елены и Фауста появляется сын Эвфорион. Когда он вырастает, то устремляется ввысь и разбивается. Исчезает и Елена, оставив лишь одежду на руках у Фауста. Эта сцена имеет символическое значение. Проводится мысль о том, что нельзя копировать античное искусство, можно использовать формальную сторону, но содержание должно быть современным. Эвфорион унаследовал красоту матери и беспокойный нрав отца. Он представляет собой символ нового искусства, которое, по мнению Гете, должно соединять античную гармонию и современный рационализм. При этом сам Гете данный образ ассоциирует с образом Байрона.
В последнем пятом акте Фауст, вновь постаревший, вернулся в современный ему мир, занимается постройкой плотины для блага человечества. Гете рассуждает о смене эпох, как разрушении старого феодального мира и начале новой эпохи, эпохи созиданий. Но созидание не может быть без разрушения, свидетельство чему – смерть двух стариков.
На исходе жизни ослепший Фауст, слыша звук лопат, переживает величайший миг в своей жизни, полагая, что его работа принесет большую пользу людям. Ему невдомек, что это по заданию Мефистофеля лемуры (ночные духи) копают его могилу. Вспомнив про контракт с Мефистофелем, Фауст говорит том, что лишь осушив болота и создав плодородный край, он попросит остановить мгновенье его жизни. Но умирает по предсказанию духа Заботы, отомстившего за смерть невинных стариков.
Согласно условиям контракта душа Фауста должна попасть в ад. Однако заключенное пари Господь разрешает в пользу спасения души Фауста, поскольку тот до последнего дня своей жизни трудился на благо человечества. Душа Фауста попадает на небеса, где соединяется с душой Маргариты.
Таким образом, в отличие от традиционных версий народной легенды, согласно которым Фауст попадает в ад, в версии Гете, несмотря на выполнение условий соглашения и на то, что Мефистофель действовал с разрешения Бога, ангелы забирают душу Фауста у Мефистофеля и уносят ее в рай.
В «Народной книге» XVI века Фауст продает свою душу ради мирских удовольствий, а в «Трагической истории доктора Фауста» английского писателя Кристофера Марло (1564–1590) им движет желание обессмертить свое имя. В гетевской трактовке Фауст тонет в пучине крайнего пессимизма и с полным безразличием относится к загробной жизни, отсюда легкость, с которой он заключает сделку с дьяволом.
И в «Народной книге», и в «Трагической истории доктора Фауста» присутствуют попытки Фауста обратиться к Небу, однако в версии Гете подобные размышления исключены. Как и в более ранних версиях легенды, значительный объем текста уделен шуткам и магическим проделкам Фауста и Мефистофеля.
Для мировоззрения Гете характерен оптимизм. Поэтому в его трактовке Бог спасает души как Маргариты, так и Фауста, несмотря на совершенные ими прегрешения и отступления от буквы закона. Даже искушения темных сил рассматриваются немецким писателем в позитивном ключе, и сам сатана у него признается: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
По форме «Фауст» – это драма для чтения, по жанру – философская поэма. Нет прямого авторского слова, все отдано действующим лицам: монологи, диалоги, харовые партии. Об этой трагедии написано множество книг, в которых с различных сторон истолкованы характеры и события знаменитого произведения Гете, далеко не всегда друг с другом совпадающие. Вопросы, поднятые писателем, не поддаются простому и однозначному решению. Ведь «Фауст» – размышление о смысле существования человека на земле, о конечной цели его жизни.
Афанасий Фет – поэт и переводчик
Афанасий Афанасьевич Фет родился 23 ноября (5 декабря по новому стилю) 1820 года в деревне Новоселки, неподалеку от города Мценска Орловской губернии. Отец его, орловский помещик, ротмистр в отставке Афанасий Неофитович Шеншин, принадлежал к старинному дворянскому роду. Родоначальником Шеншиных считается татарский князь, поступивший в конце XV века на московскую службу. Получив вотчину в Мценске, он стал основателем разветвленного рода Шеншиных, расселившегося по всему Мценскому уезду.
В 1819 году Афанасий Неофитович, пылкий приверженец идей Руссо, находился на лечении в германском городе Дармштадте, где на 45-м году жизни женился на 22-летней немке Шарлотте, дочери Карла Беккера, носившей фамилию Фет по первому мужу, с которым она развелась. Будущий поэт был первенцем от этого брака, совершенного за границею по лютеранскому обряду и не имевшего в России законной силы. До 14 лет мальчик носил фамилию Шеншин. При обнаружении ошибки в записи о его крещении (православное венчание матери было совершено уже после рождения сына), лишенный дворянства, наследственных прав и русского подданства, он принужден был принять фамилию матери – Фет (мать с трудом добилась у своих родственников, чтобы ее первенца признали «гессен-дармштатским подданным», иначе он числился бы как незаконнорожденный). Его родным отцом стал считаться первый муж Шарлотты – Иоганн Петр Вильгельм Фет.
В годы детства, проведенные в имении Шеншиных в Новоселках, главное влияние на будущего поэта имели мать и дядя, Петр Неофитович. Благодаря матери мальчик прекрасно овладел немецким языком, а благодаря дяде, любителю поэзии и истории, полюбил русскую литературу. Его первыми учителями, научившие мальчика русской грамоте и арифметике, были камердинер Илья Афанасьевич, повар Афанасий, дворовые, заезжие семинаристы. В воспоминаниях «Ранние годы моей жизни» о своем детстве Фет говорит сдержанно и суховато. Отец ему запомнился суровым, скупым на ласку пожилым человеком; мать – робкой и покорной мужу женщиной.
В начале 1835 года Афанасий был помещен в частный пансион Крюммера в городе Верро Лифляндской губернии. Он вспоминал о своем отъезде из Новоселок: «Ссылаясь на приближающуюся весеннюю оттепель, отец, заказав почтовых лошадей, дал поцеловать мне свою руку, и я, мечтавший о свободе и самобытности, сразу почувствовал себя среди иноплеменных людей в зависимости, с которой прежняя, домашняя, не могла быть поставлена ни в какое сравнение».
Домашнюю жизнь и любовь родных заменили учителя далекого от дома учебного заведения, где преподавание велось на немецком языке, и где мальчик приобщился к немецкой литературе, с особым интересом читая Гете, Шиллера, Гофмана, Гейне. Преподаватель истории, латинского языка и и некоторых других наук в пансионе Генрих Эйзеншмидт вспоминал о Фете: «Он был единственным русским в классе и представлял свою национальность на фоне немецкого окружения с таким же умом, как и энергией. При этом немалое восхищение вызывали его способности в механике. Я находился с ним в очень доверительных отношениях, и однажды он похвалился мне, что если бы вдруг стал очень беден, то мог бы зарабатывать на хлеб пятью профессиями. И это не было преувеличением, так как он доказал это. Например, он чинил часы, причем не имея в своем распоряжении никаких других инструментов, кроме штопальной иглы и испорченного рейсфедера в качестве щипчиков».
Три года провел Афанасий в маленьком прибалтийском городке, сплошь населенном немцами, и позже вспоминал это время только с радостным чувством. Но подростка угнетало его «изгнание» из родной семьи, отлучение от отчего дома, он чувствовал себя «собакой, потерявшей хозяина».
Из Верро в начале 1838 года Фет по решению отца был отвезен в Москву и определен для подготовки в Московский университет в частный пансион М.П. Погодина. Во флигеле доме историка Погодина на Девичьем поле Афанасий прожил полгода. В это время его часто можно было застать в кругу веселой компании в трактире на Зубовской площади или в обществе цыганки из хора, к которой испытывал любовное влечение.
Осенью 1838 года Фет поступил в университет, где учился сначала на юридическом факультете, потом на словесном отделении философского факультета.
О начале пребывания в Московском университете в книге «Ранние годы моей жизни» Фет говорит следующее: «Ни один из профессоров, за исключением декана Ив. Ив. Давыдова, читавшего эстетику, не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по временам лекции, я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы не слыхать тоску наводящей болтовни».
Любимым занятием вскоре стало сочинение стихов. Поселившись в семье Григорьевых в Замоскворечье на Малой Полянке, Фет нашел в сыне хозяина дома, университетском студенте и будущем литературном критике Аполлоне Григорьеве, ревностного поклонника своей поэзии. Тот первым подметил и духовный кризис молодого поэта: «Я не видел человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства… Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять… страшное хаотическое брожение стихий его души».
Дружескому сближению молодых людей немало способствовала присущая им страсть к искусству во всех его проявлениях. На литературные беседы к Фету и Григорьеву собирались любители словесности из университетского студенчества: С.M Соловьев, Я.П. Полонский, К.Д. Кавелин, князь В.А. Черкасский, Н.К. Калайдович… Они стали первыми слушателями поэзии Фета. С их одобрения он стал часто печататься в журналах «Москвитянин» и «Отечественные записки». Талант его был замечен Белинским. Ободренный похвалами друзей, молодой поэт в 1840 году издал под инициалами «А. Ф.» первый сборник своих стихотворений «Лирический пантеон». В него вошли баллады, элегии, идиллии и эпитафии, в которых отразились его увлечения Гете, Шиллером, Пушкиным, Жуковским и модным в то время поэтом Бенедиктовым.
Зная в совершенстве немецкий язык, на третьем курсе университета Фет начал переводить поэму Гете «Герман и Доротея», стихотворения Гейне, Шиллера. Продолжал сочинять и публиковать в журналах свои оригинальные стихи. В 1843 году некоторые из них были напечатаны в популярной «Хрестоматии» А.Д. Галахова.
В 1844 году Фет завершил учебу в университете. В этот году он стал еще более одинок после кончины матери и горячо любимого дяди Петра Шеншина. Надо было научиться жить самостоятельно.
По давнему своему стремлению к военной службе (военной службой он хотел вернуть себе дворянство), Фет 21 апреля 1845 года поступил унтер-офицером в кирасирский полк (штаб его находился в Новогеоргиевске Херсонской губернии), в котором 14 августа 1846 года произведен в корнеты, а 6 декабря 1851 года – в штабс-ротмистры.
Оторванный от российских культурных центров, Фет почти полностью перестал печататься в журналах. Поэтический сборник, разрешенный цензурой в 1847 году, ему удалось напечатать лишь три года спустя. Выход в 1850 году «Стихотворений А. Фета» стал ярким событием отечественной словесности. Автор продекламировал о своем радостном приходе в русскую литературу:
«Подобного лирического весеннего чувства природы мы не знаем во всей русской поэзии!» – восторженно писал об этих четырех строфах литературный критик Василий Боткин.
Переведенный в 1853 году в лейб-гвардии уланский полк, расквартированный близ Петербурга, Фет получил там чин поручика (гвардейские чины расценивались на два уровня выше армейских, поэтому штабс-ротмистр Фет должен был в гвардейском полку начать службу с младшего офицерского чина).
Во время Крымской войны с февраля 1854 года Фет был в составе войск, охранявших побережье Балтийского моря от возможной высадки английского десанта. Два года спустя врачи нашли у него «общее расстройство дыхательных путей» и посоветовали немедленно ехать лечиться за границу.
Фет вспоминал: «Никакая школа жизни не может сравниться с военною службой, требующей одновременно строжайшей дисциплины, величайшей гибкости и твердости хорошего стального клинка в сношениях с равными и привычки к мгновенному достижению цели кратчайшим путем. Когда я сличаю свою нравственную распущенность и лень на школьной и университетской скамьях с принужденным самонаблюдением и выдержкой во время трудной адъютантской службы, то должен сказать, что кирасирский Военного ордена полк был для меня возбудительною школою».
Военная служба стала яркой страницей его жизни, расцветом поэтической деятельности и популярности. После перехода в гвардию и переезда в Петербург Фет познакомился с кружком журнала «Современника» (в декабре 1853 г. – январе 1854 г.) – Н.А. Некрасовым, И.И. Панаевым, А.В. Дружининым, И.А. Анненковым, И.А. Гончаровым, возобновил знакомство с И.С. Тургеневым и В.П. Боткиным. У Тургенева встретился с графом Л.Н. Толстым, только что начавшим тогда свою литературную деятельность. Позже они стали близкими приятелями и вели обширную переписку.
Постоянно публикуя в 1850-х годах свои оригинальные стихотворения в «Современнике» и «Отечественных записках», Фет в этих же журналах, а также в «Библиотеке для чтения» и в «Русском слове» поместил несколько довольно значительных переводных трудов, в том числе поэмы Гете «Герман и Доротея» («Современник», 1856, № 7). В 1856 году выходит собрание его стихотворений, встреченное сочувственными статьями (этот сборник подготовил и отредактировал Иван Тургенев). Николай Некрасов писал: «Смело можно сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет».
Но успех его лирической поэзии ограничивался довольно узким литературным кругом, в своем подавляющем большинстве просвещенная публика равнодушно относилась к его сочинениям; люди в эту пору решительных политических и экономических реформ интересовались более литературными произведениями, в которых чувствовался «дух времени», гражданские мотивы революционно-демократической мысли.
Взяв в 1856 году перед выходом в отставку из военной службы отпуск на 11 месяцев, Фет совершил поездку за границу, побывав в Карлсбаде, Париже и в итальянских городах. Навестил в Куртавнеле, в имении Виардо своего приятеля и собрата по перу Ивана Тургенева. В Париже 16 августа 1857 года женился на богатой купеческой невесте Марии Петровне Боткиной (1828–1894), сестре своего давнишнего друга и почитателя Василия Боткина.
По окончании отпуска 27 января 1858 года Фет вышел в отставку штабс-ротмистром гвардии и поселился в Москве. Его уход с военной службы был связан не только с женитьбой, которая принесла материальное благополучие, но и с невозможностью достижения поставленной им цели. По указу нового императора Александра II право на потомственное дворянство давал с 1856 года только чин полковника, а не майора, как было раньше. Дослужиться же до полковничьих погон Афанасий Афанасьевич не надеялся.
В начале 1860-х годов из-за политических разногласий Фет порвал отношения с журналом «Современник», после чего возник знаменитый антагонизм двух крупнейших поэтов своего времени «Некрасов – Фет».
Выпустив в свет в 1863 году в двух книгах свои «Стихотворения», расходившиеся довольно медленно, Афанасий Афанасьевич почти совсем перестал писать стихи. Тургенев с долей иронии говорил о Фете, что «он теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности, отпустил бороду до чресл, о литературе слышать не хочет и Музу прогнал взашею…»
Еще в 1860 году Фет решил серьезно заняться сельским хозяйством и с этою целью купил в Мценском уезде хутор Степановка с 200 десятинами земли. Здесь он прожил 17 лет, лишь зимою ненадолго наезжая в Москву, и создал прекрасное имение: отделал купленный неоконченным дом и расширил его пристройками, развел цветники, насадил аллеи, выкопал пруды и колодцы, проложил отличную подъездную дорогу, усердно вел хлебопашество, завел мельницу и конный завод. Свой опыт жизни и сельскохозяйственной деятельности в пореформенной деревне Афанасий Афанасьевич изложил в серии очерков, появлявшихся в журналах в 1862–1871 годах.
В Мценском уезде с с 1 ноября 1867 года по 1877 год Фет служил мировым судьею, разбирая мелкие гражданские и уголовные преступления. К этой общественной должности он относился со всей ответственностью и полной самоотдачей и писал о ней: «Свободный выбор уездными гласными наилучших людей в мировые судьи, которым представлялось судить публично по внутреннему убеждению, являлся для искателей должности судьи чем-то священным и возвышающим избираемого в его собственных глазах».
По императорскому указу 26 декабря 1873 года за Афанасием Афанасьевичем, наконец, была утверждена фамилия отца – Шеншин, со всеми связанными с нею правами потомственного дворянина. Но свои литературные произведения он и далее подписывал фамилией Фет.
Помимо замечательного поэтического таланта, Фет обладал незаурядными интеллектуальными качествами. Он был блестящим остроумным рассказчиком, что отмечали его современники, слышавшие его или переписывавшиеся с ним, душевным и разумным товарищем. Иван Тургенев, отвечая на очередное письмо, признавался Фету: «Переписываться с вами для меня потребность, и на меня находит грусть, если я долго не вижу ваш связно-красивый, поэтическо-безалаберный и кидающийся из пятого этажа почерк». Лев Толстой пишет Фету: «Кроме вас у меня никого нет… Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых, и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек».
Возвращение Фета к литературе совершилось на склоне лет в его новом имении Воробьевке Щигровского уезда, Курской губернии, в десяти верстах от Коренной пустыни, купленном в 1877 году. С весны 1878 года до своей кончины Фет проводил здесь большую часть года с марта по октябрь, и лишь зимние месяцы уезжал в Москву. Новое хозяйство на 850 десятинах велось управляющим, а сам владелец, кроме писания стихотворений, выходивших отдельными выпусками под заглавием «Вечерние огни» (1883, 1885, 1888 и 1891), усердно принялся за переводы.
Литературный критик Николай Страхов, часто навещавший Фета в его новой усадьбе, писал о ней: «Деревня Воробьевка стоит на левом, луговом берегу реки, а господская усадьба на правом берегу, очень высоком. Каменный дом окружен с востока каменными же службами, а с юга и запада огромным парком на 18-ти десятинах, состоящим большей частью из вековых дубов. Место так высоко, что из парка ясно видны церкви Коренной Пустыни[1]. Множество соловьев, грачи и цапли, гнездящиеся в саду, цветники, разбитые по скату к реке, фонтан, устроенный в самом низу против балкона, – все это отразилось в стихах владельца, писанных в этот последний период его жизни».
Поклонник немецкого философа-идеалиста Артура Шопенгауэра (1788–1860), Фет перевел и издал три его труда: «Мир, как воля и представление» (1881) и «О четверояком корне закона достаточного основания» (1886) и «О воле в природе» (1886).
Фет в начале 1880-х годов перевел обе части «Фауста» Гете, и целый ряд латинских поэтов. В 1884 году за перевод Горация он был удостоен Академией наук первой полной Пушкинской премии. Профессор И.В. Помяловский отметил у переводчика такое же разнообразие метров и такое же оригинальное сочетание стоп, как и в подлиннике; в числе достоинств перевода, кроме того, названы: редкая полнота и благозвучность рифм, а также гладкость, естественность и удобопонятность речи.
В области ритмики Фет вместе с Тютчевым – самый смелый экспериментатор в русской поэзии, прокладывающий путь поэтическим достижениям ХХ века. Он – ярчайший представитель «мелодической линии», продолжателем которой стал Александр Блок, поэт редкой эмоциональности, силы чувства, радостного восприятия жизни и в то же время удивительной субъективности.
Представлению о красоте, как о реально существующем элементе мира, окружающего человека, Фет оставался верен до конца. Недаром на вопрос «Ваш любимый поэт?» он ответил: «Пушкин», а в другом «альбоме признаний» назвал «поэтом объективной правды» Гете.
Литературные труды Фета (благодаря его консервативным взглядам на политическое устройство России) получают не только общественное, но и государственное признание. В 1888 году Фет имел аудиенцию у императора Александра III, благосклонно относившийся к его деятельности, вернее к отсутствию общественно-политической деятельности.
Торжественно отпраздновали в Москве 28 и 29 января 1889 года 50-летний юбилей литературной деятельности Фета и пожалование юбиляру придворного звания камергера. Николай Страхов писал: «Кто любит и понимает Фета, тот становится способным чувствовать поэзию, разлитую вокруг нас и в нас самих, то есть научается видеть действительность с той стороны, с которойона является красотою… Мы не найдем у Фета ни тени болезненности, никакого извращения души, никаких язв, постоянно ноющих на сердце. Всякая современная разорванность, неудовлетворенность, неисцелимый разлад с собой и с миром – все это чуждо нашему поэту…. Вечный нерукотворный памятник воздвиг себе Фет. По яркости и законченности он – явление необыкновенное, единственное, мы можем гордится им пред всеми литературами мира и причислить его к неумирающим образцам истинной поэзии. К нашей радости, он пишет до сих пор, и пишет с тою же силой, с неувядающей свежестью. В нынешний торжественный день всем нам следует сердечно приветствовать его, сердечно желать бесценному поэту здоровья на многие годы».
В последние годы жизни Фет написал мемуары, которые составили две большие книги «Мои воспоминания» (1890) и «Ранние годы моей жизни» (посмертное издание в 1893 г.). Его все больше стали одолевать старческие недуги, резко ухудшилось зрение, терзала «грудная болезнь», сопровождавшаяся приступами удушья и мучительными болями, о которых он писал, что ощущает, будто слон наступил ему на грудь. Тем не менее, он не бросал ни переводов, ни работы над очередным выпуском «Вечерних огней», продолжая петь «о таинствах любви». Последнее стихотворение было написано 23 октября 1892 года.
Скончался Афанасий Афанасьевич Фет 21 ноября 1892 года в Москве.
* * *
Фет говорил, что Гете всегда оставался для него «предметом неизменного удивления и наслаждения». Увлечение немецкой поэзией господствовало в России в 1830-х и 1840-х годах, а потом стало постепенно угасать, уступая место революционно-демократическому направлению. Но Фет, как представитель «чистого искусства», остался верен старым идеалам. Он писал: «Что касается до меня, то, отсылая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, каковы: Ф. Шиллер, И.В. Гете и А.С. Пушкин, ясно и тонко понимавших значение и сущность своего дела, прибавлю от себя, что вопросы: о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался».
И если любовь к поэзии Гейне, которого Фет много переводил, с годами угасла, то Гете остался кумиром на всю жизнь. Русский поэт повторял вслед за немецким гением: «Красота выше добра, красота включает добро». Поначалу Фет переводил его интимную лирику («Прекрасная ночь», «На озере», «Майская песня», «Первая потеря», «Ночная песня путника») и романтические баллады («Певец», «Рыбак», «Лесной царь»). Затем приходит очередь философских од («Границы человечества», «Зимняя поездка в Гарц»). Да и оригинальные стихи юного Фета, по замечанию русской критики, «написаны в духе мелких лирических стихотворений Гете». Аполлон Григорьев писал: «Гете преимущественно воспитал поэзию г. Фета; влиянию великого старого учителя обязан понятливый ученик и внутренним достоинством, и замечательным успехом своих стихотворений, и, наконец, самою изолированностью своего места в русской литературе. Достоинство или недостаток эта изолированность, во всяком случае, она может быть уделом яркого и замечательного дарования и составляет прямой результат проникновения ученика духом учителя, как бы исполнением его завета».
Наступила очередь взяться за перевод «Фауста»…
Первая робкая репетиция русских переводов трагедии Гете начинается с Василия Жуковского, написавшего в 1817 году по мотивам «Посвящения» к «Фаусту» стихотворение «Мечта. Подражание Гете». Следующим был Александр Грибоедов, опубликовавший в 1825 году «Пролог в театре», на добрую треть удлинив его собственными стихотворными строчками. Отдельные отрывки и сцены из гениального творения немецкого писателя переводили также Д.В. Веневитинов, А.А. Шишков, Ф.И. Тютчев, А.К. Толстой…
Сложность перевода «Фауста» на русский язык в чрезвычайном разнообразии поэтических стилей. Немецкий «ломаный стих» – Knitteivers, основной размер трагедии, чередуется с терцинами в стиле Данте, с античными триметрами, с александрийским стихом…
Первый полный перевод «Фауста» на русский язык принадлежит перу поэта Эдуарда Ивановича Губера (1814–1847) – обрусевшего немца, военного инженера. Ему фактически пришлось переводить «Фауста» дважды – первую публикацию в 1835 году запретила цензура, после чего он сжег рукопись. Историю участия Александра Пушкина в судьбе перевода рассказал M.H. Лонгинов: «Пушкин узнал, что какой-то молодой человек переводил Фауста; но сжег свой перевод как неудачный. Великий поэт, как известно, встречал радостно всякое молодое дарование, всякую попытку, от которой литература могла ожидать пользы. Он отыскал квартиру Губера, не застал его дома, и можно себе представить, как удивлен был Губер, возвратившись домой и узнавши о посещении Пушкина. Губер отправился сейчас к нему, встретил самый радушный прием и стал посещать часто славного поэта, который уговорил его опять приняться за Фауста, читал его перевод и делал на него замечания. Пушкин так нетерпеливо желал окончания этого труда, что объявил Губеру, что не иначе будет принимать его, как если он каждый раз будет приносить с собой хоть несколько стихов Фауста. Работа Губера пошла успешно».
Пушкин не дожил до окончания работы Губера, с посвящением ему первый русский «Фауст» был издан в Петербурге в 1838 году.
Шесть лет спустя в Петербурге издали перевод первой части и изложение второй части «Фауста» Михаила Павловича Вронченко (1801 или 1802–1855) – военного геодезиста, автора географических сочинений. В 1830-х годах публиковались его многочисленные переводы Шекспира, Мицкевича, Байрона. «Фауст» – последняя переводная работа Вронченко. Критики отмечали, что она выполнена «с суховатой точностью». Первоклассный знаток творчества Гете Иван Тургенев писал, что «единая, глубокая общая связь» между автором и переводником не была достигнута, ее подменило «множество мелких связок, как бы ниток, которыми каждое слово русского “Фауста” пришито к соответствующему немецкому слову».
Перевод «Фауста» поэта Александра Николаевича Струговщикова (1808–1878), впервые изданный в 1856 году, был выполнен на более высоком литературном уровне, чем два предыдущих. Но автор пренебрег конкретной художественной формой оригинала, его своеобразным лиризмом, простотой слога, особенностями метрической структуры. Перевод Струговщикова приобрел известность в истории русской культуры, главным образом, благодаря тексту песни Мефистофеля о блохе, положенной на музыку М.П. Мусоргским.
Афанасий Фет в 1882 году закончил работу над переводом первой части гетевского «Фауста», в 1883 году перевел вторую часть. Он писал 5 февраля 1881 года своей приятельнице Софье Владимировне Энгельгардт: «“Фауст” – это моя художественная религия и пропаганда. Это вершина всего Гете, и Вы убедились бы, вчитавшись в него, – как я, благодаря только труду перевода, в него вчитался, – что там йоты нет лишней, и что прежде, при поверхностном, хотя и многократном чтении, мне казалось излишним, несущественным, – теперь явилось органически целым».
Фет в своих статьях неоднократно отстаивал принцип буквального воспроизведения текста и внешней формы оригинала, даже если для этого возникала необходимость в некотором искажении русских слов. Он говорил: «В своих переводах я постоянно смотрю на себя как на ковер, по которому в новый язык въезжает триумфальная колесница оригинала, который я улучшать – ни-ни».
Из множества переводов «Фауста», появившихся в ХХ веке, стали популярными только два.
Николай Иванович Холодковский (1858–1921) – зоолог, член-корреспондент Петербургской Академии наук, один из основоположников лесной энтомологии в России. За перевод «Фауста» Гете 19 сентября 1917 года был удостоен Пушкинской премии Российской Академии наук. В последние два десятилетия этот довольно близкий к оригиналу и обладающий литературными достоинствами перевод часто переиздается.
Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) – поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. Его полный перевод «Фауста» впервые вышел в свет в 1953 году. В последующие несколько десятилетий трагедия Гете в СССР публиковалась исключительно в этом поэтическом, но весьма далеком от оригинала переводе.
Трагедия Иоганна Вольфганга Гете «Фауст» в переводе Афанасия Фета
Любезному племяннику Петру Ивановичу Борисову
Посвящается графине Софье Андреевне Толстой
С глубоким чувством признательности представляю на суд Ваш настоящую книгу. Нескольким тонким указаниям Вашим на красоты 2-й части «Фауста» и совету испытать над ним мои силы, – перевод обязан своим появлением. Стыдно признаться, что до последней беседы с Вами я читал 2-ю часть «Фауста», как обыкновенное произведение, без предварительной подготовки и потому, подобно другим, выносил чувство неудовлетворенного изумления. Читатель может останавливаться на непонимании, но переводчик вынужден понять свой оригинал. Итак, Вам же обязан я тем высоким духовным наслаждением, которое доставило мне изучение 2-й части «Фауста». Прилагаемое при переводе предисловие и объяснения могут быть по отношению к Вам только отчетом в моем труде, но намерение появиться с этим трудом в печати ставит мне такие приложения в обязанность. Поступить иначе значило бы чуть не преднамеренно вредить гениальному произведению в понятии публики, так как никакой перевод уже сам по себе не в силах заменить оригинала. Перед посторонним читателем я не только обязан был уяснить содержание текста, но и указать на единственную исходную точку, с которой критика может подступиться к этому произведению. И в этом случае я для Вас не сказал ничего нового. Эта точка давно указана могучим Шопенгауэром[3]. Я только вынужден был фактически прокладывать с нее критический путь к всеобъемлющему произведению Гете. В настоящую минуту и предисловие, и самый перевод с объяснениями перед Вами, и конечно от Вас не скроются все затруднения, с которыми пришлось бороться моим слабым силам.
«Feci quod potui, faciant meliora potentes»[4].
Предисловие
Трагедия «Фауст» и, в особенности, вторая часть ее не только для иностранца, но и для немца, воспитанного на этом народном предании, совершенно непонятна без окружающей ее сферы ученых толкований. Без них она является, за исключением совершенно ясных мест, каким-то набором мудреных слов и речений.
По отношению к художественному произведению, понимание называется критикой, и какой бы слабой ни явилась она с нашей стороны, самое положение дела вынуждает нас прибегнуть к ней, как к необходимому орудию.
При изумительной глубине понятий, выражаемых человеческим словом, этим чудным венцом мироздания, слово наше, в силу своего объема, подобно громадным кузнечным клещам, которыми непосредственно невозможно удержать мелкого часового винтика, каким является данный предмет, когда мы приступаем к серьезному его изучению. Это свойство слов наглядно указано Гегелем[5], и оно-то представляет такое удобное поле для софистики и всяческих лживых учений, приобретающих с тем большею легкостью общее право гражданства, чем менее рассчитывают на серьезный умственный труд своих адептов.
Слово «понять» одинаково может значить: ознакомиться с относительным положением или временным состоянием предмета, как и с основной его причиной и сущностью. То и другое понимание одинаково может быть названо критикой, хотя в первом случае главную роль играет наше непосредственное чувство, а во втором наш разум, которому одному свойственна область причинности. Всякий нормальный человек, пробуя щи, может находить их наваристыми или водянистыми, солеными или пресными, свежими или зловонными, но задача становится гораздо труднее, когда приходится указать на химическую причину всех этих явлений. Нам могут указать на то, что тончайший повар, помимо всякой критики начал, превосходно руководствуется одним непосредственным вкусом и преемственным опытом. Бесспорно. Но когда вспомним, что тот же повар, в угоду одному и тому же лицу, должен, с одной стороны, заведомо держаться русского вкуса в перепаренном курнике[6] и английского – в сыром ростбифе, то убеждаемся, что его тонкий вкус вполне относителен и частей. Когда же представим его себе готовящим для китайца или Лукулла[7], то увидим, что он, при всей тонкости вкуса, оказывается непригодным к делу. Между тем, не говоря об органическом мире вообще, все люди разборчивы в пище, и, несмотря на климатические и другие условия, отклоняющие вкус в ту или другую сторону, человеческий организм, несомненно, заявляет известные основные требования, неизменные как при удовлетворении голода глиной, по примеру некоторых дикарей, так и при трапезе людоеда. Спросите вашего Вателя[8] о неизменных пределах этих требований, и окажется, что он не знает ни их, ни их причин. На такой вопрос способен ответить разве величайший химик. Если подумаем, что главнейшая задача науки состоит в разъяснении именно того, что на первый взгляд кажется нам более понятным только вследствие того, что оно постоянно на наших глазах, то не станем удивляться, что наука не может считать простого факта своим достоянием, доколе не укажет ему подходящего места в общем своем здании, каково бы оно ни было в данную минуту. Такое сознательное указание места не есть пустое удовлетворение систематизации. Определением такого места впервые ясно и твердо обозначаются законные требования, с которыми можно обращаться к данному предмету. Только определив место лошади или дерева, мы знаем, что нельзя требовать от животного того, что свойственно одному растению и наоборот.
Хотя в высказываемых нами истинах нет ничего нового, и ясное указание той потребности духа, которой свободные искусства служат непосредственно удовлетворением, и совершено Шопенгауэром, но в эстетической области мы до сих пор не встречали критики, которая на практике из нее бы исходила. Такой практики, очевидно, требует Шопенгауэр, говоря о Винкельмане[9], коего субъективному вкусу изумляется: «Я убедился в истине, что можно обладать величайшей восприимчивостью и правильнейшим суждением в деле художественно-прекрасного, не будучи в состоянии дать отвлеченного и собственно философского отчета о сущности прекрасного и искусства; точно также, как можно быть очень благородным и добродетельным и обладать весьма чувствительной, с точностью аптекарских весов в отдельных случаях решающею совестью, все-таки не будучи в состоянии философски исследовать и in abstracto представить этическое значение действия».
Между тем, подобная философская критика получила в других областях такое полное право гражданства, что всякий другой прием показался бы детским и отсталым. Укажем только на чтения Макса Мюллера[10] о религии, в которых ученый автор, прежде чем приступить к религии Вед, указывает на самый источник религиозного чувства в природе человека, и только потом следит за дальнейшим ходом проявлений этой основной потребности.
Менее всего находим мы удобным полемизировать с кем бы то ни было; но имея в виду постановку дела на единственно твердое основание, мы вынуждены указать на деятельность того, кого недаром считают основателем русской эстетической критики. Несомненная заслуга Белинского, обладавшего верным эстетическим вкусом, состоит в разрушении господствовавших у нас несостоятельных теорий псевдоклассицизма о подражании природе.
Но если, проследив критическую деятельность Белинского, мы спросим: что же поставил он положительным критериумом на место низверженного псевдоклассицизма, – то вынуждены ответить: ничего. Причин такого неудовлетворительного результата было много. Укажем на главнейшую. Как человек мыслящий, Белинский понимал, что в деле разумной критики необходимо примкнуть к основам той или другой философии, иначе всякий читатель с полным правом может противопоставлять свой личный вкус вкусу данного критика. Какими путями и в какой окраске доходило до Белинского охватившее нас в то время, гегелианство, – все равно. Дело в том, что по идеалистическому содержанию своего учения Гегель менее всякого другого способен служить основой реальной критики.
По Гегелю всякая действительность есть лишь действительность понятия. Все существующее истинно и значительно лишь в силу своей логичности, как разумно-мыслимое, или как объективное выражение чистого понятия на той или другой степени его внутреннего развития. На всякий предмет или явление должно смотреть лишь как на одно из звеньев в идеальной цепи саморазвивающегося понятия. Истинное значение и внутренняя ценность принадлежит не самому предмету, а тому месту, которое он занимает в системе понятий, тем логическим рамкам, в которые его вдвигает чистое мышление; или, говоря языком самого Гегеля, всякий предмет имеет истину лишь как логический момент. Без сомнения, искусство, как и все другое, имеет свои логические рамки, и не только искусство вообще, но и всякий частный род искусства – поэзия в различных своих видах, музыка и т. д., и, наконец, каждое образцовое произведение художества – Олимпийский Зевс, Король Лир, Дон Жуан – все продукты многовекового художественного творчества могут быть уловлены сетью гегелевской диалектики, но только для того, чтобы свободно пройти через широкие петли логических категорий в открытое море действительной жизни и поэзии, оставляя в руках умозрительного философа все ту же пустую диалектическую сеть.
Говоря без аллегорий, философия искусства Гегеля не захватывает своего предмета в его собственном художественном содержании. Эта философия исходит из общей идеи; но такая идея именно как общая не имеет еще сама по себе никакого художественного значения. Вся художественность и красота произведения заключается не в самой идее, а в ее воплощении в виде индивидуального ощутительного образа. Между тем, такой образ, как частное явление, с логической точки зрения есть нечто несущественное и случайное и, согласно гегелевой философии, не имеет истины и безусловного значения, истина остается здесь за общей идеей, т. е. за тем, что само по себе не представляет ничего художественного и имеет лишь логическое, а не эстетическое значение. Таким образом, здесь красота и истина не совпадают, так что по Гегелю выходит, что в произведении искусства то, что истинно, – не художественно, а что художественно, – то не истинно.
Хотя эта философия и определяет красоту вообще как согласие или совпадение внутреннего содержания с внешней формой (сущности с явлениями), но так как под внутренней сущностью здесь разумеется только общая идея (логически мыслимое), то она никогда не может действительно совпасть с конкретным явлением, которое оказывается лишь преходящим моментом, так что красота на самом деле никогда не осуществляется. По выражению известного эстетика гегелевой школы Фишера[11], красота есть лишь отблеск (Schein) вечной и универсальной идеи на частном и преходящем явлении, которое может только отражать, но никак не выражать вечную истину. Область этой истины есть мир общих идей, а художество хочет уловить и показать ее в индивидуальных явлениях, т. е. там, где ее, в сущности, нет. Если красота есть призрак, то художество по-настоящему есть обман.
Такая философия искусства сводит к отрицанию искусства. Это легко видеть еще и с другой стороны. По Гегелю, художество, религия и наука (философия) суть три фазиса абсолютной идеи, или три способа, какими человеческий дух относится к абсолютной идее. Идея же эта сама по себе есть то, что безусловно-логически мыслится. Но такое мышление свойственно только науке (философии), которая поэтому и представляет единственно совершенный и окончательный способ деятельности человеческого духа; религия же и искусство, хотя и имеют в виду ту же самую абсолютную идею или истину, но, действуя не чистым мышлением, а фантазией, чувственным представлением и другими несоответственными способами, они не могут достигнуть настоящего обладания своим предметом, и в них наш дух оказывается, так сказать, не на высоте своего положения. Отсюда легко вывести, что если уже человеку открылась истина в своем безусловно-истинном виде, т. е. философском, то другие, менее истинные способы выражения той же истины, т. е. религия и искусство, становятся излишними и могут быть упразднены, все равно как человек, научившийся беглому чтению, не станет уже читать по складам. Известно, что так называемая левая сторона гегельянцев, исходя из начал своего учителя, пришла к полному отрицанию религии. Относительно искусства такое же заключение в грубо-карикатурном виде было выведено в России последователями Белинского, которые, впрочем, принижали художество уже не перед философией и наукой, а перед сапожным мастерством и мелочной торговлей.
Между тем, под руками у нас лежит всем доступное и совершенно ясное эстетическое учение Шопенгауэра, в котором не только указан естественный источник эстетического чувства, но и границы, которых по своей природе фактическое его проявление переступать не может и не должно, как в своей совокупности, так и в каждом отдельном своем роде.
Какой век не восхвалял самого себя? Но прислушавшись к общему говору, за исключением немногих голосов, невозможно не воскликнуть: да! мы живем в непонятное время. Не только в деле философии, но даже просто здравомыслия мы ничему не научились и все забыли. Если, подходя к известной теории и видя, что она не покрывает всех явлений своего горизонта, мы признаем ее несостоятельной, то поступим совершенно последовательно. Не так действует наше время. Оно отвергает теорию не вследствие ее несостоятельности перед фактами, а лишь потому, что те или другие факты, ею объяснимые, нам сами по себе почему-либо не нравятся. Если, например, распределение ценностей и капиталов по законам, коренящимся в природе человеческих обществ и подмеченных наукою, оказывается, наряду с другими естественными явлениями, с известной стороны неудовлетворительным, то такая неудовлетворительность относится у нас не к самому предмету, а к политической экономии как науке; точно наука в силах не только открывать и объяснять, несомненно, существующее, но и творить, что ей вздумается.
Совершенно однородные требования возникают беспрестанно и по отношению к эстетике, требования, кончающиеся упреками живописным яблокам в меньшей питательности по сравнению с настоящими. С этой точки живопись и вся эстетика, конечно, не выдерживают сравнения с лотками разносчиков, а о том, имеет ли критика право на подобные требования, никто не спрашивает. Действительно, становясь на беспочвенное основание личного вкуса, каждый вправе требовать того, что ему в данную минуту желательно, и нечего удивляться оглушительной разноглаголице, среди которой раздаются, между прочим, и такие соображения. «Искусством называется все от Гомера и Рафаэля до парикмахерского и поваренного дела. А как весьма трудно, если не невозможно, провести резкую черту между доброй, нравственно питательной и развратительной сторонами дела, то, во избежание зла, надо устранить самое дело, т. е. выкинуть искусство вообще из человеческой деятельности».
В таком походе на искусство не принимается в соображение, что ту же трудность разграничения добра и зла представляют все, как естественные, так и искусственные явления. Несомненно, что не менее трудно определить различие между здоровым воздухом и заключающим губительные поветрия; но исключать за это воздух вообще из органического питания – мысль крайне оригинальная. Такой ребяческий прием конечно изумителен из уст критики. Тем не менее, в нашей литературе он применяется к самым важнейшим философским вопросам. В одном из предисловий Шопенгауэр, конечно в шутку, просит недовольного читателя написать на его книгу рецензию. Автор, только предлагающий, а никому не навязывающий свою теорию, слишком хорошо знает, как трудно шаг за шагом опровергнуть его положения, взятые из сущности дела, а не с воздуха. Но по нашему ребяческому приему дело выходит чрезвычайно легко. Недавно пришлось нам читать петербургскую критику, в которой учение Шопенгауэра опровергалось тем, что в качестве пессимизма оно не нравится критику, который, по-видимому, так оптимистически весело смотрит с берегов Невы на мироздание. С точки зрения критика мы вполне согласны относительно непригодности Шопенгауэра. По асфальту великолепных улиц и набережных (crediteposted) бесшумно несутся экипажи на каучуковых колесах, железные дороги со всех концов мчат муку, быков и гастрономические редкости, государство на свой счет содержит зрелища и увеселительные заведения, а журналы, ежедневно рассыпающие пряности, растут как грибы. При таких условиях утруждать голову изучением какой-либо последовательной системы значило бы причинять себе зло и добровольно впадать в пессимизм. Да Бог с ним! Не короче ли, узнав, что это неприятный гость, оставить его за дверью? Пишущий эти строки, к сожалению, не находится в таком удобном положении. Взявшись объяснить текст перевода, мы вынуждены с ним знакомиться, указав на основание эстетических требований, – короче: познавать.
Когда возникает сомнительный спор о пригодности вещи, люди, во избежание голословных «да» и «нет», прибегают к свидетельству опыта или истории. Так поступим и мы, в предположении, что воображаемый оппонент, прогнав Шопенгауэра, лишил нас возможности ссылаться на его авторитет. Оглянемся же кругом. Может быть, и мы убедимся, что пессимизм только болезненное проявление в людях исключительных, которые потому и не могут быть нашими руководителями. Конечно нам тотчас же укажут на оптимистическое миросозерцание древних греков и римлян, как непрестанно указывалось на их демократически-республиканский дух. Но, к сожалению, мы не можем принять этих примеров ни в том, ни в другом смысле, так как у тех и других демократия являлась лишь в виде менее богатых граждан, под которыми стоял, как например, в крошечных Афинах целый 200-тысячный строй рабов, не имевших никаких прав. При таких условиях возможно упиваться и демократией и оптимизмом. Кроме того, греко-римский мир в настоящую минуту кидается нам в глаза памятниками своего искусства, которое, как мы далее увидим, составляет именно светлую, идеальную сторону жизни. Но когда мы и в античном мире присмотримся к людям серьезного миросозерцания, то, например, в Гераклите, Платоне или стоиках никак не можем признать оптимистов. Брамаизма и буддизма никто не сочтет оптимизмом. Пирамиды свидетельствуют о центре религиозных упований, перенесенном из реального мира в замогильный. Так что единственным историческим народом-оптимистом является еврейский, начинающий с того, что творец сам находит свое творение прекрасным. А между тем оказывается, что их оптимизм живет в кредит насчет мессии, который доставит народу то, чего у него в действительности не было и нет. Излишне говорить о христианстве, которого основное учение заключается в том, что мир во зле лежит, и что только личное участие Божества способно искупить это зло. Итак, куда бы мы ни оглянулись, мы ни в древнем, ни в новом мире не встречаем ни одного народа, ни одного серьезного мыслителя оптимиста, и Гоголь, воскликнув в конце «Ив. И. и Ив. Ник.»[12]: «Скучно на этом свете, господа!», только подтвердил мнения Когелета, Будды, Платона и Шопенгауэра, не говоря о других. «Нет ничего нового под солнцем».
Заручась такими всесветными авторитетами, мы, кажется, имеем некоторое право признать пессимизм за единственно ясновидящее учение.
Выше мы видели, что идеалистическое гегелианство, основываясь на идее, как чистом понятии, не могло представлять твердой почвы для реального искусства. Вследствие этого вся непрочная растительность диалектики и все тщательно возведенные ею постройки, отходя мало-помалу от наклонной скалы, служившей им основанием, целым пластом, как это бывает в Альпах, скатились на дно реалистической долины. Это, как мы видели, было совершенно последовательно. Стали требовать реализма, натурализма. Тут возникает новая беда для искусства. Являясь лишь подобием, односторонним снимком реальных предметов, оно окончательно уступает им со всех других сторон и конечно представляет ненужное повторение вещи в несовершенном виде. Вследствие этого оно просто, как мы уже сказали, отрицается.
Если же ни идеалистическое, ни материалистическое учение не указывают истинного источника искусства, ставя посторонний критерий к его пониманию, то, за неимением выбора, приходится обратиться к учению, признающему, с одной стороны, полную реальность мира явлений, а с другой, при познании нравственной неудовлетворительности и тяготы этого мира, указывающему на нечто другое, скрывающееся под этой видимой оболочкой и обусловливающее явления, ни с идеальной, ни с реальной стороны отдельно не объяснимые.
Не будем задаваться мудреным вопросом, почему природа в целях сохранения родов и видов избрала форму орудием их охранения и сближения, а укажем на факт, что белую куропатку и зайца трудно летом отличить от комка земли или желтого моха, а зимой от снега, и что ко времени весенних ухаживаний брови тетерева становятся ярко красными, а павлин играет на солнце своим изумрудным хвостом, который в остальное время года представляет для него обузу. Несомненная связь всемирной красоты с самосохранением природы с достаточной ясностью указана Дарвином[13]. Этот, так сказать, инстинктивный факт, представляющий лишь грубый материал будущего искусства, еще с большей силой заявляет себя в человеческом мире. На всех ступенях нравственного развития женщина употребляет известные приемы, могущие, по ее мнению, возвысить ее красоту, с целью возбуждения симпатии мужчины. Если бы женщины сказали, что украшают себя не для мужчин, а из желания видеть себя прекрасными, то нам не пришлось бы и доказывать желания красоты для красоты.
Итак, не только известные формы, но и красота этих форм, разлитая по всей природе, необходимы в ее целях. Спрашивается, какую же пользу, кроме общей со всеми другими организмами, извлекает человек из области красоты? Целый мир искусств свидетельствует о том, что человек, помимо всякой вещественной пользы, ищет в красоте на свою потребу чего-то другого. А что удовлетворяет требованию, – то полезно. Является вопрос: откуда возникает это исключительно человеческое требование, и какую находит оно пользу в мире красоты, в мире отрешенного свободного искусства?
Вглядываясь в потребность искусства, мы различим в духе человека могучий стимул страстных поисков в эту сторону. Если вспомним непрерывный ряд мучений, испытываемых человеком от колыбели до могилы, мучений, причиняемых не столько окружающей средой, сколько самоугрызающейся природой воли, вследствие которой человек становится собственным мучителем, то нам станут понятны все стремленья и попытки уйти от самого себя.
Дверей, за которыми, по словам Эпикура, мы достигаем безболезненного состояния богов и, по Шопенгауэру, «хоть на мгновение освобождены от назойливого напора воли, когда мы празднуем субботу каторжной работы желания, а колесо Иксиона[14] остановилось», таких дверей люди нашли только четверо: религию, искусство, науку и водку или опий. Неспособные уйти от самих себя в три первых двери неудержимо бегут в последнюю; и никак не вследствие материальной несостоятельности, как это обыкновенно объясняют, а лишь вследствие того, что они люди, т. е. собственные мучители. Здесь не место развивать нашу мысль по отношению ко всем приведенным исходам из самого себя. Обращаясь к нашему специальному исходу в искусство, мы невольно задаемся вопросом: почему же не всем вполне доступен этот исход? Можно с достоверностью предполагать, что предметы внешнего мира своею формой и иными проявлениями одинаково действуют на нормального человека. Почему же те же формы в одном случае возбуждают в нас восторг самозабвения, а в других оставляют нас равнодушными? Представим себе храмину, наполненную всякого рода предметами, совершенно ясно различаемыми при бледном освещении керосиновой лампочкой. Если бы вдруг, из-за отдернутой занавесы единственного огромного окна, яркий дневной свет, врываясь чрез разноцветные стекла, осветил все предметы, находящиеся в храмине, то можно ли бы удивляться, что предметы, в сущности, не изменившиеся, получили вдруг самый привлекательный вид, в силу озарившего их нового света?
Откуда проходит в грудь человека тот таинственный свет, который дает возможность художнику и, при его помощи, ценителю видеть будничные предметы в новом небывалом освещении, – тайна человеческой природы. Мы только указываем на факт, что без этого света ни свободное творчество, ни возбуждаемое им отрадное самозабвение невозможны.
Приступая к основному различию шопенгауэрова учения от всех других, на противоположных концах коих находятся полюсы идеализма и материализма, мы вынуждены извиниться перед читателем в том, что, по тесноте рамки, до известной степени заменяем аналитический прием синтетическим, прося, не придираясь к словам, идти навстречу нашей мысли, на которую мы только можем намекнуть. Желающих дойти до платоновских идей путем анализа прямо обращаем к сочинению Шопенгауэра, так как ни место, ни наши силы не позволяют заменить его слова нашими собственными. Подражая поневоле Мефистофелю, мы этим вручаем читателю волшебный ключ, при помощи которого он, под протекцией Персефоны (Шопенгауэра) может на свой риск углубляться к матерям (идеям). Даже если бы мы вздумали приступить к их конкретному изображению, то и тут у нас опустились бы руки ввиду их изображений в устах Мефистофеля и Фауста в конце первого акта. Мы решаемся только грубо указать на коренное различие уличной идеи, как понимал это слово кучер г. Гейне, от платоновской. Первая есть отвлеченное понятие, нигде в мире, кроме мозгов, не существующее, форма мышления, служащая подобно цифре только отвлеченным оправданием известных предметных отношений перед разумом, а вторая – платоновская, сама есть сущность и более действительная, чем предметы мира видимого, объективная основа и источник бесконечной цепи явлений. Первая вполне относительна, будучи обусловлена временными, климатическими и другими влияниями на мозг, – откуда такие противоречия в требованиях прекрасного. Вторая – неизменна, ибо живая идея звезды, кролика или пня не может измениться. Вот почему критика, основанная на идее (понятии), не находит, в сущности, иной опоры, кроме личного вкуса, как бы тонок он ни был, тогда как критика, основанная на идее – вещи, имеет твердую опору в приравнении данного произведения к его идее.
Рассмотрим вкратце обычные требования, с которыми обращаются к искусству: 1-е – соответствие идее, 2-е – верность природе, 3-е – поучительность. Если идея, как понятие, служит основой произведения, то, по самим способам искусства, она выражается не в форме отвлеченной сентенции, а в форме видимой, ничего с понятием общего не имеющей. Руководясь идеалистической критикой, мы вынуждены сами отгадывать основную идею или целую группу понятий художника. Но кто же ручается за то, что подставляемая нами группа понятий адекватна первобытным, руководившим художником? Шаткость такого подсовывания заявляет себя перед лицом всякого организма. Припомним бесконечное разнообразие идей – понятий, подсовываемых естественнонаучной или исторической критикой под предметы их изучения. Вычитывая искомую идею лишь из наличных фактов, они при всяком новом факте вынуждены составлять новый словарь. Поневоле приходится повторить слова Фауста:
лишь потому, что понятие, как достояние мозга, ни в чем ином существовать не может; тогда как платоновская идея – вещь необходимо проявляется в каждой особи, и задача искусства, вызывая в яркое освещение известную сторону явления, выставлять его идею более очевидным образом, чем она непосредственно раскрывается самой вещью. Верное подражание природе не составляет в этом случае главного средства к воспроизведению идеи. Последнее преимущественно зависит от помянутого привходящего освещения, как первого условия успеха. Выражение: «Каждый род хорош, кроме скучного» собственно значит: всякий предмет перестает быть бесплодным для искусства, когда озарен светом вдохновения. Попробуйте заговорить стихами о многом, о чем говорил Пушкин. Кто станет вас слушать? Самая преувеличенная карикатура, начерченная рукою мастера, может быть несравненно вернее идее оригинала, чем самый тщательный его фотограф. Сколько примеров тому, что тончайшие знатоки искусства, тщательно угадывая идею статуи с отбитыми членами, самым определенным образом указывали на мысль и повод ее зарождения, – и вдруг найденный не достававший член ее изменял все догадки, парализуя прежнее толкование. Несколько охотников, любуясь античным луврским кабаном, заслышавшим неприязненные звуки, могли бы, пожалуй, разыскивая в мраморе так называемые идеи художника, написать по интересной книге. Но в одном взгляде на кабана совмещаются все настоящие и будущие о нем суждения, и лишь потому, что художнику удалось вызвать из мрамора, так сказать, наикабаннейшего из всех кабанов.
Истина, как известно, является совпадением нашего представления или понятия с данным предметом. А как искусство есть воспроизведение нашего представления, а не самого понятия, то и истинность (реальность) искусства не есть безусловная верность будничной действительности. Мы видим красивую, вполне реальную руку; та же рука, совершенно измененная под микроскопом, никак не менее реальна, но, изваянная из мрамора, она преимущественно перед первыми двумя видами заслуживает название реальной, так как способна сохранить эту реальность тысячелетия, когда от первых не останется следа. До какой степени явления природы органической напрашиваются своею платоновской идеей, чувствовал уже Августин, говоря: «Растения предлагают нашим чувственным ощущениям различные свои формы, которыми так прекрасно видимое устройство этого мира, как бы желая, по-видимому, за невозможностью познавать, быть познаваемыми».
Сказанное утверждает нас в несомненной истине, что настоящий художник не задается первоначально какой-то отвлеченной идеей, для приискания ей соответственной формы, а что действительный прием творчества оказывается совершенно противоположным. Физический или умственный взор художника, падая случайно на известный предмет, при внезапном освещении последнего волшебным светом, провидит его вечную идею, и затем уже художник воспроизводит ее в пределах своего искусства. Этим объясняются и самые границы требований верности природе. Если мы эту верность станем понимать в смысле подражания, то она не выдержит ни малейшей критики. Можно ли в живописи – области двух измерений – подражать предметам трех измерений? Можно ли в неподвижной скульптуре подражать дышащим и движущимся организмам? И можно ли, наконец, мозаикой понятий, выражаемых отдельными словами, воспроизводить какое-либо нераздельное лицо или явление?
Если же от способа подражания мы перейдем к его сущности, то и тут легко заметим причину различия в понятии верности по отношению к миру действительности и к миру искусства. Припомнив, что художник представляет нам не сырой сколок с действительности, а ее отражение в его собственном волшебном фонаре, мы перестанем удивляться, что изображаемая им действительность нередко является действительностью только сна. Кто же имеет право возбранить спящему или мечтающему человеку видеть те или другие сны? Правило Горация[15] касательно несочетания разнородных членов в смешанное целое относится именно к тому, что перед художником не было определенной вещи, и он созерцание идеи ищет заменить механическим богатством форм. В противном случае поучение обращалось бы против самого Горация, у которого химеры, треглавый Цербер и всевозможные превращения на каждом шагу. Если так трудно уловить идею будничных образов, то какая сила творчества нужна для правдивого изображения фантастических явлений и превращений «Тысячи и одной ночи» или сказок Гофмана? Мы не хотим сказать, что художественная правда преимущественно состоит в неправде, а лишь, что независимо от будничной, она заключает в себе бóльшую внутреннюю истинность, чем первая. Искусство не изменяет себе, воспроизводя человеческие сны или народные фантазии, ибо и здесь имеет дело не с понятиями, а с образами; художественная правда и тут остается верной образу, а не естественным наукам. Напрасно анатомия стала бы указывать на невозможность крыльев у льва с женской головой, или от пояса книзу мраморного принца. Эдип и Шехерезада говорят противное, а у Пушкина мы любуемся даже шестикрылым серафимом, заимствованным у пророков. Утверждать противное значило бы отвергать целый ряд гениальных произведений. Не лучше ли отвергнуть теорию, неспособную покрывать в своем предмете столь широкого поля. Истинный художник, вызывающий посредством волшебного фонаря первообраз предмета, должен руководствоваться его сущностью, а не случайной действительностью, как бы бесспорна она ни была. Его задача способствовать нам вступить в волшебное освещение, восхищающее наш дух, бегущий от мучений относительно реального к возможно прекрасному. Вызывая в портрете основную идею лица, художник не станет изображать сангвиника в ту минуту, когда флюс придает ему вид лимфатика, зная, что такая верность природе будет ложью в искусстве. И ложь, и правда не бывают без основания. Иногда трудно познать это основание, а иногда оно, коренясь в непосредственном чувстве и инстинкте, ярко выступает пред познанием. Так, например, красота низкого женского лба с глубокой древности инстинктивно чувствуется самими женщинами, которые в последнее время окончательно завешивают его до бровей волосами. Не удивительно, что эгоизм заставляет женщину нравиться в качестве женщины, а мужчину в качестве мужчины. Средство женщины, – красота, средство мужчины – телесная и умственная сила. Хранилищем последней является череп, и чем он обширней, тем большая умственная рекомендация. Преувеличивая на портрете лоб женщины, вы льстите ей как человеку и принижаете ее как женщину, и она справедливо негодует. Вы подчеркиваете в вашем Христе еврея, плотника, странника на счет царя и Господа, которого требует идея, и отгоняете алчущего вознестись в безотносительное, в ту же тесноту, от которой он уповал уйти. Ваша будничная правда становится в искусстве клеветой. Ведь искусство – праздник жизни, и последовательные пессимисты, не признающие праздников вообще, начиная с улучшенной пищи или жилища, будут правы, отвергнув всякое свободное искусство.
Упомянув о свободе искусства, не можем умолчать о свойствах этой свободы, еще раз указывающих на коренное отличие уличной идеи от художественной. В мире искусства повторяется тайна человеческой жизни. Умопостигаемая воля человека свободна, но индивидуальный человек – раб своей эмпирической воли. Не в нашей власти выдумывать себе волю… И если совершенно справедливо сказать: воля человека свободна, но сам человек не свободен, то не менее справедливо сказать: искусство свободно, но художник раб своего искусства. Достаточно привести стихи из «Онегина»:
Ту же мысль приходилось нам слышать из уст самых могучих художников. Они не знали, что станут далее делать их герои и как выйдут из своего положения. Перейдем к поучительности. Поучение, в сущности, есть умственное сближение вполне по себе безразличных фактов с известным из него выводом. То и другое, будучи делом разума, никак не может заключаться во внешних фактах, способных быть лишь предметом бесконечных сближений и поучений. Так Парижская коммуна способна быть для одних поучением, как сжигать петролеумом дома и истреблять памятники истории и искусства, а для других, как избежать причин таких действий. Отрицать у искусства такого рода поучительность значило бы выдвигать его из области действительности, т. е. не признавать его существования. Для основателя буддизма, принца Шакьямуни[16] случайная встреча с погребальной процессией была до того поучительна, что заставила его покинуть царский блеск для пустынножительства и проповеди. Но возможность поучения все-таки заключалась в нем, и нельзя утверждать, что появление смерти имеет целью научить одного Шакьямуни, так как обычно оно никого не поучает. Конечно, в ряду действительных явлений искусство по преимуществу поучительно уже потому, что сокращает нам наполовину доступ к идее предмета, озаряя его волшебным своим светом. Поэтому группа деревьев, которым художник, в смысле Августина, помог высказаться, гораздо поучительнее той же группы, не освещенной волшебным светом. Но, помимо главной цели, искусство при беспредельном своем запасе, невзирая на строгость своих границ, может нападать на содержание, имеющее внешнюю форму поучительности. С богатой мантии художника могут между прочими самоцветами спадать и алмазы поучений, в назидание желающим поднимать их; но превращать такие явления в цель искусства – то же, что утверждать, будто целью «Илиады» было научить греков энергически ругаться с противником. Психолог, политик, юноша, вступающий в жизнь, молодая девушка, актер и т. д. могут действительно найти в «Гамлете» драгоценные поучения, но не можем согласиться, что драма ставила их конечной целью.