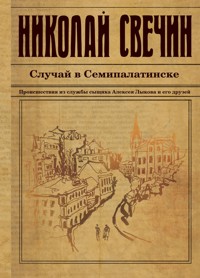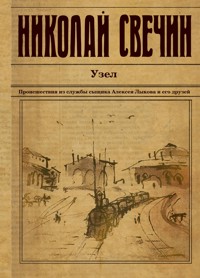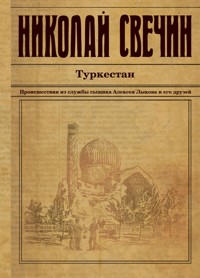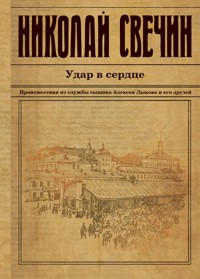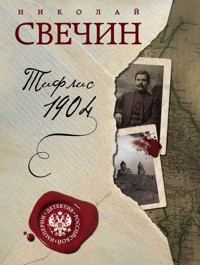Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Krimi
- Serie: Алексей Лыков
- Sprache: Russisch
Москва 1812 года. Дворянин Петр Ахлестышев обвинен в убийстве, которого не совершал. Князю Шехонскому удается подкупить полицию, чтобы устранить нежелательного конкурента и жениться на возлюбленной Ахлестышева – Ольге Барыковой. Потеряв не только титул, но и свою невесту, Петр ждет отправки по этапу. Но неожиданно в его жизнь вмешивается война. Ахлестышеву вместе со своим сокамерником удается бежать. Волей судьбы в охваченной пожаром и грабежами Москве он встречает Ольгу, и в одну секунду все меняется для беглого каторжника…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Оглавление
Николай Свечин
Московский апокалипсис
• 1 • Побег
2 сентября 1812 года[1] арестант Петр Ахлестышев проснулся рано. Свет в зарешеченном окне едва брезжил. Остальные узники еще спали. В камеру, рассчитанную на двенадцать человек, набили почти тридцать. Люди лежали под нарами, на полу в проходе и даже возле порога. Вчера прошел слух, что армия отступает и Наполеон вот-вот придет в Москву. Губернский тюремный замок — известная Бутырка — был переполнен. В него свозили арестантов из других городских тюрем, а также из западных губерний, захваченных уже неприятелем. Опытные колодники разнюхали, что всех сидельцев Бутырки пешим ходом отправят не то в Рязань, не то в Нижний Новгород. Люди были возбуждены этими слухами; камера едва уснула под утро.
Ахлестышев тоже переживал. Неделя, как ему зачитали приговор и заковали в ножные кандалы. Столбовой дворянин, бывший геттингенский студент, небогатый помещик и сибарит — а теперь каторжник. Отверженный, вышвырнутый из общества и помещенный к отбросам. Шпагу над головой в суматохе сломать еще не успели[2], не обрили голову и не наложили на лицо клейм — ну так сделают это в Нижнем. Неужели все? Так и помереть на этом зловонном дне? Или война вдруг перепишет судебные приговоры? Есть над чем подумать пропадающему человеку…
Арестант был молод — двадцати пяти лет от роду. Темноволосый, с короткой, начинающей отрастать бородой, он ничем не выделялся бы из толпы. Тонкое сложение при высоком росте выдавало бывшего барина. Глубокая складка между бровей указывала, что человек хлебнул лиха. Во всем остальном наружность Ахлестышева представлялась самой обыкновенной. Некогда холеное лицо выглядело сейчас вполне заурядно. Вот глаза были особенные — умные и сосредоточенные. Такие глаза встречаются у людей думающих и сильно чувствующих. И еще виделась в этих глазах потаенная, ставшая уже привычной тоска.
Неожиданно Петр поймал на себе чей-то взгляд. От порога на него смотрел вчерашний новенький. Под вечер в камеру привели двоих: его и неприятного надутого поляка. Рослый, русоволосый, с трехдневной щетиной на чистом лице, этот человек назвался в камере Василием Ивановым, клинским мещанином. Понимающие люди только хмыкнули. И манеры, и осанка выказывали в новичке бывшего офицера. Но если хочется его благородию называться мещанином — пусть. Видать, причины на то имеет… Однако уголовным новенькие — материал для жестоких забав, и Василия Иванова тут же взяли в оборот. Степка Дырявый, вор из свиты Лешака, не прождал и минуты. Подошел к «мещанину», дернул его неавантажно за рукав и потребовал:
— Ну-кось, покажи, что у тебя в карманах-то. И кафтан сымай, не по чину он тебе.
— Зачем это? — нахмурился новенький.
— А обычай таков. По всем тюрьмам эдак, и все подчиняются, никто не ропщет. Потому начнешь роптать — хужее станет.
— Какой еще обычай? Пошел к чертям, дрянь-человек!
— Обычай знатный, — усмехнулся Степка беззубым ртом (зубы выбили в драках). — Мы, фартовые, завсегда вас, чухлому, доить должны. Навроде как коров али коз. Так что зенками мне тута не крути, и шифтан[3] без разговоров скидавай, если бока твои тебе дороги. Говорю: обычай, по всем тюрьмам один. Попала собака в колесо: визжи, а бежи!
— По какому праву обычай? Ты сам его придумал, что ли?
— Э-эх… Талдычишь тебе, талдычишь, а не впрок. Последний раз разъясняю, потому вижу, что неученый. Слушай и запоминай. Мы — каторжная соль. А вы, которые сюда попали от сохи на время, у нас заместо прислуги. Захочу я тебя в порошок стереть — и не будет мне в том препятствий. Так, брат, тюрьма устроена. Вот. Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу. Выворачивай карманы, покудова мое величество не осерчало…
— Это я сейчас осерчаю, — ответил «мещанин», нимало не тушуясь. — Отец мой не кланялся и мне не велел. Пошел отсель, песья лодыга, со своими обычаями!
— Ба, да мы гордые! — спрыгнул с нары военный дезертир Точилов. — И видать, в карманах чего есть, раз отдавать не хочет. Подержи-ка его, Степка, а я обыщу.
Дырявый схватил упирающегося новичка за плечи, а Точилов достал маленький арестантский нож — жулик. Однако «мещанин» оказался не из пугливых. Ударом сапога в причинное место он опрокинул дезертира на пол, а Степку, изловчившись, сильно хватил спиной об печь. Озадаченные отпором, уголовные побежали в соседнюю камеру за подмогой и вскоре вернулись уже вчетвером.
— Вот, ребята, энтот вельзевул добро не дает, — указал на смельчака Дырявый. — Тих, да лих! Надо его на куски порвать. Наука чтоб.
Положение новичка сделалось безвыходным. Он прижался к стене, выставил кулаки, но с четверыми как совладать? И Ахлестышев, которому понравилась храбрость незнакомца, скомандовал из своего угла:
— Отошли от человека!
Уголовные недовольно оглянулись: откуда там защитник выискался? Только-только веселье начинается…
— Слышь, барин, — оскалил гнилые зубы один из жиганов, — ты бы не лез в чужую похмель. Неровен час что случится.
— А он не барин, его лишили! — радостно пояснил Точилов. — Теперя такой же каторжный, как и мы.
— Ну, значит, и спрос как со всех, — рассудительно пробурчал второй жиган. — Бери его в оборот, ребята!
Саша Батырь за спиной Ахлестышева приподнялся и тихо спросил:
— Пора?
Петр молча кивнул. Огромный детина спрыгнул с нары и подошел к уголовным. В камере сразу стало темно и тесно. Казалось, гигантская фигура Саши заполнила собой все свободное пространство. Драчуны тут же притихли… Батырь взял двух пришлых за грудки и просто выкинул наружу, словно котят. Потом ухватил зачинщиков, посмотрел на Ахлестышева:
— Петь, а с этими что делать? В парашку макнуть стервецов?
— Не надо, всю камеру завоняют. Поучи дураков, как на чужие карманы зариться. Только не калечь…
Получив по паре увесистых затрещин, вор с дезертиром убежали от греха подальше в коридор. А новенький поклонился своим заступникам и каждому церемонно сказал:
— Благодарю!
— Старайтесь не отходить от нас далеко, — посоветовал ему Петр и отвернулся к стене. После суда он почти не разговаривал и уж точно не хотел ни с кем заводить знакомств.
Вечер завершился без происшествий. Фартовые, получив трепку, вернулись лишь перед отбоем. Напуганные, они не стали трогать и поляка. Тот держался особняком, не представился соседям и вообще глядел волком. На ночь староста камеры велел ему располагаться возле параши, а смелого «мещанина» положил к порогу. Согласно арестантским законам, вновь прибывшие получают самые плохие места. Потом, по мере выслуги превращаясь в старожилов, они станут передвигаться с пола на нару и от двери к окну. Лучшие места в камере — у окна возле печи, сейчас их как раз занимали Ахлестышев и Саша Батырь. Василий Иванов, или как его там, безропотно положил голову на порог и скоро уснул. Вот молодец, подумал Петр, и храбр, и нервы в полном порядке, а тут…
Поймав теперь взгляд новичка от двери, он вдруг сообразил, что тому холодно и неуютно, и махнул приглашающе рукой:
— Перебирайтесь сюда.
«Мещанин», осторожно перешагивая через лежащих, приблизился. Ахлестышев подвинулся, освобождая ему место на нарах.
— Садитесь. Следующей ночью спать будете здесь. Если не угонят… Саша, конечно, медведь, зато не холодно. Поместимся как-нибудь.
— Спасибо.
— Не обижайтесь на меня, что я давеча отвернулся. Настроение ни к черту. В каторгу идти без греха… Ну да ладно. Давайте знакомиться: Ахлестышев Петр Серафимович. Лишен прав состояния и приговорен к двадцати годам каторжных работ за убийство отставного бригадира Повалишина с супругой и слугами. Чего я, разумеется, не совершал… Здесь каждый скажет вам, что он не убивал и не грабил, а сидит зазря. Но в моем случае это правда. А вы кто будете?
— Василий Иванович Иванов, клинский мещанин, — ответил новичок с едва заметной запинкой.
— Да неужели? — усмехнулся Петр. — А по-моему, вы офицер. И сюда помещены военным начальством. Видимо, вам поручено остаться в Москве, когда в нее придут французы.
— Для чего же?
— Чтобы вести разведку.
«Мещанин» покраснел и огляделся украдкой по сторонам — не слышит ли кто их разговора. Но все вокруг еще спали. Понизив голос до шепота, он произнес:
— Прошу вас никому не высказывать вашу догадку. Неужели это так заметно?
— Для того, кто умеет думать и наблюдать, — да.
Офицер помолчал, потом пояснил виновато:
— Все делалось в такой спешке… Никто не предполагал, что Москву отдадут. А что именно, позвольте узнать, меня выдало? Может быть, мне удастся это изменить…
— Вы теперь должны постоянно держать в голове ваши манеры. Не забывать о них ни на секунду. А выдают вас, во-первых, прямая спина и уставный шаг.
— Это я могу! Ссутулюсь и начну семенить ногами. А во-вторых что?
— Во-вторых, у вас повадка человека с чувством собственного достоинства. А у мещан это не очень принято.
Разведчик помолчал, обдумывая услышанное, потом сказал:
— Извините, Петр Серафимович, что я не могу назваться вам настоящим именем.
— Понимаю. Ну, пусть будет то, что вам присвоили.
— У французов всюду шпионы. Поляк, что пришел со мной, возможно, один из них. Паспорт у него фальшивый.
Ахлестышев повернулся к параше, прислушался.
— Кажется, спит по-настоящему.
— Дай бог… Вот еще что хочу сказать. Завтра… точнее, уже сегодня вас поведут этапом в Нижний…
— Говорили, что в Рязань.
— В Нижний. Всех арестантов Бутырского замка. Из долговой тюрьмы и рабочего дома велено отпустить, а серьезных приказано отослать из Москвы. Я же останусь здесь — обо мне сделано смотрителю секретное распоряжение. И… прошу меня простить, но сейчас я ничего не смогу для вас сделать. Война.
— Что вы имеете в виду?
— Пересмотр вашего дела. Не до этого сейчас начальству, а у меня задание, из которого и живой могу не вернуться. Но ежели вернусь, то обещаю…
Петр, не дослушав, перебил собеседника:
— Я от вас, милейший, и не жду ничего! Мне конец, дело решенное. Там так поработали, что ничего уж не переменить.
— Кто?
— Мои недруги. И улики подбросили, и самовидцев нашли. Все сходится так, будто это я дядюшку зарубил, чтобы наследство получить.
— Мне очень жаль. Не сомневаюсь, что вы говорите правду. Но сейчас война, понимаете?
— Конечно.
— Как только…
— Василий Иванович, или как вас там! — резко, уже второй раз, оборвал офицера Ахлестышев. — Вы словно оправдываетесь. Тут не ваша вина и не ваше дело. Оставим этот разговор!
— Ну хорошо, — примирительно сказал собеседник. — А кто тот силач, что давеча мне помог?
— Саша Батырь. Подстражный[4]. Из уголовных, в Волчьей долине кистенем промышлял. Но при этом приличный человек. Как говорят в народе: не из таких, чтобы грабить нагих. Бывший наш крепостной.
— Он при вас, кажется, навроде оруженосца?
— Саша мой товарищ, — серьезно ответил Ахлестышев. — Мы дружим с детства. Я, сколько себя помню, всегда с ним. Игры, рыбалки, озорство — все вместе делали. А когда он стал парнем, влюбился в старостину дочку. Фамилия его была на деревне уважаема, и Саша надеялся на положительный исход. Неожиданно староста его избранил, отказал и выгнал. А там чувства! Саша ночью полез к любимой в окошко, объясниться хотел. Видать, нашумел… Отец услыхал, разбудил двух сыновей, взяли они рычаги и ворвались. Состоялась драка. Вы вчера парня в деле видели и должны догадаться, чем кончилось.
— Побил?
— Как есть. Всех троих. Отцу голову зашиб сгоряча, а сыновей просто помял. Ну и… Папенька велел Сашу заковать и отдать не в очередь в рекруты.
— И вы ничего не могли, видимо, поделать…
— На коленях умолял! Но мне было сказано, что староста отменно ведет наше скромное хозяйство и благополучие семейства зависит от его усердия. Поэтому нанесший ему такую обиду должен быть наказан.
— Значит, Батырь — дезертир?
— Нет, забрить лоб ему не успели. Нам с Сашей тогда было по шестнадцати лет, и я не мог предать друга. Ночью залез через крышу в конюшню, где его держали. Сбил колодки, отдал все деньги, что у меня были скоплены, и благословил в дорогу… Беглеца искали и не нашли. А четыре месяца назад я угодил сюда. Пока шло следствие, содержался в Полицейской башне, в дворянской камере. Но как лишили меня прав состояния и перевели в общий корпус, тут и началось…
— Уголовные? То, что со мной вчера?
— Да. Здесь свои порядки. Бутырским тюремным замком правит «иван» по кличке Лешак. «Иваны» среди уголовных — высшая аристократия, навроде столбовых дворян. Они всем заправляют, и их приказы исполняются быстрее распоряжений смотрителя. Лешак же знаменитая личность, из самого цвета преступного сообщества. Весь в крови! Был на Волге атаманом разбойничьей шайки. Попался, приговорен к каторге на Иркутской суконной фабрике. Бежал. Три года гулял по Московской губернии, живых свидетелей старался не оставлять. Опять попался и находится теперь под следствием, которое ловко затягивает. Лешак жуткий тип, даже тюремная стража боится его как огня. А тут явился барин… Небитый, непуганый. Для уголовных это большое развлечение. Не знаю, что бы они со мной сделали, знаю, что сделал бы я, — удавился бы, не выдержав унижений. Но этого не случилось. Только лишь варнаки начали меня задирать, как из соседней камеры случайно появился Саша Батырь. Обнял друга так, что чуть скелет не сломал! Это был подарок судьбы… Благодаря Саше я еще жив.
— Один человек сдержал всю шайку Лешака?
— Драться с Батырем дураков нет. Были сначала, да быстро повывелись. Он запросто может отлупить десяток крепких мужиков! И никого не боится. А смелость в тюрьме самое главное.
— Понятно. Но почему вы не в цепях, если вас приговорили к каторге? И голова не обрита…
— Обрить пока не успели, а цепи навесили. Но Саша их снимает.
— Как снимает?
— Руками. Звено разгибает, и все! Дважды в день опять надевает, на утреннюю и вечернюю поверку. Там начальство ходит, следит… А днем на этаже только надзиратели, они молчат.
Постепенно за разговорами наступило утро. В коридоре послышались шаги, повернулся ключ в замке, и в дверь просунулась лохматая голова стражника:
— Подъем! Оправка! Через полчаса построение!
Арестанты, с трудом отходя ото сна, стали подыматься. Началось обычное тюремное утро. Дежурные потащили парашу, кто-то крестился (в каждой камере на стене есть икона), кто-то бранился. Ложный мещанин, следуя совету Ахлестышева, держался рядом с ним и его могучим приятелем. Втроем они сходили в отхожее, кое-как умылись из глиняного рукомойника: Батырь одним движением плеча раздвинул очередь желающих освежиться. Петр пояснил новичку, что без участия Саши воды на них не хватит.
Затем раздалось «На поверку!». Арестанты вытянулись в три шеренги на весь коридор. Ахлестышев с Сашей, в наспех подвешенных кандалах, заняли свои места. Старосты пересчитали по камерам, доложили старшему старосте, тот — коридорному надзирателю, последний — помощнику смотрителя. У всех получилось одно число — 627 человек. Смотритель все не шел. Толпа гудела вполголоса, обсуждая предстоящий этап.
— Вон, глядите, — Петр тронул соседа локтем. — В строю первой камеры высокий детина с седой бородой. Это и есть Лешак.
Офицер всмотрелся в «хозяина» Бутырки. Один глаз с бельмом, выражение второго очень уж нехорошее. Словно человек прикидывает, как бы ему половчее тебя удавить… Вокруг «ивана» толпилось до дюжины варнаков с отчаянными физиономиями — свита. Вели они себя развязно, но стражники их не одергивали.
Наконец прозвучала команда, и шеренги застыли. Быстро вошел смотритель замка, плешивый колченогий поручик. Крикнул от дверей:
— Трубочисты есть?
— Есть, — ответили из строя.
— Выходи!
Три человека выступили вперед.
— В распоряжение следственного пристава Яковлева!
«Мещанин» увидел, как у Ахлестышева вдруг самопроизвольно сжались кулаки, а по лицу пробежала судорога.
— Что случилось? — спросил он шепотом.
— Яковлев… — процедил Петр сквозь зубы. — Это он фабриковал мое дело…
— О нем идет молва как о большом мошеннике.
Ахлестышев молчал, с ненавистью глядя в угол. Там высокий господин лет тридцати, безвкусно одетый, что-то объяснял трубочистам. Потом отослал их движением руки и пошел вдоль строя. Поравнялся с Петром, остановился и злобно осклабился.
— Ахлестышев? Почему не в Сибири? И голова не обрита. Эй, поручик!
Подбежал смотритель тюрьмы.
— Так что, не успели пока, — пояснил он. — Палач захворал один, а второй запил. Ведь у меня таких семь сотен! Тут еще Бонапарт… Но в Нижнем Новгороде обязательно обреем и клейма наложим!
Пристав скривился:
— Под личную ответственность! И учтите: это опасный убивец. Самый строгий надзор! В Нижнем долго не держать, немедля услать в Нерчинск, о чем рапортом доложить московскому обер-полицмейстеру.
— Слушаюсь.
— Смотри у меня, каналья! — Яковлев погрозил Петру кулаком. — Ты на особой заметке!
И пошел дальше. Поравнялся с Лешаком, взял его за рукав и отвел к окну. Там сыщик и уголовный о чем-то долго разговаривали. «Мещанин» с удивлением заметил, что общались они весьма по-дружески. Лешак даже, смеясь, похлопал пристава по животу. Наконец Яковлев кивнул собеседнику и ушел. Лешак же вальяжно вернулся в строй и сказал своим что-то такое, отчего варнаки одобрительно загудели.
Поверка закончилась, и арестанты разошлись по камерам. Ахлестышев был бледен и задумчив. Он отвернулся от расспросов, лег на нары лицом вниз и долго молча лежал. Саша Батырь осторожно снял с него цепи. До двух часов пополудни никакой еды сидельцам не полагалось. Узнав об этом, офицер дал Саше двугривенный. Тот пошел к майданщику[5] и принес три кружки с подслащенным чаем и три большие булки. А еще новости.
— Слышь, Петр, — тронул он своего бывшего помещика за плечо, — Лешак, бают, в Москве остается.
— Как в Москве? — сразу же сел Ахлестышев. — Нас всех этапом, а он при французах квартировать?
— Ага. Яковлев так велел. Будто бы по приказу самого генерал-губернатора Москвы графа Ростопчина.
— Вот это любопытно. А с какой целью?
— Кто же скажет, — пожал могучими плечами налетчик. — Особый урок[6] у них, говорят. Секретный.
— Ха! Сейчас мы их секреты в два счета разгадаем. Трубочистов ведь тоже Яковлев увел?
— Он.
— А скажите-ка мне, господин клинский мещанин, — обратился Петр к разведчику, — для чего полиции в день бегства понадобились вдруг трубочисты? Печь где-то засорилась?
Тот подумал секунд тридцать, потом ахнул:
— Боже мой, неужели? Но ведь это же невозможно!
— Отнюдь! На Ростопчина очень даже похоже.
— Тщеславный безумец! Он же весь город спалит!
Батырь недоуменно слушал этот диалог и в конце концов рассердился.
— Эй, ваши благородия, так-растак! Объясните простому человеку, чего вы поняли!
Ахлестышев наклонился к приятелю и сказал вполголоса:
— Трубочисты, скорее всего, нужны для закладки в печи взрывных зарядов.
— Да ну! А пошто?
— Чтобы дома загорелись.
— Не могет быть!
— Могет, Сашка, еще как могет. Ты только представь: огромный город. Пустой. Власти все убежали. Дома стоят без прислуги, лавки без сторожей. И полиции нет.
— Ух ты! — впечатлился налетчик. — Меня бы туда!
— …Придут французы, среди них тоже полно всякого сброда. Такое начнется! И никто ни у кого отчета потом не потребует — война! А тут Лешак со своими людьми. Чуешь, чем пахнет? Полагаю, власти оставляют уголовных для диверсий.
— То-то этот гад бельмастый попользуется, — с завистью сказал Саша. — Уж он не растеряется, пограбит на совесть. Будет им диверсия!
— Кому, французам? — рассердился офицер. — Там вояки такие, что всю Европу в повиновение привели. А уж вашего Лешака… Это получится диверсия против мирных обывателей!
— А Ростопчину все равно, для него люди быдло, — пояснил Ахлестышев. — Лишь бы вышли беспорядки. Глядишь, и из французов кого зацепят. А так, конечно, своих обчистят. Сгорит полгорода, и множество людей погибнет, а графу — патриотический поступок!
— Петр Серафимович, я правильно понял вашу догадку? Ростопчин дал задание полицейским чиновникам устроить в Москве партизанскую войну. Руками уголовных. Так?
— Очень похоже, что так. А Яковлев, сволочь, под шумок и сам пограбит. В свободное от партизанской войны время. Имея в подручных Лешака и карт-бланш от правительства. Представляете, что будет?
— Петь… — нерешительно начал Батырь. — А как бы и нам тоже… в этой… как ее?
— В партизанской.
— Во! В партизанской войне поучаствовать. А? Такой случай! Заходи в любой дом и бери что хошь!
— Французы вот-вот явятся, недолго твое счастье продлится.
— А! Французы — пустяк; я их не трону, а они — меня. Москва большая, на всех хватит. Там такая суматоха! Васька Безносый сказал: драпает народ. Все заставы забиты. И баре, и дворня, и купцы с мещанами. Раненых страсть сколько в Москве оставили, так те пешком уходят, чуть не ползком. А пожарные еще вчера сбежали и трубы увезли.
— Трубы увезли? — поразился Ахлестышев. — Да… Я прав в своей догадке. Все, конец Москве!
— Негодяй! Ему лавры Нерона покоя не дают! — вскричал «клинский мещанин» так громко, что на них стали оглядываться. — Из-за амбиции погубить Первопрестольную! Мне надо срочно доложить об этом командованию!
— Военные раньше всех смылись, — «утешил» его Саша. — Наскрозь Москву прошли, обывательские повозки растолкали — и ходу. Только пятки сверкали!
Офицер смутился. Петр добил его окончательно:
— А вы сами-то, господин шпион, с какой целью тут оставлены? Почему вас просто не поселили на какой-нибудь квартире, в партикулярном платье? Зачем все эти сложности?
— Ну… Так решило начальство. Мне поручено смешаться с уголовными и вести наблюдение за обстановкой в городе. Среди обывателей французы будут подозревать наших агентов, а среди этого сброда предполагается, что не станут. У меня и бумаги с собою. Замешан в воровстве и прислан сюда из Клина на дознание.
— Это что же получается? — возмутился Саша Батырь. — Все здеся остаются, одни мы в этап идем? Не, я так не согласный!
— Успокойся, Саша, мы тоже задержимся, — ободрил силача Ахлестышев. — Зачем мне в Нижний плюхать? Чтобы меня там обрили и клейма на лице выжгли? Черта с два!
— Так ведь нас Яковлев не благословил. И секретного распоряжения, как вот про их благородие, тоже никто не сделал. Как же мы задержимся? Закуют по четверо в ряд, караул с боков и марш-марш! Или мы с этапа убегем? Примером, с ночевки?
— Бежать, Саня, надо в самую суматоху — тогда никакой караул не уследит. Семь сотен арестантов! Ты сиди пока тихо и слушайся меня во всем. Я скажу, когда пора настанет. А из замка выйдем да по Москве двинемся — тут и спроворим.
Налетчик довольно осклабился.
— Вот такой разговор мне по душе! За твоей головой, Петь, я как за каменной стеной; во всем слушаться обещаю! Ну, пойду, еще чего разнюхаю…
И ушел. А офицер, осмотревшись в очередной раз, сказал чуть слышно:
— Позвольте теперь, Петр Серафимович, представиться по-настоящему. Гвардейской артиллерии штабс-капитан Ельчанинов Егор Ипполитович.
Ахлестышев молча поклонился.
— Я слежу за вами со вчерашнего вечера и проникаюсь все большим уважением. Без лести: у вас аналитический склад ума и большая наблюдательность. Как быстро вы раскрыли мою маскировку! А выводы насчет трубочистов и шайки Лешака? Убежден, что и здесь вы не ошиблись. Поступайте под мою команду, а? Мне нужны толковые помощники — один в поле не воин. Ваше же содействие армии в столь трудный для нее момент будет оценено. И даст вам право обратиться к государю с просьбой о помиловании и возвращении прав состояния.
Кровь бросилась арестанту в лицо.
— Просить о помиловании? В чем? В том, чего я не совершал?
— Но ведь вы уже осуждены! Я говорю лишь о формальной стороне дела.
— Да, государство обошлось со мной, как с ветошью. Еще оно дало власть мошеннику Яковлеву и тому судье, что вынес облыжный приговор. Вы предлагаете мне теперь защищать такое государство?
— А вы не путайте государство с Отечеством. Идет война, тут не до личных счетов. Страшный враг напал на нас и завтра будет в Москве. Прольется много русской крови. Совесть вам ничего по этому поводу не подсказывает?
— Эх, штабс-капитан… — горько вздохнул Ахлестышев. — Какая может быть совесть у каторжного? Меня лишили ее вместе с дворянством. И знаете, за что? Всего лишь за любовь.
— На каторгу — за любовь? Вы что, действительно убили? Из ревности?
— Нет, никого я не убивал. История моя самая заурядная; не знаю, зачем я ее вам рассказываю. Но уж начал говорить, так слушайте.
Я безумно любил одну женщину. Впрочем, почему в прошедшем времени? Я и сейчас ее люблю. Ольга Барыкова… Как музыка… И она, представляете, отвечала мне взаимностью! Мы довольно быстро выяснили, что жить друг без друга не можем. Казалось бы, рай на земле! Ан нет.
— Вы имеете в виду Ольгу Владимировну Барыкову? Из миллионного рода?
— О! Вот вы сразу и догадались! — желчно воскликнул Петр. — Тоже имеете аналитический склад ума? Да, Ольга Владимировна из этого рода. Единственная наследница. Двадцать тысяч душ крепостных, чугунолитейные заводы… Мне-то до этого не было дела, я люблю Ольгу не за богатство. Но до него было дело князю Шехонскому.
— Шехонский? Которого выгнали из конногвардейцев за нечестную игру?
— Именно он.
— Встречал его в Петербурге: редкий проходимец.
— В самую точку сказано. Так вот, сей картежник решил поправить свои дела женитьбой. Чтобы было что спускать за зеленым столом, а то поиздержался… И начал осаждать дом Барыковых. А ему говорят: есть уже у барышни жених, Петр Ахлестышев. Небогатый, но из хорошей фамилии, и скоро свадьба! Я, так вышло, устраивал родителей Ольги. Капиталы мои их не интересовали, у самих денег куры не клюют. Зато привлекали родственники в столице: один — сенатор, другой — прокурор. А у Барыковых с их бесчисленными имениями всегда лежало в судах несколько тяжб, и они возлагали надежды на новое свойство[7]. Так что с помолвкой затруднений не возникло: наша любовь совпала с их расчетом. И чуть было мы не обвенчались, как вдруг Владимир Матвеевич, отец Ольги, скоропостижно скончался от удара. Понятно, свадьбу на год отложили: траур. Тут-то и началось. Шехонский нанял вот этого самого Яковлева, а тот привлек уголовных. Они все у него в кулаке и рады услужить… Интрига против меня развивалась скоротечно. Работали профессионалисты. А я ничего не подозревал… И лишь торопил календарь, чтобы скорее минул этот год. Наивный дурак! И вот однажды за мной пришли. Прямо туда, на Остоженку, в особняк Барыковых. Я ж там все дни проводил… И увезли, у Ольги на глазах. Я сначала думал — чья-то злая шутка. Потом — ошибка. Вот-вот разберутся, и я побегу опять к ней. А кончилось все лишением прав состояния и двадцатилетней каторгой. Матушкин брат, отставной бригадир Повалишин, был зарублен топором в собственной постели. С ним вместе убили его супругу и еще трех человек дворни. Все это исполнил Лешак, которого вы наблюдали утром…
— Лешак? «Хозяин» Бутырки? Но откуда это вам известно?
— Тюрьма все знает. Да «иван» и не скрывал, сам бахвалился. И потом, вы же видели, какая у них с Яковлевым дружба!
— То есть множество людей извещены, что вы не убийца, что вас обвинили ложно, — и молчат?
— Да. Но кому, кроме меня, есть до этого дело? А тут дали большие деньги, и колесо закрутилось. Сработали Яковлев с Лешаком чисто: и улики подготовили, и свидетелей. В той бойне «спасся» лишь лакей — и показал на меня! Все было как в кошмарном сне… Помню, когда я впервые услышал обвинение — рассмеялся. Это было в кабинете обер-полицмейстера Ивашкина. Стою, смеюсь, ушам своим не верю… Тут Яковлев погано так улыбается, достает из кармана платок, разворачивает и показывает. А в платке — тетушкино ожерелье из розового жемчуга. Найдено у меня в бюро, в присутствии понятых! Что я после этого мог доказать, скажите, что?
Ахлестышев в ярости хватил кулаком о стену, охнул и затряс отшибленной рукой. Потом, несколько успокоившись, продолжил:
— Они продумали до мелочей, и была круговая порука. Лакей Повалишина, мой камердинер — все были куплены. Камердинер потом удавился, или от него избавились как от опасного свидетеля. Было сказано, что я нуждался в деньгах для свадьбы, просил у дяди в долг, но тот отказал. И тогда я-де и зарубил старика, поскольку состоял наследником и знал смысл завещания. Знатная родня в столице, сенаторы с прокурорами, сразу отвернулась. Пальцем о палец никто не ударил! Матушка, как узнала об аресте и страшном обвинении, слегла. Она умирает сейчас в симбирской деревеньке, в тоске за сына. Когда ей сообщат о приговоре, это убьет ее окончательно. А Ольга… Ольгу взяли в крепкий оборот. Как только следствие посчитало мою вину доказанной, Шехонский явился на Остоженку. Торжественный и важный. Сообщил, что пришел спасти Ольгу Владимировну. Ее репутация погублена: она чуть не обвенчалась с убийцей. И неизвестно еще, до чего у нас с ней дошло… Но князь благородно не интересуется этим щекотливым вопросом и, так и быть, готов взять опозоренную барышню в жены. (А скандал действительно получился ужасный.) Я полагаю, на Ольгу был произведен серьезный натиск. Родственники стали заодно: или стыд на весь белый свет, или делайся княгиней. Чего, мол, тут выбирать? Выбор ясен. И… месяц назад они повенчались. А теперь скажите, Егор Ипполитович: до Отечества ли мне сейчас?
Ельчанинов сочувственно кивнул:
— Извините, я не знал ваших обстоятельств. То, что вы рассказали, — ужасно. Я не представляю, как вам помочь…
— Снова вы одно и то же! Никто не сможет мне помочь. Жизнь поломана безвозвратно. Но и в каторгу не пойду! Завтра мы с Сашей сбежим. В суматохе откроется момент, когда будет не до нас, — и зададим лататы, как выражаются люди моего нового круга… Там расстанемся. Саша пойдет грабить, а я — на Остоженку. Хоть подышу тем воздухом, которым дышала она… А потом исчезну. В Москве будет полный бедлам — беглый каторжник никого не заинтересует. Доберусь до Симбирска, повидаюсь с матушкой, если успею. Дальше пока не знаю. Может, подкараулю Шехонского и убью его, как собаку. Дуэль с ним для меня теперь невозможна — значит, прикончу без секундантов. Потом запишусь в полк солдатом под чужим именем. Хоть умру за Божье дело…
На этом беседа закончилась. Арестанты слонялись туда-сюда, этаж гудел, как растревоженный улей. Ельчанинов старался не выходить из камеры. Вчерашний поляк, наоборот, где-то постоянно пропадал. Он нашел нескольких соотечественников, и те, видимо, дали новичку защиту.
Неожиданно на пороге возник Саша Батырь и громко заявил:
— Скоро уходим! Сведения точные. Похарчимся и в поход!
Все сразу засуетились, начали собирать жалкий арестантский скарб. Прибежал майданщик, нанимать носильщиков для своих запасов. Штабс-капитан отправился разыскивать смотрителя — ему пора было освобождаться из тюремного замка. Вернулся он быстро и растерянный.
— Ничего не понимаю! Надзиратель отказался звать начальство и грубо меня прогнал. Вероятно, секретное распоряжение передали из острога в конвойную команду. Как станут выводить — разыщу его там.
Ахлестышев при этих словах лишь с сомнением покачал головой.
Вскоре выяснилось, что никакого обеда не будет. Старосты торопливо разносили по камерам сухари. Арестанты, взволнованные и угрюмые, сидели на котомках и ждали. Наконец прозвучала труба. Тюремные стражники встали в Сборном корпусе в две шеренги с саблями наголо. Сидельцы камера за камерой выходили мимо них на улицу. Перед Фланкированными башнями они выстраивались в одну длинную шеренгу. Вокруг редкой цепью с ружьями на изготовку рассыпались пехотные солдаты вперемешку с ратниками.
Ахлестышев радостно обратил на них внимание Саши Батыря:
— Смотри! Крестьянские парни, рекруты бестолковые. Какие из них караульщики? Настоящих-то солдат и трех десятков не наберется. Это команда из ополченского полка!
— Я сейчас объяснюсь и заберу вас с собой, — пообещал Ельчанинов и сделал шаг из строя. К нему со свирепым лицом кинулся седоусый унтер.
— Назад, мазура! Приклада захотел?
— Отставить! — рявкнул штабс-капитан так, что служака тут же вытянулся во фрунт. — Я офицер, с секретным заданием, — понизив голос, сказал ему Ельчанинов. — И эти двое со мной. Отведи меня к своему командиру.
Унтер взял под козырек и повел всех троих в голову шеренги. Там стоял затурканный подпоручик и сверял с помощником смотрителя списки арестантов.
— Подпоручик, — с особым армейским шиком сказал ему «мещанин». — Я гвардейской артиллерии штабс-капитан Ельчанинов. Оставлен в Москве с секретным поручением, и эти люди со мной.
— Так что же? — недоверчиво спросил подпоручик, морща низкий лоб.
— У вас должно быть распоряжение полковника Толя на мой счет. Прикажите немедленно отпустить меня и мою команду.
— Штабс-капитан? В таком виде? Верно, по ордонанской части?[8] Таких велено гнать в общей колонне. Вернитесь в строй!
— Вы не поняли. Слушайте внимательно, это важно. Секретное отношение за подписью генерал-квартирмейстера Первой Западной армии полковника Толя. Насчет штабс-капитана Ельчанинова. Проверьте списки!
Начальник конвоя взглянул вопросительно на помощника смотрителя. Тот развязно ответил:
— Я вижу, мошенники рассчитывают найти тут дураков… Никаких секретных распоряжений к нам не поступало.
Подпоручик мгновенно покрылся красными пятнами и заревел:
— Ах, ракальи! А я потом за вас отвечай? Бегом в строй, каторжные рожи!
— Но, подпоручик… — начал было объясняться Ельчанинов, но унтер крепко схватил его за ворот и потащил обратно в шеренгу.
Троица вернулась на место несолоно хлебавши. Штабс-капитан был ошарашен и подавлен.
— Как же так? Неужели распоряжение в суматохе затерялось?
— Скорее всего, его вообще не послали, — горько усмехнулся Петр. — Узнаю нашу армию! То-то Бонапарт в Москве, а не мы в Париже…
— Бог мой, они же сорвут задание! Теперь до самого Нижнего я останусь клинским мещанином, подозреваемым в воровстве!
— Успокойтесь, Егор Ипполитович. Положение ваше не безнадежное. Держитесь нас с Сашей, и очень скоро мы все будем на свободе. А пока взгляните-ка, что там творится. Чудны дела твои, Господи!
Действительно, возле начальника конвойной команды появился Лешак и с ним еще с десяток колодников. Из-под шапок у них выглядывали бритые на правой стороне головы. «Иван» стоял в уверенной позе и важно кивал, пока помощник смотрителя что-то объяснял подпоручику. Наконец тот махнул рукой, и вся шайка спокойно вышла за оцепление.
— На промысел отправились, — с завистью сказал Саша Батырь. — Эх, сукины дети, мне ничего не оставят!
— Москва большая, хватит и тебе, — успокоил налетчика Ахлестышев. — А сейчас сними-ка с нас железо. Только незаметно.
Батырь опустился на колени, легко оторвал цепи — свои и товарища — и бросил их в пыль.
— Теперь приготовились. Делай, как я. Дождемся, когда вдоль дороги появятся первые дома. Возле них неизбежно столпятся зеваки. Смешаемся с ними. Главное — не бежать, а идти спокойно.
Так и получилось. Длинная колонна медленно двинулась от Миюзской заставы к Садовой. Впереди на лошади ехал подпоручик. Петр внимательно рассматривал конвоиров. Неподалеку шел усатый солдат бывалой наружности и не сводил глаз с арестантов. Дальше парой шагали два тюремных надзирателя. А сзади, в хвосте, сбились в кучу несколько крестьянских парней с одним ружьем на всех. Эти больше глазели по сторонам, чем наблюдали за колодниками.
— Отстаем… — шепнул Ахлестышев. Он оперся на Сашу, стащил с ноги сапог и стал вытряхивать из него несуществующий камень. Арестанты обходили их группу стороной и шли дальше; вскоре троица оказалась в хвосте этапа.
Тем временем огороды кончились, и по обеим сторонам Новой слободы потянулись обывательские дома. Редкие прохожие стояли на тротуаре и разглядывали необычное шествие. Поравнявшись с первым же переулком, Петр не торопясь вышел из колонны. Саша Батырь и Ельчанинов тут же присоединились к нему. Постояв немного, все трое неспешной походкой двинулись в переулок.
— Эй, а вы куды? — раздался сзади крик, и к ним подбежал парень с ружьем. Держал он его, как вилы.
Батырь навис над рекрутом, словно гора.
— Тебе чего, дурень?
— Э… вы же тово…
— Чего того?
— Нельзя же!
— Нам можно.
— Меня же тово… накажут за вас!
Ахлестышев усмехнулся и похлопал парня по плечу:
— Война, брат! И не такое случается. Ты иди, а то отстанешь. Гля, как далеко ушли!
Рекрут обернулся — хвост колонны был от него уже саженях в сорока. Махнул рукой и побежал догонять, только лапти замелькали…
Пройдя переулок насквозь и свернув за угол, троица остановилась.
— Спасибо! — первым делом сказал Ельчанинов. — Не знаю, как бы я без вас вырвался.
— Не жалко! — хохотнул налетчик.
— Ну, давайте теперь прощаться, — торопливо вымолвил Петр. — Ты куда сейчас, махонький?
— К Мортире Макаровне.
— К какой мортире? — удивился штабс-капитан.
— Это Сашина подружка, — пояснил беглый каторжник. — Гулящая. Весит восемь пудов, потому и прозвище такое. Я видел ее на свидании в тюрьме — впечатляет!
— Она у меня дородная, — гордо подтвердил налетчик. — Страсть как свое ремесло любит! Огонь, не баба. В Волчьей долине живет. Спонадоблюсь — ищите меня там.
— Будешь портняжить с дубовой иглой?
— А то! Полиции нету — лови случай! Худое дело везде поспело. Ну, Петя, храни тебя Господь. Может, свидимся еще.
— Это навряд ли. Я сейчас на Остоженку и вечером же прочь из города. Пока тут столпотворение, удобно проскочить разъезды. Храни и тебя Бог, Саша, и спасибо тебе за все!
Друзья крепко обнялись, расцеловались, и Батырь быстро ушел.
— Прощайте и вы, Егор Ипполитович. Желаю вам уцелеть!
— Береги вас Бог, Петр Серафимович!
Дворяне — настоящий и бывший — пожали друг другу руки и разошлись.
• 2 • Первая кровь
Петр решил через Миюзский рынок пробраться на Тверские-Ямские улицы, по ним дойти до Триумфальной площади и уже по валам[9] спуститься на Остоженку. Первое, что его поразило по дороге, — это почти полное отсутствие людей. Миюзская площадь, обычно оживленная, оказалась совершенно пуста. Огромные лабазы лесоторговцев стояли с распахнутыми воротами, но вокруг бегали только собаки. Со злобным лаем они накинулись на Ахлестышева, и тот опрометью помчался от них прочь.
Первых людей беглый каторжник повстречал лишь на углу 3-й Ямской и Речкина переулка. Две телеги под охраной рослого мужика стояли возле богатого дома. На земле валялась выломанная калитка — видать, рвали лошадью. Через пролом туда-сюда сновали четверо, по виду подмосковные крестьяне. Они выносили из дома охапками всякую рухлядь, наваливали в телеги и снова уходили внутрь. Все делалось сноровисто и быстро, груды вещей на телегах умножались. Не сразу Петр догадался, что наблюдает грабеж. Поравнявшись с телегами, он остановился было поглазеть, но караульщик тут же шагнул к нему, замахнувшись кнутом:
— Проваливай, покуда цел!
И Ахлестышев опять припустил бегом. Еще около двух домов по улице он застал такие же сцены. И во всех случаях орудовали не воры и разбойники, а обыкновенные мужики. Они словно стеснялись своего занятия: прятали лица, суетились, но грабежа не прекращали. Чудеса! Обычно робкие перед любым будочником, крестьяне вдруг нутром почуяли вседозволенность… Что-то будет дальше, с нарастающим беспокойством думал Петр.
Приближаясь к Большой Садовой, он издали услышал гул множества голосов. Подойдя, поразился. По улице в четыре ряда ехали на восток повозки и экипажи всех видов. Простые телеги соседствовали с элегантными ландо, тарантасами и колясками с гербами на дверцах. Плотный густой поток, сколько хватало глаз, тянулся к Сухаревке. Оттуда, видимо, люди расходились к заставам, стараясь быстрее вырваться из города. Поток еле-еле полз. Возницы нервничали и ругались, кто-то лез не в очередь и этим лишь замедлял движение. Вот две повозки сцепились дышлами, и кучера бросились в драку… Юркие верховые лавировали между экипажами. А по тротуарам такой же сплошной нескончаемой массой двигались пешеходы. Тут были и мамаши с детьми, и почтенные старцы, и дворовые обоего пола. Кто-то тащил скарб на себе, иной толкал доверху нагруженную тележку. Люди молчали или переговаривались вполголоса, бранились, толкались, мешали друг другу. На все лады злобно и затравленно склонялись имена Ростопчина и Кутузова. Рыдали грудные младенцы, охали бабы, несколько обывателей тащили за собой заморенных коров. И все это неисчислимое полчище, словно колонна лесных муравьев, ползло и ползло на восток.
Петр растерялся. Ему требовалось в противоположную сторону, но идти на Остоженку было положительно невозможно: людская река подхватит и унесет с собой, как песчинку. Тротуар весь захвачен беженцами, перебраться на другую сторону Садовой немыслимо. Обойти через Пресню? Но там сплошные заборы, которые уведут к выпасным лугам — до вечера проплутаешь.
Внезапно он увидел солдат. Шесть или семь человек в зеленых мундирах с красными воротниками стояли у ограды и разглядывали толпу. Некоторые из них были ранены: у кого перевязана рука, у кого голова. Петр хотел посочувствовать инвалидам, но не успел. Вдруг они вырвали из потока мужчину в добротном кафтане и принялись выворачивать его карманы! Жертва закричала, но никто из беженцев не замедлил шага. Люди вжали головы в плечи и отвернулись. Каждый старался быстрее проскочить мимо.
— Православные, помогите! — взывал обладатель кафтана, и тут случилось то, что бросило Петра в холодный пот. Долговязый мушкетер[10] без разговоров ударил мужчину прикладом по голове. Раздался хруст, и человек как подкошенный рухнул на тротуар. Из пробитого черепа струилась черная кровь… Солдаты молча оттащили убитого к забору, обыскали с ног до головы. Сняли сапоги, верхнее платье, после чего бросили тело и принялись высматривать новую добычу. Один, рыжий, расхристанный, подошел к Ахлестышеву и взял его за грудки.
— Золото какое есть?
От убийцы крепко пахло водкой, глаза смотрели зло и властно.
— Откуда? — пробормотал Петр, весь сжавшись от ужаса. — Видишь — арестант я. Откуда у арестанта золото?
Рыжий еще некоторое время внимательно разглядывал Ахлестышева, потом сказал с угрозой:
— Какой ты на хрен арестант? Барина сразу видать! Ребята, дуй сюда! Тут барин колодником оделся. А пошто? Не полицейский ли сыщик, я думаю?
— А ты приколи ево, — посоветовал долговязый, только что убивший человека прикладом. — Свидетелев нам не надоть.
— А и то, — согласился рыжий и начал уже прилаживаться, как половчее ткнуть подозрительного барина штыком. Петр стоял ни жив ни мертв. Убежать не даст толпа; молить о пощаде бесполезно. Инвалиды грабили и убивали не сгоряча, а хладнокровно, со знанием дела. Такие самовидцев ни за что не оставят… Неужели его сейчас зарежут, как поросенка? Потому лишь, что некстати наблюдал расправу?
Вдруг кто-то сзади крепко прихватил Ахлестышева под руку и сказал знакомым басом:
— Отпусти-ка молодца со мной. Он взаправду арестант и вам не опасный.
Саша Батырь! Как вовремя!
Гигант отодвинул приятеля за спину и встал перед рыжим.
— Ну?
— А я сумлеваюсь! — злобно ответил тот. — Сыщика сразу видать! И не нукай — не…
Договорить он не успел. Налетчик шевельнул плечом, и рыжий полетел в толпу мародеров. Раздались крики, несколько солдат повалилось. Саша приставил артиллерийский палаш к шее долговязого и спросил с интересом:
— Кто тут мне еще нукать не велит?
Убийца медленно-медленно попятился назад, осторожно отвел клинок от горла и пробормотал:
— Нукай сколько хошь, мы не против. И парня забирай, мы и тута не против…
Батырь согласно кивнул, развернулся и пошел против потока. Позади него образовалась дорожка шириной в полтора аршина, в которую Петр тут же пристроился. Так они пробились до ближайшего переулка и свернули в него.
— Уф! — вытер пот беглый. — А вовремя я, однако!
— Саша! — обнял его Ахлестышев. — Как ты тут оказался?
— Как и ты — ногами пришел. А пока топал — сообразил: власти-то в городе нету. А без власти рядом с русским человеком опасно находиться. Когда же бегство это разглядел, совсем за тебя спугался. Тут полно раненых солдат, которых начальство бросило. Еще больше дезертиров. Злые! Много народу уже пограбили да перебили. Пьяные все… Ну и решил дожидаться товарища.
— Вот спасибо тебе! А палаш где добыл?
— У стрекулиста одного отобрал. Еще два пистолета есть. Возьми один себе.
— Сань! Я в человека выстрелить не сумею…
— Бери, бери! Пуганешь кого при надобности.
— Ну давай. В нынешней Москве вещь полезная, ты прав.
Петр сунул пистолет сзади за пояс, прикрыв арестантским бушлатом.
— Пойдем дальше пробиваться?
— Нет, — сказал налетчик. — Супротив течения даже я долго не совладаю. Давай перейдем на ту сторону. Внутри-то никого нет, все здесь драпают. По Малой Бронной добежим до Арбатской площади, а там и твоя Остоженка неподалеку.
— Саш, ты глянь, что делается! Как же мы перейдем?
— Возьми меня сзади за кушак, да покрепче. И не отпускай. Готов?
— Да.
Батырь шагнул на проезжую часть и схватил ближайшую лошадь под уздцы.
— Осади, маракузия! — рявкнул он кучеру. Кобылка, почувствовав сильную руку, стала. Тут же беглые протиснулись в следующий ряд. Поскольку все четыре ряда еле-еле ползли, им удалось без помех пролезть и в третий, но тут случилась заминка. Два вороных жеребца напирали грудью, и обойти их в тесноте было невозможно. Друзья оказались зажатыми с двух сторон. А тут еще и возница огрел Сашу кнутом.
— Куды прешь, каторжная рожа!
Батырь осерчал, уперся покрепче — и толкнул ближайшего жеребца под шею. Тот всхрапнул и повалился, ломая упряжь. Падая, он увлек за собой и соседа. Мгновенно образовался затор, весь ряд встал. Беглецы воспользовались этим и рывком перебрались на ту сторону. Не обращая внимания на брань, несущуюся им в спины, они забежали в Малую Бронную и опять очутились одни. Быстрым шагом друзья направились к Арбату. Ахлестышева не покидало чувство, что он застрял в кошмарном сне. Огромный пустой город! Нигде ни души, ставни заперты, и тихо, как в осеннем лесу… Бр-р! Когда в переулке открылась компания мародеров, он даже обрадовался: хоть кто-то есть еще! Но не обрадовались им. Пять мушкетеров и один щуплый улан вывалились навстречу и начали обступать их с боков. Физиономии у них были самого зловещего свойства. На этот раз среди грабителей не было ни одного раненого — только дезертиры.
— А ну не балуй! — вполголоса приказал Саша и вынул из-за пояса пистолет; Петр последовал его примеру. Солдаты замешкались.
— Цыц! — так же спокойно добавил налетчик. И дезертиры, не решившись напасть, убрались назад в переулок.
— Ты вот что, — начал Батырь, — ты на свою Остоженку сильно торопишься? Там уж, поди, нету никого, и дом заколочен.
— Конечно, они уехали, но я не с ними встречаться иду. Просто хочу напоследок поглядеть… Там жила Ольга, понимаешь? Еще совсем недавно. Мне надо-то несколько минут. А что?
— Да боюсь я тебя одного пускать. Вишь, что творится? Давай вместе ходить. Только я хочу воперед на французов поглядеть, каковы они. Опосля провожу тебя на твою Остоженку, а оттуда двинем к Мортире Макаровне. Ну а стемнеет — проберемся за Семеновскую заставу, там уж и простимся.
— Где же ты собираешься глядеть на французов?
— Баяли, они в Дорогомилове со вчерашнего дня. Оттуда им по Смоленской и Арбату прямая дорога в Кремль. Поглазеем чуток и к Барыковым твоим пойдем.
— А давай! — согласился Петр. — Это ж история творится на наших с тобой глазах. Двести лет не было в Москве вражеского войска! Мы — очевидцы, будет что потомкам рассказать.
— До потомков еще дожить надо, — озабоченно возразил налетчик. — Во, гляди, опять кого-то несет. Придвинься ближе ко мне!
Из-за угла на них вышел худой долговязый человек, неряшливо одетый, с безумными глазами. Не глядя по сторонам, он мерил шагами мостовую и что-то бормотал под нос.
— С колеи съехал, — проводил его взглядом Батырь. — Слух был, что безумцев Ростопчин тоже велел выпустить, даже буйных. То-то веселье начнется…
Путешествие по пустому городу продолжалось. Фантасмагория какая-то! Ни людей, ни собак, ни даже голубей не было на улицах Москвы. Кое-где зияли проломами вместо дверей лавки, и на тротуарах перед ними валялись разбросанные вещи. Иногда за воротами как будто кто-то шевелился. То ли дворники подглядывали в щелку, то ли грабители ждали, пока прохожие уйдут…
Вдруг со стороны Арбатских ворот послышался ружейный залп. Беглые замерли. Кто это там воюет? Неужели они опоздали и французы уже в Белом городе? Над Крестовоздвиженским монастырем взмыло вверх неимоверное число галок. Стрельба между тем перешла врассыпную и стала удаляться в глубь Воздвиженки. Друзья послушали-послушали да и отправились прочь.
Широкий лощеный Арбат был так же безлюден. Зато вдали, на Смоленской площади, толпился народ.
— Прибавь шагу, а то всю гулянку пропустим, — оживился налетчик, и они почти побежали.
На площади обнаружилось полсотни каких-то странных людей. Они махали руками, матерились и явно собирались воевать. Один грозил ружьем без кремня, второй — казачьей пикой, некоторые потрясали топорами. Судя по физиономиям, все бойцы крепко выпили, и море им было по колено. Появление двух новеньких в арестантских бушлатах произвело впечатление.
— Во! И каторжные с нами! — обрадовался гнилозубый малый, по виду небогатый купец. — За Русь святую всем миром — ура!
— Давай! — подхватили вокруг. — За Русь, за нея, матушку! Щас вот токмо кабак разобьем и пойдем на антихриста!
— Ух, как я на них зол, — грозно, как ему казалось, пробубнил купчик. — Прям в клочья рвать буду!
Он махнул над головой латунным безменом и рыгнул.
— Что, Кутузов Бонапарту не побил, а ты сейчас побьешь? — поинтересовался налетчик.
— С нами Бог и святые угодники! Они даруют нам победу…
— Тьфу, дураки! Бежим дальше, Петя, бежим прямо к речке.
По Смоленской улице они помчались к набережной, и скоро им открылась величественная и жуткая картина. Дорогомиловский мост был разобран, но саперы навели по его остаткам понтонную переправу. Сверху, извиваясь огромной змеей, ползло неисчислимое войско. Словно гигантский дракон оседлал Поклонную гору и теперь тянулся, шипастый и страшный, к беззащитному городу. Сверкая броней, по четыре в ряд ехали кирасиры. Нескончаемой лентой маршировала пехота. Уланы ощетинились пиками, как лес в «Макбете». Драгуны и конная артиллерия, не дожидаясь очереди на мост, переходили Москва-реку вброд. Военные музыканты трубили в тысячи труб. Юркие адъютанты передавали распоряжения степенным генералам. Лучшая в мире армия неотвратимо надвигалась на Первопрестольную…[11]
Петр с трудом отвел глаза, повернулся к товарищу. Ошарашенный, разинув рот, тот молча глядел на невиданное зрелище. Даже его простая душа была потрясена.
— Смотри! — налетчик дернул друга за рукав. — Эх, зачем же это!
Первая шеренга пехотинцев ступила на мост. Неожиданно навстречу им бесстрашно выбежал седобородый мужик в полушубке, с вилами в руках. Он держал их наподобие штыка и явно искал, в кого вонзить орудие. Вот безумец наметил жертву — правофлангового тамбурмажора в расшитом галунами мундире. Видимо, из-за этих галунов мужик принял музыканта за генерала. Поравнявшись с французом, он перекрестился и сделал неумелый выпад. Тамбурмажор ловко от него уклонился, взял смельчака за плечи и одним сильным толчком сбросил с моста в реку. Мелькнул на поверхности тулуп и через секунду исчез…
— Ну, братское чувырло, я тебе это припомню! — погрозил издали кулаком Саша Батырь и едва не полез драться с тамбурмажором.
— Очумел? — схватил его за рукав Петр. — Наше дело теперь — охать да помалкивать. Бросила нас армия! Да и потом, что этому французу оставалось, когда на него с вилами налетели?
— Знамо что: по шее настучать да отпустить! Он же пьяный в зюзю, не ведает, что творит! Убивать-то зачем?
Расправа на мосту, похоже, не понравилась и самим французам. И когда в начале Смоленской на них бросилось еще несколько смельчаков, их не закололи, а просто обезоружили. Развернули и дали хорошего пинка… Последние защитники Москвы тут же разбежались. Огромный поток захлестнул город и стал, дробясь на десятки ручейков, вливаться в берега московских улиц. Словно прорвало дамбу и Первопрестольную сейчас затопит по самые маковки…
— Пошли! — отвернулся от реки Саша и первый заторопился на Остоженку.
Через Смоленский и Зубовский валы приятели быстро добрались до места. Владение Барыковых занимало почти все пространство между 1-м и 2-м Ушаковскими переулками. Двухэтажный кирпичный особняк с пристроенными по бокам флигелями был украшен чугунным балконом хорошего литья. На пилонах ворот надписи: слева — «Дом тайного советника и кавалера Барыкова», справа — «Свободен от постоя». Особняк казался нетронутым. Ахлестышев с бьющимся сердцем дернул за шнурок звонка. Эх, давно он тут не был! Тогда, весной, здесь распивал чаи другой человек — свободный, ничего не боящийся, доверчивый.
Петр стоял и прислушивался. Изнутри, как и следовало ожидать, никто не отзывался. Саша прошелся вдоль фасада, потрогал калитку: тоже заперта.
— Ну, пошли; нету тут никого.
— Я хочу внутрь попасть.
— Зачем?
— Не знаю… Поглядеть еще раз, напоследок, как она здесь жила. На тахте ее посидеть, из ее окна в сад выглянуть. Понимаешь?
— Нет. Но пособить могу, ежели хочешь.
— Чем?
— Никогда не видал, как я дырбасы[12] отворяю? Ну смотри. И учись!
Батырь подошел к парадному, примерился и резко навалился на дверь плечом. Та подрожала немного под мощным напором и приоткрылась.
— Во! Засов своротил. Ай да я! Ну, чего ждешь? Иди на свою тахту!
Петр на секунду замешкался — неудобно подламывать чужой дом! Но сегодня был такой день, что дозволялось любое безобразие. Все равно или чернь, или французы скоро сделают это… И он вошел внутрь. Обширная передняя, богато украшенная лепниной, была ему хорошо знакома. Дубовые, обитые красным плюшем диваны. Бронзовая люстра на двенадцать свечей. И широкая мраморная лестница со статуями вакханок по бокам. Все без изменений. Когда-то ему тут приветливо улыбались, принимали шинель, вели наверх…