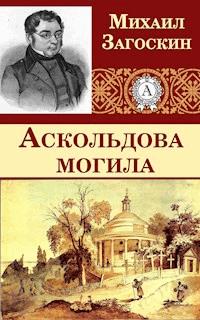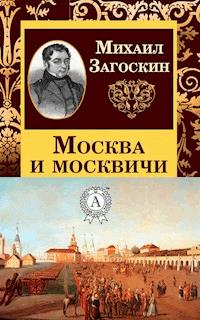
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
"Москва и москвичи» - произведение русского писателя и драматурга, основателя русского исторического романа М. Н. Загоскина (1789 – 1852). *** Эти этнографически-бытовые очерки, написанные в 1842-1850 гг., стали последним значительным художественным произведением автора. Всего их четыре выпуска. "Записки Богдана Ильича Бельского» - под таким псевдонимом скрылся знаменитый Загоскин. В предисловии он пишет: "Я изучал Москву с лишком тридцать лет и могу сказать, что она не город, не столица, а целый мир - разумеется, русский… в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии». "Москва и москвичи» - это живые и увлекательные очерки, рассказы, сценки "из домашней и общественной московской жизни», начиная с 1814 года и по 40-е XIX столетия. Перу Загоскина принадлежат и такие произведения: "Три жениха», "Два характера. Брат и сестра», "Брат и сестра», "Урок холостым, или наследники», "Благородный театр».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
М. Н. Загоскин
Москва и москвичи
«Москва и москвичи» — произведение русского писателя и драматурга, основателя русского исторического романа М. Н. Загоскина (1789–1852).***
Эти этнографически-бытовые очерки, написанные в 1842–1850 гг., стали последним значительным художественным произведением автора. Всего их четыре выпуска. «Записки Богдана Ильича Бельского» — под таким псевдонимом скрылся знаменитый Загоскин. В предисловии он пишет: «Я изучал Москву с лишком тридцать лет и могу сказать, что она не город, не столица, а целый мир — разумеется, русский… в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии». «Москва и москвичи» — это живые и увлекательные очерки, рассказы, сценки «из домашней и общественной московской жизни», начиная с 1814 года и по 40-е XIX столетия.
Перу Загоскина принадлежат и такие произведения: «Три жениха», «Два характера. Брат и сестра», «Брат и сестра», «Урок холостым, или наследники», «Благородный театр».
Выход первый
От издателя
Я не люблю читать предисловий, очень редко пишу их сам и всегда стараюсь, чтобы они были как можно короче; но на этот раз должен поневоле отступить от моего правила и начать эту книжку следующим предисловием, или, как говорилось в старину, кратким возглашением.
Любезнейшие читатели и почтеннейшие читательницы!
Хотя на заглавном листе этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ее Богдан Ильич Бельский, но, может быть, вы примете это за шутку. Чтобы уверить вас в противном, мне должно рассказать, по какому случаю я сделался издателем этих записок.
Месяца три тому назад, возвратясь домой после обыкновенной моей утренней прогулки, я нашел на своем письменном столе огромный запечатанный пакет без надписи; по словам моего человека, его принес незнакомый слуга, весьма опрятно одетый, но какой-то грубиян, потому что на все расспросы моего Андрея: кто он таков и от кого прислан — отвечал только: «Велено отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего доброго не предвещали. «Ахти, — вскричал я, — верно, какая-нибудь переводная мелодрама или комедия, переделанная на русские нравы! Да неужели я должен публиковать в газетах, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязан, по долгу службы, читать почти каждый день драматические произведения семинаристов, гимназистов и даже глубокомысленных московских гегелистов, из которых некоторые весьма усердно занимаются театром!» Я распечатал пакет: письмо на мое имя и кругом исписанная тетрадь; однако ж не драматическое сочинение, а записки какого-то Богдана Ильича Бельского. Прочтем, что он ко мне пишет.
«Милостивый государь» (я не прибавляю мой, потому что вы старее меня чином)».
«Ого, — подумал я, — да это какой-то старовер! Он еще держится правила: чин чина да почитает. Посмотрим, чего он от меня хочет».
«Я вас давно уже знаю; мне случалось иногда встречаться с вами в разных обществах; вероятно, и вы также меня знаете, но только под настоящим моим именем. Хотя принятое мною в этих записках прозвание Белъского могло бы по всей справедливости принадлежать мне как единственному и прямому наследнику этого знаменитого исторического имени, но я решился остаться при моем, весьма обыкновенном, которое ни разу не упоминается в русских летописях, следовательно, весьма прилично человеку с умеренным состоянием и вовсе не чиновному, потому что у нас, — да, я думаю, и везде, — для поддержания знаменитого имени необходимы или богатство, или чины. Ну, рассудите сами, какую жалкую роль играет человек с громким историческим именем, если он сам по себе ровно ничего не значит? Представьте, как смешно, или, лучше сказать, грустно, было бы видеть отставным коллежским регистратором Скопина-Шуйского или становым приставом какого-нибудь князя Пожарского! Но я, может быть, надоел вам моею болтовнёю, а мне нужно поговорить с вами об одном весьма важном для меня предмете. Вот в чем дело: я давно уже веду записки, — не о домашней моей жизни: в ней не было ничего особенно замечательного, — но о всем том, что касается до Москвы и ее жителей относительно к их частному, политическому и историческому быту. Я изучал Москву с лишком тридцать лет и могу сказать решительно, что она не город, не столица, а целый мир — разумеется, русский. В ней сосредоточивается вся внутренняя торговля России; в ней процветает наша ремесленная промышленность. Как тысячи солнечных лучей соединяются в одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, так точно в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии. Европейское просвещение Петербурга; не вовсе чуждое тщеславия хлебосольство наших великороссийских дворян; простодушное гостеприимство добрых сибиряков; ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и володимирцев; способность к письменным делам и необычайное уменье скрывать под простою и тяжелою наружностью ум самый сметливый и хитрый — наших, некогда воинственных, малороссиян; неуклюжество и тупость белорусцев; страсть к псовой охоте степных помещиков; щегольство богатых купцов отличными рысаками; безусловное обожание всего чужеземного наших русских европейцев и в то же время готовность их умереть за славу и честь своей родины; безотчетная ненависть ко всему заморскому наших запоздалых староверов, которые, несмотря на это, не могут прожить без немецкой мадамы или французского мусью; ученость и невежество, безвкусие и утонченная роскошь; одним словом, вы найдете в Москве сокращенье всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва сердцем. Москва — богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов. Может быть, во мне недостало уменья разработать как следует этот богатый рудник; впрочем, и то хорошо, если мне удалось открыть его и указать человеку более меня искусному, где должен он искать не одной руды, вовсе не походящей на металл, который в ней скрывается, но чистых самородков, не всегда золотых — это правда; но ведь золото везде редко, а томпак, семилёр и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдавать нам за пробное червонное золото, право, не стоят нашего простого железа… Да об этом после; дело состоит в том, что я решился напечатать мои записки.
Я человек не очень богатый, так прежде всего должен был подумать о том, во что мне обойдется издание этой книги, а для этого мне нужно было посоветоваться с человеком знающим и опытным. Вы, вероятно, слыхали о книгопродавце Иване Тихоновиче Корешкове; мы с ним люди знакомые, — я даже прошлого года крестил у него сына.
Чего ж лучше, подумал я, мой куманек тридцать лет занимается книжною торговлею, так уж, верно, сочтет мне по пальцам, что будут стоить бумага, печать, обертка, одним словом, всё; а может статься, и манускрипт у меня купит: это было бы всего лучше.
Лишь только я хотел послать за Иваном Тихоновичем, а он ко мне и в двери.
— А, любезный куманек! — вскричал я. — Милости просим! Очень кстати! Ведь у меня есть до тебя дельце.
— Рады служить, Богдан Ильич! Что прикажете? — сказал Корешков с низким поклоном.
— Садись-ка, любезный!.. Вот изволишь видеть: ты знаешь мои записки?
— Как же, батюшка, вы мне еще прошлого года читали из них разные этакие штучки, — очень интересно!
— Я хочу их напечатать.
— Ну что ж, сударь, с богом!
— Да вот что: я человек непривычный, до смерти боюсь всяких хлопот. Знаешь ли что, любезный? Купи у меня манускрипт в вечное и потомственное владение: я дешево продам.
— Нет, Богдан Ильич, — извините! Мы этим не занимаемся. Дело другое — на комиссию…
— Впрочем, — продолжал я с видом совершенного равнодушия, — для меня все равно: книга моя не залежится. Уже одно название этих записок разлакомит покупщиков:
«Москва и москвичи»!
— Да-с, названье бенефисное.
— А как ты думаешь, куманек: дорого мне будет стоить напечатать эту книгу?
— Да если всю, так не дешево-с.
— Как всю? Да разве можно будет печатать ее по частям?
— А почему же нет, Богдан Ильич? Ведь если я не ошибаюсь, так книга ваша, так сказать, отрывочная; то есть не то чтоб какой-нибудь романчик или история, а вот вроде тех, которые выдаются теперь в Петербурге: «Сто писателей», «Сказка за сказкою» и прочие другие. Вы не извольте только выставлять на заглавном листе: «Часть первая», а «Выход или выпуск первый».
— Да разве это не все равно?
— Помилуйте! Уж кто написал «Часть первая», так как будто бы обещает вторую часть непременно; а «Выпуск» что значит?… Будет, дескать, время, так выпущу другую; а нет, так не прогневайтесь!..
— А что ты думаешь? Ведь это правда.
— Как же, батюшка!.. Одну книжку напечатать не фигура, и можно дешевле пустить, так авось и поразберут; а там, если она понравится да пойдет, так и выпускайте себе вторую, третью — сколько душе вашей угодно.
— Спасибо, куманек, за добрый совет. Итак, решено: я буду выдавать мои записки отдельными книжками; их число и время их выходов будут совершенно зависеть от моей воли и от приема, который сделает им публика.
— Да-с! Только смею вас спросить: вы объявите свое имя?
— Нет, я хочу назваться в моих записках Бельским.
— А, понимаю-с! Это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим… как бишь они называются?
— Псевдонимы.
— Да-с, точно так-с. Только воля ваша, Богдан Ильич, напрасно-с: это не даст ходу вашей книжке.
— Так ты думаешь, что лучше выставить на заглавном листе мое настоящее имя?
— Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогневайтесь, батюшка, вы по книжному делу человек вовсе не известный. Вот если бы вы уж печатали да вас разика два похвалили в «Библиотеке», в «Сыне отечества», в «Северной пчеле» или в «Русском вестнике», так это бы другое дело, а то, хоть будьте вы человек распреумный, с большим талантом…
— Да что я; еще надобно?
— Имя, сударь, имя! Это всего нужнее в нашей книжной коммерции.
— Да где ж мне прикажешь его взять?…
— Вот то-то и дело! Не знакомы ли вы с каким-нибудь сочинителем, который в ходу, то есть которого все знают?… Попросите его…
— Что, что? — вскричал я, вскочив с моих вольтеровских кресел. — Да неужели ты думаешь, что я допущу кого бы то ни было называться сочинителем моих записок?
— Позвольте!.. — прервал Корешков, вставая также со своего стула.
— Чего тут позвольте! — продолжал я весьма неравнодушно. — Стану я из подлых барышей прибегать к таким средствам!.. Я трудился, писал и, надеюсь, не вовсе дурно, а кто-нибудь другой…
— Да выслушайте, Богдан Ильич…
— Полно, кум! Вы все, торгаши, на один покрой. Что такое для вас книга? Товар, и больше ничего. Для вас произведение высокого таланта, творческое создание гения и какой-нибудь новейший песенник — одно и то же…
— Нет, сударь, иногда песенник и лучше, если он ходчее идет. Да дело не в том. За что вы изволите гневаться? Ведь я хотел вам сказать: попросите какого-нибудь известного автора, чтоб он назвался не сочинителем, а издателем ваших записок…
— Какой вздор! Да разве имя издателя ручается за достоинство сочинения?
— А как же, сударь? Всякий скажет: «Видно, дескать, отличная книжка, если издает ее известный писатель».
— Ну, ну, хорошо! — сказал я, когда встревоженное мое самолюбие поуспокоилось. — Может быть, куманек, ты и дело говоришь. Да кого же я стану просить об этом?
— Мало ли, сударь, в Москве сочинителей. Да вот хоть не далеко идти: господин Загоскин… Не то чтоб он был какой-нибудь знаменитый писатель — нет! есть, батюшка, гораздо почище его, да ему как-то посчастливилось: выдал «Юрия Милославского», попал в народность да и пошел пописывать разные романчики; а там опера «Аскольдова могила»… Что за опера такая!.. Вы изволили ее видеть?
— Как же!.. И ты думаешь, что господин Загоскин согласится?…
— А почему знать? Попробуйте!..
— Я напишу к нему письмо.
— Да знаете ли, этак повежливее — польстите ему… «Позвольте, дескать, украсить вашим знаменитым именем…»
— Куманек, а не ты ли сейчас говорил?…
— И, батюшка, да разве вы не знаете, что ложь бывает иногда во спасение? Хвалите его на убой: ну что за дело? Бумага все терпит!..
— А если он подумает, что я над ним смеюсь?…
— Не подумает, батюшка!.. Знаем мы этих сочинителей! Иной ломается так, что не приведи господи!.. «Мы да мы!» — а что сделал? Водевильчик перевел или статейку напечатал в журнале… Я много с ними обращался, Богдан Ильич. Случалось иногда — по надобности — начнешь хвалить иного в глаза… русским Вальтером Скоттом назовешь… Верите ль богу, самому стыдно, — а он лишь только ухмыляется. Уж, видно, они все родом так, батюшка!
Вот вам, милостивый государь, слово от слова мой разговор с Иваном Тихоновичем Корешковым. Я не скрыл даже от вас, что он не слишком высокого мнения о вашем таланте. Из этого вы можете заключить, что я не в точности исполнил его совет, то есть не прибегал к лести, чтоб склонить вас быть издателем моих записок. Если вы на это не согласитесь, то я поневоле должен буду подумать, что мой кум лучше моего знает, чем можно угодить вообще всем писателям, и в особенности вам, милостивый государь.
С чувством истинного почтения честь имею остаться вашим покорнейшим слугою
Богдан Бельский».
Теперь вы видите, любезные читатели, в какое затруднительное положение поставил меня господин Бельский. Принять его предложение мне вовсе не хотелось, а не принять его я не смел: господин Бельский мог бы подумать, что я рассердился на его кума за то, что он не хочет признать меня знаменитым писателем. Конечно, это очень обидно; но вы понимаете, любезные читатели, что я ни в каком случае не могу показывать, до какой степени огорчает меня это мнение почтенного господина Корешкова, а для этого я должен был непременно согласиться на сделанное мне предложение. Но еще раз повторяю, что не намерен брать на себя чужих грехов и быть ответчиком за господина Бельского, с которым во многом я даже не согласен. Он говорит иногда слишком резко правду, а я этого терпеть не могу. Ну что за охота называть в глаза горбатого горбатым, кривого кривым? Ведь и того и другого исправит одна только могила, — так зачем же их и дразнить? Впрочем, я долгом считаю прибавить, что господин Бельский человек незлой; он только немного крутенек, подчас бывает слишком откровенен да любит иногда придержаться известного правила, что:
Вовсе не грешно
Над тем смеяться, что смешно.
I
Московский старожил
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
Грибоедов
Если б я писал роман, то, конечно, не имел бы никакой надобности знакомить с собою моих читателей, но в этих записках я говорю прямо от своего лица, описываю собственные мои действия, замечания и даже приключения, — следовательно, должен прежде всего сказать несколько слов о самом себе моим, надеюсь, снисходительным и, без всякого сомнения, многочисленным читателям. «Многочисленным!» — Да, милостивые государи, я в этом совершенно уверен, как и всякий начинающий писатель; разница только в том, что другие это думают про себя, а я говорю вслух. Без этой уверенности, которую не всегда могут поколебать даже и постоянные неудачи, никто не стал бы печатать своих сочинений. Поверьте мне: все эти ссылки на друзей, по настоятельной просьбе которых будто бы книга печатается, одно жеманное пустословие. Мы обыкновенно печатаем для всех и очень бы оскорбились, если б нас прочли одни только приятели.
Кто из москвичей не знает Пресненских прудов, но, может быть, не всякому случалось бывать по ту сторону этих прудов, в узких и кривых переулках, которые довольно круто подымаются в гору. В одном из них, недалеко от обсерватории, стоит на полугоре небольшой деревянный домик, осененный спереди несколькими кустами бузины и акаций. Из окон надворной стороны дома видна внизу, под самою горою, часть города, примыкающая к трем холмам, знаменитым во всей Москве своею трехгорной водою. Когда вы смотрите в окно, ваш взор, быстро пробежав по кровлям, невольно останавливается на обширном поемном лугу, по которому змеится наша изгибистая Москва-река: прямо за ней чернеются рощи Воробьевых гор, налево подымается колокольня Новодевичьего монастыря, а еще левее, как сквозь туман, мелькают кровли домов и кресты церквей отдаленного Замоскворечья. Этот вид везде бы назвали прекрасным, но в Москве уж, верно, никто не придет им полюбоваться. Мы, москвичи, избалованы прекрасными видами, мы встречаем их на каждом шагу и привыкли смотреть равнодушно на эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностранцев своею роскошною красотою и дивным разнообразием. Маловодная Москва-река и ничтожная речка Яуза вовсе не замечательны как реки, но зато какие у них живописные берега!
В этом-то уединенном домике я, Богдан Ильич Бельский, живу почти безвыездно с 1814 года, то есть двадцать восемь лет сряду. Я никогда не мог назваться богатым человеком, однако ж было время, что и у меня был каменный дом на Никитской, что и я не понимал, как может порядочный человек жить за Пресненскими прудами в каком-нибудь кривом переулке, в глуши, где каждый проезжающий экипаж обращает на себя всеобщее внимание. Я начал служить довольно рано и вышел в отставку ротмистром. В 1812 году вступил снова в службу; участвовал в Бородинском сражении, был в деле под Тарутином и едва остался жив после сражения под Малым Ярославцем, где разбитый неприятель должен был, к явной своей гибели, вместо сытной и привольной Калужской дороги продолжать свое отступление по Смоленской, совершенно опустошенной и своими и чужими. Я был так тяжело ранен, что пролежал без чувств почти целый день между убитыми, без всякого приюта и помощи. К счастию, зимние холода еще не наступали — несмотря на то, что побежденный неприятель бежал уже из России, совершенно разбитый и расстроенный. Это обстоятельство противоречит несколько мнению иностранцев, которые стараются доказать, что одна зима спасла Россию. Я имею большую веру ко всему тому, что пишут о нас чужеземцы, и в особенности уважаю известное всему миру беспристрастие французских писателей, но в этом случае не могу даже согласиться и с ними, потому что непременно бы замерз под Малым Ярославцем, если б французов победил и выгнал из России один только зимний холод. Вероятно, многие, подобно мне, имеют неограниченную веру ко всему, что пишут французы, а меж тем не были так же, как я, под Малым Ярославцем, то легко, может быть, иной подумает, что я из патриотизма, который он, без всякого сомнения, назовет квасным, говорю неправду; в таком случае я попрошу его прочесть, что пишет об этом наш знаменитый партизан Д.В. Давыдов. Он доказывает фактами и словами самих неприятелей, что первые и весьма легкие морозы начались спустя три дня после сражения под Малым Ярославцем, следовательно, французов гнал из России русский штык, а не русский мороз, который помогал только впоследствии нашим казакам истреблять отсталых солдат неприятельской армии, когда она уже не дралась и даже не отступала, а просто без оглядки бежала вон из России.
Уволенный за ранами в отставку с чином подполковника, я отправился прямо в Москву. Я знал, что она горела, но никак не воображал увидеть то, что увидел, когда подъехал к Дорогомиловской заставе!.. «Москва! — да где же она?» — спросил я с удивлением. «Вот, батюшка!» — отвечал ямщик, указывая перед собою. Представьте себе ребенка, который, расставшись на несколько дней с своею матерью, цветущею здоровьем и красотою, возвращается домой, спешит обнять ее, спрашивает, где его родная, — и ему, указывая на каменную плиту, отвечают: «Ты ищешь своей матери — вот она! под этим камнем». О, уверяю вас, этот ребенок не заплакал бы горчее того, как заплакал я, окинув испуганным взглядом эти беспредельные развалины… Развалины! Нет! под этим словом мы привыкли разуметь что-то величественное, прекрасное или, по крайней мере, живописное. Мы украшаем искусственными развалинами сады наши; а это огромное пепелище, которому не видно было и конца, эти безобразные кучи кирпичей и обгорелых бревен, которые, казалось, еще дымились; этот бесконечный лес из одиноких почерневших труб и кой-где закопченные дома без кровель с обвалившимися стенами… Развалины! Мы любуемся остатками языческого Рима; развалины Пальмиры или Бальбека, с целыми рядами гранитных колонн, обвитых плющом и диким виноградом, полуразрушенные портики, из-за которых весело подымаются высокие пальмы, — да это прелесть! Вид этих развалин не возмутит души вашей, не омрачит ее никаким грустным чувством; над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют. Вы смотрите на эти развалины как на древний могильный памятник, заросший травою; он нравится вам своею формою, возбуждает ваше любопытство, но, глядя на него, вы не думаете о смерти, вам не представляется труп человека, который вчера был жив, а сегодня спит непробудным сном… А Москва? О! Москва показалась мне свежей, еще не засыпанной могилою!.. Но что говорить об этом! Благодаря бога Москва стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, это правда, да зато подпалила крылья хищному орлу, который хотел забрать весь мир в свои когти.
Когда я доехал до Кудрина, сердце мое сильно забилось. «Что-то мой домик на Никитской? — думал я. — Почему знать, может быть, и уцелел?» Вот уж я проехал Никитские ворота — вон мой приход… Церковь цела, быть может, и мой дом… Нет, вот он, голубчик, без кровли!.. Вот венецианское окно, которым освещалась моя парадная гостиная… оно без рам… кругом все покрыто копотью… Эх, если б уцелел хоть нижний этаж, в котором я жил!.. Подъезжаю поближе… Гляжу — и что ж? Господи боже мой!.. Передняя стена дома в развалинах, почти все комнаты нижнего этажа раскрыты, как напоказ! Вот столовая с узорчатым лепным карнизом; вот диванная с двумя колоннами под мрамор, а вот… так точно, — мой кабинет… Праведное небо!.. Кабинет, в котором стены так искусно были расписаны моим домашним живописцем Степкою… в нем приютились извозчики!.. Он служит им биржею, и лошади их преспокойно кушают сенцо из моего камина… — «Разбойники! — закричал я. — Да знаете ли, что в этом кабинете бывали литературные вечера, что в нем читались творения русских поэтов, что один из них назвал даже этот кабинет московским Атенеем, — а вы сделали из него конюшню!..» Извозчики скинули шапки, выпучили на меня глаза, разинули рты, и когда я закричал неистовым голосом: «Вон отсюда!» — они кинулись к своим лошадям и начали их взнуздывать. Но горе меня одолело: я махнул рукой, велел ехать на постоялый двор и на другой день отправился в мою подмосковную. Хотя она была не близко от большой дороги, однако ж французы в нее завертывали; из двадцати изб осталось пять, и большая часть мужичков жила в землянках. На барском дворе уцелела как-то баня с предбанником. На первый случай я расположился в нем. Со мною было несколько денег; я, сколько мог, пособил крестьянам обзавестись всем необходимым, прожил в предбаннике целый год, продал две трети моего именья, чтоб привести в порядок дела и поправить остальных мужичков; потом променял мой сгоревший каменный дом на деревянный домик за Пресненскими прудами и переехал на житье в Москву.
Теперь, любезные читатели, когда уже вам известны все важнейшие приключения моей жизни, позвольте мне сказать несколько слов о самом себе. Изо всего предыдущего вам нетрудно заключить, что для меня наступила та грустная эпоха жизни, в которую нас перестают уже называть молодыми и даже зовут иногда стариками, но только еще не в глаза. Я не стал бы жеманиться и сказал бы вам прямо, сколько мне лет от роду, да боюсь огорчить моих ровесников, тем более что в числе их найдутся черноволосые молодцы, у которых в головах нет ни одной сединки и которые до сих пор еще смотрят такими губителями сердец, что упаси господи! Правда, и они не всегда скрывают свои лета. Вот один из этих господ, который уже лет тридцать восемь служит в офицерском чине, очень часто и даже при дамах горюет о своей прошедшей молодости, приговаривая: «Скоро уже, скоро стукнет мне сорок лет!» Но, однако ж, все-таки лучше поберечь их и не сказать вам ничего положительного о моих годах. Не знаю, должен ли говорить о своей наружности тот, кто в 1812 году был уж ротмистром; впрочем, почему ж и нет? Разве мы не любуемся прекрасными развалинами? Разве эти развалины — если бы только они могли говорить — не имели бы права сказать с гордостию: «Посмотрите, какой я был великолепный город!» Да, было время, что и меня называли прекрасным мужчиною; и теперь еще современницы мои, московские старушки, не шутя говорят, что я очень моложав и если б только побольше стягивался, красил волосы да одевался по моде, так мог бы еще, — этак в сумерки, — показаться весьма приятным мужчиною. Теперь мне осталось вам сказать одно, что я человек совершенно одинокий, близких родных у меня нет, а женат я никогда не был, — не потому, чтоб я не хотел жениться, да как-то все не случилось. Один знаменитый английский философ сравнивает холостого человека, который вступает в законный брак, с глупцом, опускающим руку в мешок, чтоб вытащить из него угря, который лежит один-одинехонек в этом мешке, с целой сотнею змей. Боже меня сохрани поверить этому грубияну! Нет, любезные читательницы, если я не женат, так на это есть совсем другие причины. Мне всегда хотелось, чтоб будущая моя супруга соединяла в себе несколько качеств, которые казались мне необходимыми для общего нашего счастия. Во-первых, я желал, чтоб моя жена принадлежала к тому же самому разряду общества, к которому и я принадлежу, то есть чтоб она была дворянкою; за этим, кажется, у нас дело не станет; во-вторых, чтоб она была женщина с образованием, — и это бы еще ничего: у нас хорошо воспитанных благородных девиц довольно; да вот что беда: я хотел, чтоб девица, которой я отдам мою руку, не походила ни на французскую мадемуазель, ни на немецкую фрейлен, ни на английскую мисс, а была бы просто образованная, просвещенная русская барышня, которая любила бы свое отечество, свой язык и даже свои обычаи. Вещь, кажется, самая простая: я хотел, чтоб русская барышня была русская; а вот тут-то именно и вышел грех! Уж я искал, искал!.. Сначала в Москве, — что за странность такая? Встречался я с девушками, очень любезными, милыми; посмотришь, иная по всему мне пара: я охотник до музыки — она большая музыкантша; я порядочный знаток в живописи — она от нее без памяти; я люблю словесность — она знает всех французских поэтов и выписывает в свой альбом целые страницы из «Новой Элоизы»; я страстен к истории — она читала Анахарсиса, Гиббона и даже Боссюэта. Все это прекрасно, да вот что худо: начну говорить по-русски — мне отвечают по-французски; заведу речь о русских художниках — и на розовых губках появляется такая презрительная улыбка, что я с досады готов сквозь землю провалиться. Наших родных писателей она знать не хочет, а об русской истории и не заикайся, — как раз назовет Владимира Мономаха святым, да и то потому только, что у папеньки ее Владимир на шее. Одна умирает от нашего климата и вздыхает об Италии; другая была уже в Париже, и все русское сделалось для нее противным; третья сбирается еще только в Париж, а уж к ней и приступу нет. «Постой, — подумал я, — дай поищу русскую барышню в провинции». Что ж вы думаете?… И там то же самое! Правда, случалось иногда, в каком-нибудь уездном городке, познакомиться с девушкой, которой и наружность мне понравится, и обычай придет по сердцу: с ног до головы русская. Хвалит все свое, любит в мороз прокатиться на лихой тройке, летом в горелки поиграть, об Святках золото хоронить и не только не жалует французов, а особливо Наполеона, но ругает их на чем свет стоит. Чего же, кажется, недостает? А вот чего: она, конечно, говорит со мною всегда по-русски; да это потому, что не знает никакого другого языка; не просится в Италию, да зато едва ли и слыхала, что есть на свете такая земля. Побеседуешь с ней раз, другой, а там и скучно. О чем ни заговоришь, все невпопад: заведешь речь об изящных художествах, она начнет посматривать то направо, то налево; перейдешь к словесности, она и ротик разинет да примется зевать, — очень мило, это правда, но ведь зевота вещь прилипчивая. Да и что это за барышня? Чем она отличается от своей горничной? Разве только тем, что носит декосовое, а не затрапезное платье? «Ах, боже мой, — думал я, — что ж это за неуловимое существо такое русская барышня?… Уж полно, есть ли на свете русская барышня?… Не миф ли это какой? Или уж правду говорит мой слуга Никифор: «У русского-де народа натура такая: немножко дай форсу, тотчас и зазнается». Вот, например, эта же самая девица, о которой была речь, получи она какое-нибудь образование, выучись болтать по-французски, умей только кстати сказать: «кесексе, киселя», так уже все русское будет ей нипочем. Ну, делать нечего, видно, пришлось сидеть у моря и ждать погоды.
Надобно вам сказать, что все это происходило лет двадцать пять тому назад. Я живу на своих Пресненских прудах хоть очень смирно, однако ж не вовсе отшельником: и у меня бывают люди, и я выезжаю в свет; посматриваю, замечаю, прислушиваюсь: худо, очень худо, все по-старому! Одна мода сменяет другую, а эта проклятая мода парижанить да вторить во всем французам словно корни пустила в русскую землю. Но что всего досаднее, с некоторого времени стали мне встречаться русские барыни с умом, с образованием, а меж тем чисто русские; следовательно, мой идеал русской барышни существует, да мне-то он, как клад, не дается, а время летит да летит. Вот наконец стал я замечать, что в нашем хорошем обществе начинают, гораздо чаще прежнего, похваливать и произведения русских художников, и стихи русских поэтов. Уж несколько раз удавалось мне слышать, что наши барыни и барышни разговаривают минут по пять сряду на русском языке. Жуковский, Батюшков, Пушкин лежат уже на дамских столиках рядышком с Ламартином, Виктором Гюго и Казимиром Делавинь. Прошло еще несколько лет, и в нашей словесности стала проявляться необычайная деятельность: начали писать не только стихами, но и прозою; рабское подражание иностранцам, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало, стали появляться сочинения совершенно русские, народные; любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества; одним словом, все предвещало, что эта безусловная страсть ко всему иностранному, это второе татарское иго скоро будет сброшено. У меня были еще и другие приметы, которые очень поддерживали эту надежду. Однажды, кажется на каком-то гулянье, осанистый русский купец шел вместе со своею дочкою, разодетою по последней моде. Около нее увивался франтик с козлиной бородкою, в коротком сюртуке и белой шляпе. Я вспомнил, что видал его в рядах за прилавком. Этот лев суровской линии изъяснялся с купеческой дочкою на французском диалекте и называл ее попеременно то мадемуазель, то Матреной Карповной; они начинали спорить, и Матрена Карповна отпустила нижеследующую фразу: «Финисе, финнсе, кель гонт! Уж вы и этого не знаете, что это не клёк, а бурнус… ах, ву!» Я готов был прыгать от радости, а особливо когда вскоре после этого узнал, что большая часть секретарских и купеческих дочек не только говорят по-французски и толкуют о Париже, но даже, потихоньку от своих стариков, без милосердия позорят матушку святую Русь. «Славно, — говорил я, потирая руки, — славно! Дело идет отлично хорошо! Видно, эта французская дурь выходит из моды, если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества». Вы можете представить после этого, в какой пришел я восторг, когда русские стихи и проза, обличающие не только истинный талант, но даже совершенное познание языка, начали появляться в печати за подписью дам, принадлежащих к лучшему нашему обществу. Однажды поутру, думая об этом, я сказал вслух:
— Ну, кажется, теперь пора, — теперь я найду для себя невесту!
— Что вы это, батюшка Богдан Ильич, бог с вами! — сказал мой Никифор, устанавливая против меня зеркало и бритвенный ящик. — Где уж нам с вами думать о невестах.
Я взглянул в зеркало, и руки у меня опустились.
— Честь имею вас поздравить, — прибавил этот злодей, — с днем вашего рожденья: вам сегодня ровно стукнуло…
— Знаю, братец, знаю! — прервал я с досадою.
— Да извольте, сударь, бриться, — сказал, помолчав, Никифор, — вода простынет. Волосы-то у вас больно жестки стали… с тех пор, как у вас борода поседела…
— Да отвяжись! — закричал я. — Ну, что ты пристал. Я не хочу бриться!
Я, чтоб доказать это, взял со стола басни Крылова, с которыми никогда не расстаюсь.
— Впрочем, — продолжал я вполголоса, разгибая книгу, — полно, не лучше ли, что я остался холостым? Все эти женщины такие капризные, своевольные создания, такие…
Я готов был произнести ужаснейшую клевету, готов был назвать женщин кокетками, как вдруг язык мой онемел. Представьте себе: книга раскрылась как будто бы нарочно на известной басне: «Лисица и Виноград». Ну, уж если б я меньше уважал и любил Ивана Андреевича Крылова, быть бы этой книге под столом!
Теперь вы знаете, любезные читатели, что я за человек, какого чина, каких лет, какая у меня наружность, почему я не женат и что делал прежде; а что делаю и чем занимаюсь теперь, вы также узнаете, если не поленитесь прочесть эту книжку.
II
Взгляд на Москву
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
А. Пушкин
У кого из нас нет любимой если не страсти, то, по крайней мере, маленькой страстишки или слабости, которую мы лелеем и тешим, как избалованное дитя? Один любит похвастаться своим домом, по милости которого у него все именье в закладе. Другой платит втридорога за какую-нибудь золотую табакерку величиною в сундук, из которой он никогда не будет нюхать, но которая ему необходима, потому что у него целая коллекция точно таких же уродливых и неуклюжих табакерок. Третий разоряется на рысаках, прославляющих его имя на бегу, а ездит сам на клячах, которые, по крайней мере, выполняют свое лошадиное назначение, то есть возят того, кто их кормит. Четвертый щеголяет необыкновенным покроем своих платьев и готов нарядиться шутом для того только, чтоб не походить на других. Пятый любит ездить по гостям, с утра до вечера таскается с визитами, а так как в Москве иного визита нельзя сделать без подставных лошадей, то он убивает последнюю копейку на то, чтоб держать лишнюю четверню и каждый год менять свой экипаж. Шестой не ездит в гости ни к кому, но зато не пропустит ни одного публичного собрания, ни одного гулянья, ни одного народного сходбища и, — даже трудно поверить, однако ж, это правда, — ни одних похорон. Вы встретите его везде, где только есть люди, для чего бы они ни собрались: веселиться или горевать — ему все равно. Этот жить не может без театра; не то, чтобы он очень любил театр, а потому что привык к своим абонированным креслам, потому что может сказать с гордостью: «Я сижу на них пятнадцать лет сряду!» Посадите его на другие, и он не станет узнавать актеров, не будет понимать, что они говорят, зачахнет, умрет со скуки. Тот любит каждый день приехать в Английский или Дворянский клуб, походить по комнатам, посидеть попеременно подле каждого карточного стола, посмотреть, как играют на биллиарде, вздремнуть в газетной комнате за «Инвалидом» и ехать в первом часу домой с усладительной надеждой, что завтрашний день пройдет для него так же приятно, как прошел этот настоящий и как, вероятно, прошли и все прочие дни его деятельной и полезной для общества жизни. Я думаю, нетрудно догадаться, что я говорю все это для того только, чтоб приготовить читателей к собственной моей исповеди. Что грех таить, и у меня также есть господствующая слабость: я люблю… показывать Москву, — да еще с каким кокетством, о какою сноровкою! О, в этом уменье выказать товар лицом я не уступлю не только самому бойкому гостинодворцу, но даже любой московской барыне, когда она в первый раз знакомит со светом свою милую Зеничку, Катишь или Мими, которая была бы очень завидная невеста, если б у нее не было четырех сестер и пяти братьев. Вы не можете себе представить, как я забочусь о том, чтобы показать Москву с самой выгодной для нее стороны; как стараюсь соблюдать эту необходимую постепенность, посредством которой возбуждается сначала внимание, потом любопытство, а там удивление и, наконец, полный восторг. Конечно, все это стоит мне больших хлопот; но зато как я бываю счастлив, когда достигну моей цели, с каким восхищением, с какою гордостию смотрю я на иноземца, пораженного красотою и величием моей Москвы. Да, моей!.. В эту минуту мне кажется, что Москва моя, что я сам Москва, что он удивляется мне! Вообще я показываю Москву охотнее иностранцам, чем своим. Если свой приехал из провинции, а особливо из Казани или Одессы, то он не слишком восхищается Москвою, во-первых, потому, чтобы не уронить своего собственного достоинства, а во-вторых, потому, чтоб не выказать себя провинциалом, который всему удивляется. Если же он приехал из Петербурга, то, рассудите сами, может ли он любоваться Москвою? Конечно, Москва называется столицею, она многолюднее Новгорода, побольше Твери, покрасивее Торжка, а все-таки провинциальный город. Правда, есть много исключений, не все так думают; но мне как-то чаще удавалось встречаться с людьми, которые весьма легко поговаривают о нашей Белокаменной и даже не верят, что мы в Москве ни дать ни взять, как они в Петербурге, пьем цельное шампанское вино, нюхаем неподдельный французский табак и точно так же, как они, едим прескверные устрицы.
В прошедший понедельник, рано поутру, получил я от моего старинного приятеля, живущего в Смоленске, письмо; он рекомендует мне в этом письме одного путешественника, г-на Дюверние, который едет взглянуть на Москву. Тут же приложена была небольшая записка на французском языке от самого г-на Дюверние. Он уведомлял меня, что вчерашнего числа поздно ночью, не доехав до Москвы, остановился в Кунцеве у своего единоземца г-на Д***, который нанимает там дачу. В заключение своей записки он просил меня уведомить его, когда может ко мне приехать. «Вот, — подумал я, — прекрасный случай пощеголять Москвою! Этот француз приехал ночью, не видел еще Москвы, следовательно, увидит ее так, как я хочу. Да только вот беда: смоленский-то въезд больно плох: что за улица, какие пустыри!.. Вида никакого, дома прескверные. Первое впечатление будет самое невыгодное, а для француза это всё! Нет, уж так и быть, — лошади у меня добрые, прокачу его порядком». Я отдал кое-какие приказания моему Никифору, велел заложить коляску четверней в ряд и отправился.
Я застал г-на Дюверние за утренним туалетом; он очень извинялся, что позволил себя предупредить, и вообще показался мне весьма умным и любезным человеком. Я пригласил его к себе на русский стол и предложил отправиться до обеда вместе со мной смотреть Москву. Когда мы выехали на Смоленскую дорогу и стали приближаться к заставе, я сказал ему:
— Знаете ли что? Теперь еще рано, утро прекрасное: чем нам ехать прямо в город, не лучше ли взглянуть на его окрестности? Здесь же пойдут места гористые, с которых весьма приятный вид на Москву.
— Очень рад! — отвечал француз. — Я совершенно в ваших приказаниях.
— Ступай направо! — закричал я кучеру. Мы свернули с большой дороги, проехали шибкой рысью мимо Скотного двора, переправились подле мельницы через речку Сетунь, которая в этом месте впадает в Москву-реку, и стали подыматься в гору. Сначала мы не видели ничего, кроме мелкого кустарника и глинистых бугров, посреди которых прорезывалась довольно плохая дорога. Потом, когда поднялись на первые возвышенности Воробьевых гор, налево стали обрисовываться, на самом краю горизонта, отдаленные части города: ближайших не было еще видно; но мой путешественник, как будто бы предчувствуя, что перед ним готова открыться великолепная картина, не спускал глаз с левой стороны нашей дороги. Мы въехали по узкой дорожке в мелкий, но частый лес. Вот он стал редеть, дорожка круто поворотила влево, мы выехали на открытое место, и третья часть Москвы, со всеми своими колокольнями, церквами и каланчами, которые так походят на турецкие минареты, разостлалась, как нарисованная, под нашими ногами. Впереди всего подымался Новодевичий монастырь со своими круглыми башнями и высокою колокольнею; посреди необозримых лугов тихо струилась в своих песчаных берегах капризная Москва-река: то приближалась к подошве Воробьевых гор, то отбегала прочь, то вдруг исчезала за деревьями, которые росли кое-где по скату холмов. Как в волшебной опере, менялись поминутно декорации этой обширной сцены: при каждом повороте дороги, при каждом изгибе гор Москва принимала новый вид.
— Это прелесть! Чудо! — кричал Дюверние. — Я готов стать на колени перед Москвою!
Я чуть было не вымолвил: «Нет, уж это слишком много! Мне совестно!» Но опомнился и не сказал ничего.
— Впрочем, все это, — прибавил через минуту путешественник, — вероятно, один оптический обман.
Меня обдало холодом.
— Как? — вскричал я.
— Да! — продолжал Дюверние. — Я был в Константинополе: издали это великолепнейший город в мире; а въезжайте в него — скверные улицы, безобразные дома, гадость, грязь…
— Да что же общего, — спросил я, — между Константинополем и Москвою?
— Как что общего? Да что ж такое ваша Москва? Сотни две барских огромных домов, несколько тысяч деревянных домиков; рядом с дворцами хижины, множество церквей какой-то странной азиатской архитектуры; одним словом, не город, а собрание деревень — c'est connu!
— У вас в Париже, вероятно, это знают из путешествия Олеария, — сказал я почти с злобною улыбкою.
— Да разве Москва походит на европейский город? — спросил с удивлением Дюверние.
— И да и нет. Да вот вы сами это увидите.
Я замолчал. Нас быстро провезли мимо Васильевского, и я не обратил даже внимания на то, что путешественник был поражен необычайной красотою этого загородного дома. Мне кажется, я даже не отвечал на его вопрос, кому принадлежит этот замок (ce chateau); одним словом, я просто сердился и молчал вплоть до Калужской заставы. Да и неудивительно: после такой личной обиды не скоро успокоишься!
— Вот и Москва? — прошептал Дюверние, когда опустился за нами шлагбаум.
— То есть мы въехали в одно из ее предместий, — сказал я, — в котором, как вы видите, нет еще настоящих городских домов. Все эти небольшие домики с обширными садами можно скорее назвать дачами, чем домами. Вот налево Нескучный сад. Вам надобно побывать в нем: он очень живописен…
— Что это за монастырь? — спросил путешественник, взглянув направо.
— Это Донской монастырь. Он основан в 1596 году в память победы, одержанной царем Феодором Ивановичем над Крымским ханом; следовательно, существует только двести сорок шесть лет. У нас в Москве есть монастыри несравненно древнее и любопытнее этого. Вот например…
— Quel superbe Hotel! — прервал мой француз. — Какие принадлежности! Какой двор!
— Это летний дворец русской императрицы. Из его сада прекрасный вид на Москву-реку.
— А это также дворец? — сказал Дюверние, указывая на Голицынскую больницу.
— Нет, это больница…
— А это что за великолепное здание? — спросил он через полминуты.
— Больница.
— Ого! — прошептал француз. — Извините, — сказал он, помолчав несколько времени, — я надоедаю вам моими вопросами.
— Сделайте милость!
— Позвольте спросить, что это за огромный дом?…
— Больница.
— Ну, вашим больным жить хорошо!
— Я уверен, что вы это повторите в настоящем и буквальном смысле, когда заглянете во внутренность этих заведений.
— Три больницы, похожие на дворцы, и все три почти сряду!.. — шептал путешественник.
— Есть недалеко отсюда и четвертая.
— Следовательно, эта часть города исключительно назначена для человеколюбивых заведений?
— О нет, и в других частях города есть странноприимные дома и больницы ничем не хуже этих.
— Вот это прекрасно! — сказал Дюверние. — Это признак истинного просвещения, это делает честь Москве!
Через несколько минут мы выехали на Полянскую площадь. Я велел повернуть по Козьмодемьянской улице на Каменный мост. Так как эта часть города не из самых красивых, то я заговорил с моим товарищем о Париже. Француз закипел, начал мне рассказывать о своей столице всего просвещенного мира и вовсе не замечал, где мы едем. Я оставил его в этом восторженном положении до тех пор, пока мы ехали до Каменного моста; тут я велел остановиться и сказал ему:
— Посмотрите направо!
Дюверние поднял глаза и ахнул: перед ним Москва-река в гранитных берегах, с широкой набережной, с красивыми чугунными решетками; за ней с одной стороны громада каменных зданий и длинный ряд кремлевских садов, с другой, как целый город, колоссальный Воспитательный дом; за ним, уставленный каменными домами, красивый холм, который, впрочем, я не люблю называть по имени, а посреди зеленая гора, подпертая высокими стенами, опоясанная цепью башен и увенчанная святыми храмами, под благодатной сенью которых возвышаются чертоги царские и древние терема — эта священная колыбель всех царей православной и могучей России.
— O, que c'est beau! — вскричал Дюверние. — Это Кремль?
— Да! — отвечал я. — Это наш русский Капитолий, наш Кремль, которого не могли разрушить ни татары, ни поляки, ни…
— Ни французы? — сказал с улыбкою путешественник. — Вы напрасно их обвиняете.
— Однако ж в двенадцатом году…
— Они хотели подорвать весь Кремль, — прервал Дюверние. — Обвиняйте в этой, не слишком европейской, попытке не французов, а того, кто привел их в Москву. Мы взрываем крепости, но дворцы, исторические памятники и стены, за которыми не спрячешься от ядер, мы уж, конечно, разрушать не станем.
«Сказал бы я тебе и на это кое-что, — подумал я, — да ты любуешься Кремлем, так бог с тобой!»
— Знаете ли, — продолжал француз, — что это все так прекрасно, так живописно, что я, может быть, предпочел бы Москву многим европейским городам, если б она была хоть несколько многолюднее, а то мне кажется, извините, улицы ваши очень пусты.
«Злодей! — подумал я. — Заметил, как заметил! Да постой же, я попотчую тебя народом!»
— Держи правее, по набережной, — закричал я кучеру, — на Москворецкий мост!
Когда мы переехали через этот красивый мост и стали подыматься вверх по Москворецкой улице, Дюверние заметил, что тут вовсе нет недостатка ни в проходящих, ни в проезжающих. Первый предмет, который обратил на себя все его внимание, был Покровский собор, который мы привыкли называть Василием Блаженным.
— Что это? — вскричал он. — Я в жизнь мою ничего подобного не видел! Это ни на что не походит! Это так пестро, так тяжело… а чрезвычайно любопытно!
Он не успел еще наглядеться на этот чудный памятник шестнадцатого столетия, как мы выехали на Красную площадь и остановились подле Лобного места, против самой Ильинки, которая была вся запружена экипажами и народом.
— Вот, — сказал путешественник, — вот это жизнь, движение! И это бывает здесь каждый день?
— Разумеется! Здесь средоточие московской торговли. На Кузнецком мосту экипажей несравненно больше, но зато менее народу.
— Какая странная противоположность! Здесь везде движется народ, везде заметна деятельность, суета, а там, где мы ехали…
— Да мы ехали Замоскворечьем: там живут по большей части наши русские купцы, которые ведут жизнь тихую и сидячую; жены их не любят шататься по улицам, и ворота их домов всегда заперты; вы можете даже по этому тотчас отличить купеческий дом от дворянского. Притом же большая часть обывателей Замоскворечья с утра до вечера здесь.
— А, — подхватил француз, обратив наконец внимание на ряды, — так это-то ваш базар? Il est immense!
— Он, как видите, занимает всю площадь. Эта колоссальная группа, которая стоит против самой его средины, изображает спасителей России в 1612 году, князя Пожарского и гражданина Минина. Теперь, если хотите, мы поедем в Кремль.
— Позвольте еще один вопрос: что значит это каменное круглое возвышение, похожее на огромную кафедру?
— Это Лобное место, на котором в старину…
— Рубили головы? — прервал с живостию француз. — Так точно!.. Вот здесь вводили на него преступников… вот там, вероятно, лежала роковая плаха… Да, да, непременно там!.. Посмотрите!.. Замечаете ли вы на этих камнях следы кровавых пятен?… О, я не забуду этого в моих записках! Какая странная вещь наше воображение, — продолжал Дюверние, не давая мне вымолвить ни слова, — один взгляд на исторический памятник — и минувшие века восстают из своего праха; времена варварства, пыток и казней, всё оживает перед вами. Поверите ли, мне кажется, я вижу на этом отвратительном эшафоте целые груды отрубленных голов, обезображенные трупы…
— Да успокойтесь, — сказал я, — на этом Лобном месте никого не казнили; с него объявляли только царские указы и совершали молебствия.
Мой француз успокоился, и, когда мы подъехали к Спасским воротам, он спросил меня:
— Почему все входят в эти ворота с непокрытой головою?
— Быть может, оттого, что тут чудотворный образ, — отвечал я, — или, если верить народному преданию, это делается потому, что князь Пожарский, освободив Москву, вошел Спасскими воротами в Кремль.
— Я всегда уважал народные обычаи, — сказал Дюверние, — и весьма охотно снимаю вместе с вами мою шляпу.
Мы въехали в Кремль; вышли из коляски, обошли кругом все соборы, поглядели на Ивана Великого, подивились Царь-колоколу, который, по воле ныне царствующего императора, явился наконец на свет божий, взглянули на огромную пушку и молча прошли мимо тех самых пушек, которые некогда громили всю Европу, а теперь лежат себе преспокойно на деревянных подмостках и не обижают никого. Не знаю, догадался ли мой француз, что эти пушки ему сродни, только он что-то очень на них косился; однако ж не спросил меня, почему они, сердечные, выставлены напоказ целому миру и лежат без всякого приюта. Когда мы пересмотрели все: Арсенал, Сенат, терема, Николаевский дворец, монастыри Чудов и Вознесенский, Грановитую и Оружейную Палаты, то подошли к самой закраине кремлевской горы. Дюверние взглянул и обомлел от восторга. Я не буду описывать этот неизъяснимо пленительный вид с кремлевской горы на все Замоскворечье. Кто из москвичей не бывал в Кремле? А кто вовсе не знаком с Москвою, тот, право, может в нее приехать для того только, чтоб полюбоваться хоть раз в жизни этою очаровательною панорамою… Когда мы сели в коляску и я приказал кучеру ехать Троицкими воротами на Моховую, Дюверние объявил мне, что он без ума от нашего Кремля.
— Да вы видели его в будничном наряде, — сказал я, — теперь в нем все мертво и тихо. Нет, вы посмотрели бы его при русском царе! О, вы не можете себе представить, как прекрасен этот Кремль, когда державный его хозяин посетит свою Москву! Эта дворцовая площадь, на которой теперь так пусто, покроется и закипит вся народом, из которого многие ночевали на этой площади для того только, чтоб занять повыгоднее место и взглянуть лишний раз на своего государя. Вы посмотрели бы на Кремль тогда, как загудит наш большой колокол и русский царь, охваченный со всех сторон волнами бесчисленной толпы народа, пойдет через всю площадь свершать молебствие в Успенском соборе.
— Как? — прервал Дюверние. — Да неужели ваш государь идет по этой площади пешком при таком стечении народа?…
— Да, да, пешком; и даже подчас ему бывает очень тесно.
— Что вы говорите!.. Но, вероятно, полиция?…
— Где государь, там нет полиции.
— Помилуйте! Да как же это можно?… Идти посреди беспорядочной толпы народа одному, без всякой стражи…
— Я вижу, господа французы, — сказал я, взглянув почти с состраданием на путешественника, — вы никогда нас не поймете. Нашему царю стража не нужна: его стража весь народ русский.
— Удивительно! — прошептал Дюверние. — Ну, надобно признаться, я вижу и слышу здесь такие неожиданные для меня вещи, такие странности…
— Каких вы не видите и не слышите в Париже? Да так и быть должно: ведь и все путешествуют для того, чтоб слышать и видеть что-нибудь новое.
Мой путешественник согласился с неоспоримой истиной этого заключения и замолчал. Мы отправились по Моховой к Охотному ряду. Я показал моему товарищу крытую площадь, которую мы называем Манежем, наш великолепный университет, Благородное собрание, в котором зал едва ли не один из лучших по всей Европе, и Большой театр, в котором парижская опера может поместиться, как в самом просторном футляре, потому что наш московский театр целым аршином шире знаменитого Сен-Карла. Потом мы выехали на Никольскую площадь и повернули Кузнецким мостом на Тверскую. Мимоездом Дюверние любовался также нашими водометами, которые, украшая площади кругом Кремля, поят всю Москву такой чистой и здоровой водой. Когда, проехав всю Тверскую до Страстного монастыря, мы повернули по бульвару к Никитским воротам, Дюверние удостоверился самой очевидностью, что в Москве гораздо более огромных барских домов, чем он думал, и что во многих и весьма обширных ее частях не только нет хижины, но даже ни одного деревянного дома. А когда мы проехали всю Поварскую, то он согласился со мною, что наши оштукатуренные или просто выкрашенные деревянные дома, построенные по всем правилам изящной архитектуры, несравненно красивее этих шестиэтажных полукирпичных и полудеревянных изб, которыми наполнена вся Германия.
Я приехал с моим гостем домой, совершенно довольный нашей прогулкой; но настоящее и полное торжество ожидало меня за обедом, за которым Дюверние объявил мне торжественно, что русская янтарная уха, из свежих стерлядей и жирных налимов, вкуснее всех возможных супов, даже и французских, а Москва прекраснее, живописнее и разнообразнее всех известных ему городов, разумеется исключая Парижа, с которым, несмотря на его грязные улицы, ничто в мире сравниться не может.
III
Сцены из домашней и общественной московской жизни
Сцена 1-я. Выбор жениха
Суженого и конем не объедешь.
Русская пословица
У меня есть в Москве внучатная сестрица, богатая вдова лет пятидесяти, женщина довольно добрая, довольно честная и даже по-своему неглупая, но, как бы вам это сказать, — не отсталая, избави господи: она два раза была за границею и ездила по железной дороге, — а такая обыкновенная, такая дюжинная, благовоспитанная барыня, что, право, иногда пожалеешь о том, что она не вовсе безграмотная; мне кажется, тогда было бы с ней не так скучно. Двух старших дочерей своих она выдала очень неудачно замуж. Одну за французского графа, который впоследствии оказался не графом; другую обвенчала с русским князем, которого за буйство и картежную игру отправили жить в какой-то отдаленный городок, где он и теперь находится под судом за то, что прибил уездного стряпчего или станового пристава, — право, не помню. Третья и последняя дочь была еще не замужем, а так как покойный отец оставил на ее долю шестьсот душ да маменька хотела укрепить ей все именье, то, разумеется, и она не могла долго засидеться в девках. Я не часто бываю у этой внучатной сестрицы, не потому, чтоб я ее чуждался — о нет! Она очень ко мне ласкова, зовет братцем, присылает каждый раз своего старого слугу Антропа поздравить меня с именинами и со днем рожденья, а в Новый год, в Рождество и в Светлый праздник — форейтора с визитной карточкой, на которой напечатано мелким шрифтом; «Маргарита Степановна Барашева, урожденная княжна Горенская, с дочерью». Если я вижусь с ней очень редко, то на это есть весьма уважительная причина, которая также принадлежит к числу особенностей нашей Москвы. Я живу за Пресненскими прудами, а она — в Яузской части, в приходе Николы Кобыльского, то есть мы живем друг от друга, по крайней мере, в восьми верстах, следовательно, всякий раз, когда я бываю у Маргариты Степановны, бедные мои лошади должны пробежать по бойкой мостовой шестнадцать верст, а у меня на конюшне никогда не бывает более четырех лошадей, так я их поберегаю.
Собственный дом, в котором живет моя сестрица, может назваться типом или, по крайней мере, образцом большей части деревянных домов тех московских зажиточных дворян, которые не принялись еще отделывать дома свои во вкусе средних веков, то есть пристроивать к ним готические балконы в виде огромных фонарей и колоссальных перечниц, а живут точно так же, как жили лет двадцать пять тому назад. Деревянный дом моей родственницы построен на двенадцати саженях, оштукатурен и снаружи и внутри, с большим мезонином, на фронтоне которого как жар горит вытиснутый на латуни герб дворян Барашевых под княжескою короною, напоминающею сиятельное происхождение прежде бывшей княжны Горенской. Весь дом окрашен в бледно-палевый цвет, исключая различных орнаментов, которые покрыты белой краскою. Перед домом обширный двор с двумя воротами, из которых одни всегда заперты; на воротах неизбежные алебастровые львы. Позади дома сад на трех десятинах, с порядочным прудом и красивой беседкою. Дом расположен очень покойно: парадные сени, не всегда чистые — это правда, но просторные и светлые, лакейская, всегда запачканная, но теплая и поместительная. Потом ежедневная столовая, одинакового цвета с наружностию дома; из нее налево довольно большая зала, с колоннами под мрамор и даже с хорами для музыкантов, которые, впрочем, должны играть непременно сидя. Стены залы приготовлены также под фальшивый мрамор и, вероятно, будут скоро отделаны, потому что стоят в этом виде лет около двадцати. Прямо из столовой парадные покои, то есть две большие гостиные комнаты и такой же величины диванная. Первая гостиная светло-бирюзовая, вторая — голубая; во всех простенках, как следует, зеркала, подстольники с бронзовыми часами и фарфоровыми вазами, шелковые занавески над окнами, бумажные люстры под бронзу; кой-где по стенам фамильные портреты; мебель в одной гостиной из карельской березы, в другой — из красного дерева в греческом вкусе, следовательно, не новая, но весьма опрятная и всегда в чехлах, которые едва ли когда-нибудь и снимаются; полы во всех парадных комнатах паркетные. Войдя в диванную, вы тотчас заметите, что последнее путешествие Маргариты Степановны за границу принесло свои плоды: эта диванная отделана и убрана почти во вкусе нашего времени: стены оклеены малиновыми насыпными обоями под рытый бархат; по обеим сторонам дивана трельяж, то есть деревянные решеточки, обвитые плющом, две горки а-ля помпадур, уставленные фарфоровыми чашками; между них несколько китайских болванчиков, и в том числе преважный мандарин, который качает головою, моргает глазами и дразнится языком. Два готических стула из орехового дерева с высокими спинками, три столика рококо с кривыми ножками, широкие эластические кресла, трое других кресел различной величины и формы. На одном из столов бронзовый карсель, а в углу витой жгутом, из красного дерева столб, который, загибаясь вверху крючком, поддерживает висячий фонарь с расписными стеклами. За этой диванной — внутренние комнаты, девичья и широкий коридор с довольно крутой лестницей, ведущей в мезонин, в котором живет Эме, сиречь Любовь Дмитриевна, меньшая дочь Маргариты Степановны, девица лет осьмнадцати, очень миловидная, ловкая, развязная и воспитанная как нельзя лучше, по крайней мере так говорит ее маменька, которая уверяет, что ничего не жалела для ее умственного и душевного образования; что нянюшкой у нее была немка, гувернанткой француженка, а компаньонкой англичанка, которая и теперь еще живет вместе с нею; что она, то есть Эме, брала уроки у всех лучших московских учителей, большая музыкантша, поет как ангел, рисует, как художник, понимает по-немецки, может вести речь по-английски, а по-французски говорит и лучше и свободнее, чем природным своим языком. Сверх того, сколько мне известно, ей случалось иногда сочинять французские стишки, которые если не вполне изобличали истинный талант, то, по крайней мере, всегда ручались за то, что их сочинительница одарена весьма чувствительным сердцем и необычайно пламенной головой. Учитель французского языка, большой франт и любезник, обыкновенно при этих случаях называл ее, очень вежливо, русскою Сафою, чему добрая маменька от всей души радовалась.
Вчера я получил от Маргариты Степановны записку, в которой она убедительно просит меня заехать к ней после обеда, поговорить об одном весьма важном деле. Я отправился из дому часу в седьмом, и ровно через час коляска моя въехала к ней во двор, где уже стояло несколько экипажей. Я нашел мою внучатную сестрицу в диванной, в кругу близких ее родных. Тут был ее двоюродный брат князь Иван Юрьевич Бубликов, племянник ее покойного мужа Андрей Евстафьевич Барашев, родная ее сестра, девица лет сорока пяти, княжна Агафоклея Горенская, вдова ее покойного двоюродного брата Настасья Никитична Черново-Сусальская и тетушка Маремьяна Сергеевна Булыжникова. Все общество сидело вокруг стола, на котором кипел самовар. Сама хозяйка разливала чай; ей помогала англичанка, а Любовь Дмитриевна стояла подле окна и разговаривала со своим внучатным братом, гусарским поручиком Александром Васильевичем Зориным, большим повесою, но весьма красивым молодцом с черными усиками и огненными глазами. Когда я раскланялся с мужчинами, пожал, как следует человеку фашионабельному, руки у дам, кивнул головою Зорину и поцеловал ручку у почтенной тетушки Маремьяны Сергеевны, хозяйка налила мне чаю, и я присел к общему столу. Разговор как-то не клеился. Князь Иван Бубликов играл кисточками своей камышовой трости, смотрел на ее золотой набалдашник, на котором вырезан был его княжеский герб, и молчал, Андрей Евстафьевич Барашев прихлебывал с отдыхами и расстановкою чай, надувал весьма значительно губы или с большим глубокомыслием подымал кверху свои густые брови и молчал. Княжна Горенская, которая сидела подле Настасьи Никитичны Черново-Сусальской, рассказывала ей что-то вполголоса об очаровательных окрестностях Карлсбада; но Настасья Никитична, казалось, слушала ее одним только ухом, вертелась и туда и сюда на креслах, поправляла свой чепец и от времени до времени подносила к носу хрустальный флакончик со спиртом. Тетушка Маремьяна Сергеевна была погружена в глубокую задумчивость, беспрестанно открывала свою круглую золотую табакерочку с рульным табаком, шевелила в ней пальцами, поминутно нюхала и забывала даже стряхать табачную пыль со своей черной тюлевой косынки. Хозяйка говорила не более других; заметно было, что она дожидается чего-то с большим нетерпением и очень торопится напоить всех чаем. Любовь Дмитриевна показалась мне также необычайно смущенною: она то краснела, то бледнела, играла рассеянно своим флеровым эшарпом и смотрела все вниз. Один только гусар Зорин говорил беспрестанно и, по-видимому, с большим жаром; но он говорил с одной Любовью Дмитриевной и так тихо, что нельзя было разобрать ни одного слова.
— Эме, — сказала Маргарита Степановна, когда все напились чаю, — ты бы, мой друг, пошла погулять с Александром по саду: вечер прекрасный. Мисс Мери, — продолжала она, обращаясь к англичанке, — ступай и ты с ними; да возьми, машер, с собою проветрить Амишку: она целый день не выходила во двор.
Зорин подал руку своей кузине, англичанка взяла под плечо болонку, и они вышли из диванной. Маргарита Степановна приказала слуге унести чайный прибор, поправила на себе шаль, уселась покойнее на диване, вынула из ридикюля батистовый платок и начала речь следующим образом… Да нет, когда разговаривают многие, тогда рассказ решительно не у места. Все эти пояснительные речи: такой-то сказал, такая-то отвечала, тот возразил, этот прервал, та подхватила — только что сбивают и путают читателя, итак, позвольте мне прибегнуть к обыкновенной драматической форме. Это будет и яснее и проще.
Маргарита Степановна. Я просила вас к себе, почтеннейшая моя тетушка, и всех вас, мои родные, чтоб поговорить с вами о нашей Эме… Вы все ее любите… Да как и не любить этого ангела!.. Когда я подумаю, что мне должно будет расстаться с нею… (Маргарита Степановна прикладывает к глазам свой батистовый платок и плачет; тетушка нюхает табак; княжна Горенская вздыхает; князь Бубликов устремляет взор на золотой набалдашник своей трости, а Барашев становится мрачнее и глубокомысленнее прежнего. — Минутное молчание.)
Черново-Сусальская (вполголоса). Ах, невестушка, не говорите!.. У кого есть свои дочери…
Маргарита Степановна (укладывая в ридикюль свой батистовый платок, который, вероятно, был ей нужен только для вступления). Да, мои родные, пришло время расставаться с дочерью… Что ж делать — добрая мать не должна быть эгоисткою… Вам известно, как несчастливо я выдала замуж первых моих дочерей?
Тетушка. А кто ж виноват, мать моя?…
Маргарита Степановна. Знаю, тетушка, знаю! Вы мне говорили, что этот французский граф походит на французского парикмахера, а этот князь на дневного разбойника. Что ж делать — ослепленье!.. Для того-то я теперь и не хочу приступать ни к чему без вашего общего совета, тем более что есть из кого выбрать.
Тетушка. Вот что!..
Маргарита Степановна (с приметною гордостию). Да, ма тант, благодаря бога у моей Эмеши много партий; она на этот счет очень счастлива.
Черново-Сусальская (с язвительною улыбкою). В самом деле?
Маргарита Степановна. Да вот братец князь Иван Юрьевич, он предлагает жениха для нашей Эме…
Тетушка. А кто такой, матушка?
Князь Бубликов (приподнявшись немного с кресел). Приятель мой, граф Троекуров, знатной фамилии, с блестящим родством, свой человек князю Светлинскому, двоюродный брат графине Наливайко-Перхушковой и, если не ошибаюсь, внучатный племянник его светлости…
Тетушка. Да сам-то он что такое, батюшка?
Князь Бубликов. Сам?… Да я уж имел честь вам докладывать, что он граф Троекуров.
Тетушка. Графов и князей много, мой отец; какого рангу?…
Князь Бубликов (пожимая плечами). Ну, если вам угодно: он был камергером, теперь в отставке; но если только захочет служить…
Тетушка. Граф Троекуров… отставной камергер… Постой-ка, батюшка… Да не тот ли это Троекуров, у которого дом на Остоженке, с какими-то стеклянными фонарями да вычурными балкончиками?
Князь Бубликов. Тот самый.