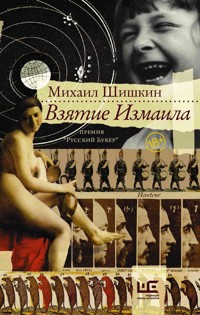Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Шишкин М.
- Sprache: Russisch
Михаил Шишкин - прозаик, разрушивший миф о том, что интеллектуальная проза в России - достояние узкой читательской аудитории. Его романы, удостоенные престижных литературных премий, - всегда событие и… всегда загадка. В новом романе "Письмовник", на первый взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть - такой же дар, как и любовь.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Михаил Шишкин Письмовник
♥
Открываю вчерашнюю «Вечерку», а там про нас с тобой.
Пишут, что в начале снова будет слово. А пока в школах еще по старинке талдычат, что сперва был Большой взрыв и все сущее разлетелось.
Причем все якобы существовало уже до взрыва – и все еще не сказанные слова, и все видимые и невидимые галактики. Так в песке уже живет будущее стекло, и песчинки – семена вот этого окна, за которым как раз пробежал мальчишка с мячом, засунутым под футболку.
Это был такой сгусток тепла и света.
А размером эта ни окон ни дверей полна горница людей была, сообщают ученые, с футбольный мяч. Или арбуз. А мы в нем были семечками. И вот там все созрело и, напыжившись, поддало изнутри.
Первоарбуз треснул.
Семена разлетелись и дали ростки.
Одно семечко пустило росток и стало нашим деревом, вот тень его ветки елозит по подоконнику.
Другое стало воспоминанием одной девочки, которая хотела быть мальчиком, – в детстве ее одели на маскарад Котом в сапогах, и все кругом норовили дернуть за хвост и в конце концов оторвали, так и пришлось ходить с хвостом в руке.
Третье семечко проклюнулось много лет назад и стало юношей, который любил, когда я чесала ему спинку, и ненавидел ложь, особенно когда начинали уверять со всех трибун, что смерти нет, что записанные слова – это что-то вроде трамвая, увозящего в бессмертие.
По гороскопу друидов он был Морковка.
Перед тем как сжечь дневник и все свои рукописи, он написал последнюю фразу, ужасно смешную: «Дар оставил меня», – я успела прочитать до того, как ты вырвал из моих рук ту тетрадку.
Стояли у костра и поднимали от жара ладони к лицу, глядя на кости пальцев, которые проступали сквозь прозрачную красную плоть. Сверху падали хлопья пепла – теплые сгоревшие страницы.
Да, чуть не забыла, а потом все сущее снова соберется в точку.
Вовка-морковка, где ты сейчас?
И что же это получается? Юлия-дурочка старается, шлет ему письма, а жестокосердный Сен-Пре отделывается короткими шутливыми посланиями, иногда в стихах, рифмуя селедок и шведок, амуницию и сублимацию, засранное очко и улыбку Джоконды (кстати, ты понял, чему она улыбается? – я, кажется, поняла), пупок и Бог.
Любимый мой!
Зачем ты это сделал?
♠
Оставалось только выбрать себе войну. Но за этим, понятно, дело не стало. Уж чего-чего, а этого добра у непобитого отечества хлебом не корми, и дружественные царства, не успеешь толком и газету развернуть, уже ловят на штыки младенцев да насилуют старух. Почему-то особенно бывает жалко невинно убиенного царевича в матроске. Женщины, старики и дети как-то привычно проскальзывают мимо ушей, а тут матроска.
Отставной козы барабанщик соло, над колокольней хмарь, родина-мать зовет.
На призывном пункте призывали: каждому нужен свой Аустерлиц!
Действительно нужен.
На медкомиссии военврач – огромный череп лыс, шишковат – внимательно посмотрел в глаза. Сказал:
– Ты всех презираешь. Знаешь, я ведь тоже был таким. Мне было столько же, сколько тебе, когда я проходил первую практику в больнице. И вот нам однажды привезли бомжа, которого сбила машина. Еще жил, но уж очень сильно его изувечило. Особенно и не старались. Видно, что никому старик не нужен и никто за ним не придет. Вонь, грязь, вши, гной. В общем, положили в сторонку, чтобы ничего не испачкал. Сам дойдет. А я должен был потом убрать, помыть и отправить тело в морг. Все ушли, оставили меня одного. Я вышел покурить и думаю – зачем мне все это надо? Кто мне этот старик? Зачем он нужен? Пока курил, тот дошел. И вот вытираю кровь, гной – кое-как, чтобы поскорее его отправить в морозилку. И тут подумал, что, может, он кому-то отец. Принес тазик с горячей водой, стал его обмывать. Тело старое, заброшенное, жалкое. Никто его годами не гладил. И вот я мою его ноги, страшные скрюченные пальцы, а ногтей почти и нет – все съел грибок. Протираю губкой все его раны, шрамы – и тихо с ним разговариваю: ну что, отец, тяжелая у тебя получилась жизнь? Нелегко, когда тебя никто не любит. Да и как это в твоем-то возрасте жить на улице бездомной собакой? Но теперь-то все закончилось. Отдохни! Теперь все хорошо. Ничего не болит, никто не гонит. И вот так мыл его и разговаривал. Не знаю, помогло ли это ему в смерти, но мне это очень помогло жить.
Сашенька моя!
♥
Володенька!
Смотрю на закат. И думаю: вдруг ты сейчас, в этот самый миг, тоже смотришь на этот закат? И значит, мы вместе.
Такая тишина кругом.
А небо какое!
Вон бузина – и та мироощущает.
В такие минуты кажется, что деревья все понимают, только сказать не могут – совсем как мы.
И вдруг очень остро чувствуешь, что на самом деле мысли и слова сделаны из той же сути, что и это зарево, или то же зарево, но отраженное вон в той луже, или моя рука с перебинтованным пальцем. Так хочется, чтобы ты все это сейчас увидел!
Представляешь, взяла хлебный нож и умудрилась резануть себе палец по самый ноготь. Забинтовала кое-как, а потом нарисовала на бинте два глаза, нос. Получился мальчик с пальчик. Вот с ним весь вечер и разговариваю о тебе.
Перечитала твою первую открытку. Да! Да! Да! Именно так! Все рифмуется! Посмотри кругом! Это же рифмы! Вот мир видимый, а вот – если закрыть глаза – невидимый. Вот часовые стрелки, а вот к ним рифма – стромбус, в миру ставший пепельницей. Вот сосна штопает веткой небо – а вот на полке аптечная травка, полезная тем, что гонит ветры. Это мой забинтованный палец, теперь, наверно, шрам останется навсегда, а рифма к нему – тот же мой палец, но еще до моего рождения и когда меня уже не будет, что, наверно, одно и то же. Все на свете зарифмовано со всем на свете. Эти рифмы связывают мир, сбивают его, как гвозди, загнанные по шляпки, чтобы он не рассыпался.
И самое удивительное, что эти рифмы уже всегда были – изначально, – их нельзя придумать, как невозможно придумать самого простого комара или вот это облако из класса долголетающих. Понимаешь, не хватит никакого воображения, чтобы придумать самые простые вещи!
У кого это было написано про людей, жадных счастья? Как хорошо сказано! Это ведь я – жадная счастья.
А еще стала замечать, что повторяю твои жесты. Говорю твоими словами. Смотрю твоими глазами. Думаю как ты. Пишу как ты.
Все время вспоминаю наше лето.
Наши утренние этюды маслом на поджаренных хлебцах.
Помнишь наш стол под сиренью, покрытый клеенкой с бурым треугольником – следом горячего утюга?
А вот это ты не можешь помнить, это только мое: ты прошел утром по траве и на солнце будто оставил сверкающую лыжню.
И запахи из сада! Такие густые, плотные, прямо взвесью стоят в воздухе. Хоть наливай в чашку вместо заварки.
И у всего кругом только одно на уме – просто идешь по полю или лесу, а всяк норовит опылить, осеменить. Все носки в семенах травы.
А помнишь, мы нашли в поле зайца с перерезанными ногами – косилкой.
Кареглазые коровы.
На тропинке – козьи орешки.
Наша запруда – муть на дне, цветущая жижа, полная лягушачьей икры. Толстолобики бодаются с небом. Вылезаешь из воды и ощипываешь с себя водоросли.
Я легла загорать, закрыла лицо майкой, ветер шуршит, как накрахмаленное белье. И вдруг что-то в пупке щекотное – открываю глаза, а это ты тонкой струйкой сыплешь из кулака песок мне на живот.
Идем домой, а ветер испытывает деревья и нас на парусность.
Собираем опавшие яблоки – первые, кислые, на компот – и кидаемся этими паданцами.
Лес на закате зубчатый.
А среди ночи будит подпрыгнувшая мышеловка.
♠
Сашенька моя хорошая!
Что ж, буду нумеровать письма, чтобы знать, какое пропало.
Извини, что получаются короткие писульки, – совершенно нет времени на себя. И не высыпаюсь ужасно, хочется закрыть глаза и уснуть хоть стоя. Декарта убила необходимость вставать затемно в пять часов утра, чтобы читать шведской королеве Кристине лекции по философии. А я еще держусь.
Сегодня был в штабе и вдруг увидел свое отражение в зеркале в полном обмундировании. Странно стало, что за маскарад? Сам себе удивился: как это я – солдат?
Ты знаешь, в этом все-таки что-то есть – жить, равняясь на скулу четвертого.
Расскажу тебе историю о пилотке. Она короткая. У меня ее сперли. В смысле, пилотку. А встать в строй без пилотки – это нарушение устава, короче, преступление.
Наш начальников начальник и командиров командир затопал ногами и пообещал, что я буду мыть сортир до скончания веков.
– Языком вылижешь, падла!
Так и сказал.
Что ж, в военной речи есть что-то вдохновляющее. Где-то читал, что Стендаль научился писать просто и ясно, изучая боевые приказы Наполеона.
А сортир здешний, далекая моя Сашка, это нужно объяснить. Представь себе дырки в загаженном полу. Нет, лучше не представляй! И каждый норовит наделать кучу не в дырку, а с краю. И залито все. Вообще работа желудка у твоего покорного и иже с ним – особая тема. В здешней отдаленности почему-то всегда болит живот. Непонятно, как можно посвятить себя науке побеждать, если сидишь все время над бездной и из тебя льется?
Короче, я ему:
– Да где ж я возьму вам пилотку?
А он:
– У тебя сперли, пойди и ты сопри!
И вот я пошел переть пилотку. А это непросто. Вернее, даже очень сложно, поскольку каждый норовит.
И вот ходил-бродил.
И вдруг подумал: кто я? Где я?
И пошел мыть сортир. И во всем мире появилась какая-то легкость.
Нужно было здесь оказаться, чтобы научиться понимать простые вещи.
Понимаешь, в говне нет ничего грязного.
♥
Ну вот, пишу тебе ночью. Сейчас сгрызла горбушку в постели, теперь крошки не дают заснуть, разбежались по простыне и кусаются.
В окне над головой звездно-презвездно.
И Млечный Путь делит небо наискосок. Ты знаешь, это похоже на какую-то гигантскую дробь. В числителе – половина Вселенной, и в знаменателе – другая половина. Всегда ненавидела эти дроби, числа в каком-то квадрате, в кубе, какие-то корни. Все это такое бестелесное, непредставимое, совершенно не за что ухватиться. Корень он и есть корень – у дерева. Крепкий, лезет, хватается, жрет землю, цепкий, сосущий, неудержимый, жадный, живой. А тут ерунда какая-то закорючкой, а туда же – корень!
И как можно понять минус? Минус окно – это как? Оно же никуда не денется. И то, что за окном.
Или минус я?
Такого же не бывает.
Я вообще человек всего, что можно потрогать.
И понюхать.
Понюхать даже больше. Как в книжке, которую папа читал мне в детстве перед сном. Есть разные люди. Есть люди, которые все время сражаются с журавлями. Есть люди с одной ногой, на которой они передвигаются стремительно, и у них настолько большая ступня, что они укрываются в ее обширной тени от солнечного зноя и отдыхают, словно внутри дома. А еще существуют иные люди, которые живут только запахами плодов. Когда им надо отправиться в дальний путь, то они берут с собой эти плоды, а если почувствуют дурной запах, умирают. Вот это про меня.
Понимаешь, все живое, чтобы существовать, должно пахнуть. Хоть как-нибудь. А все эти дроби и вообще все, чему учили, – не пахнет.
За окном какой-то полуночник сейчас бредет, футболя пустую бутылку. Звонкий звук стекла по асфальту на пустынной улице.
Разбилась.
Ночью в такие минуты так одиноко и так хочется быть хоть чему-то причиной.
И нестерпимо хочется быть с тобой! Обнять тебя, приласкаться.
А знаешь, что получится, если вот этот звездный числитель за окном поделить на знаменатель? Одну половину Вселенной на другую? Получусь я. И ты со мной.
Сегодня увидела, как девочка упала с велосипеда – ободрала коленку, сидит и горько плачет, и белый гольф заляпан. Это было на набережной, где львы – пасть забита мусором, обертками, палочками от мороженого. И вот я потом шла домой и почему-то подумала, что все великие книги, картины не о любви вовсе. Только делают вид, что о любви, чтобы читать было интересно. А на самом деле о смерти. В книгах любовь – это такой щит, а вернее, просто повязка на глаза. Чтобы не видеть. Чтобы не так страшно было.
Не знаю, какая связь была с той девочкой, упавшей с велосипеда.
Она поплакала и уже, может, давно об этом забыла, а в книге ее ободранная коленка осталась бы до самой ее смерти и после.
Наверно, все книги не о смерти, а о вечности, но только вечность у них ненастоящая – какой-то обрывок, миг – как цокотуха в янтаре. Присела на минутку задние лапки почесать, а вышло, что навсегда. Конечно, они выбирают разные прекрасные мгновения, но разве не страшно остаться вот так, вечным, фарфоровым – как пастушок все тянется поцеловать пастушку.
А мне ничего фарфорового не нужно. Нужно все живое, здесь и сейчас. Ты, твое тепло, твой голос, твое тело, твой запах.
Ты сейчас так далеко, что совсем не страшно сказать тебе одну вещь. Ты знаешь, я ведь тогда на даче приходила к тебе в комнату, пока тебя не было. И все нюхала. Твое мыло. Твой одеколон. Кисточку для бритья. Ботинки понюхала изнутри. Открыла твой шкаф. Нюхала свитер. Рукав рубашки. Воротник. Поцеловала пуговицу. Наклонилась над твоей кроватью, поднесла нос к подушке. Я была так счастлива! Но этого было мало! Для счастья нужны свидетели. По-настоящему можно чувствовать себя счастливым, только получив какое-то подтверждение, и если не взглядом, не прикосновением, если не присутствием, то хотя бы отсутствием. Подушкой, рукавом, пуговицей. Один раз ты меня чуть не застиг – еле успела выбежать на крыльцо. А ты увидел меня и стал швырять мне в волосы репейник. Я на тебя тогда злилась, а сейчас чего бы только не отдала вот за это – чтобы ты швырнул мне в волосы репейник!
Вспоминаю тебя, и мир разделился – до первого раза и после.
Наши свидания у памятника.
Чистила апельсин – ладонь прилипла к твоей ладони.
Ты только что из поликлиники, со свежей пломбой в зубе – запах зубного кабинета изо рта. Разрешил мне потрогать пломбу пальцем.
А вот мы на даче белим потолок, прикрыв мебель и пол старыми газетами. Ходили босиком, и газеты все время прилипали к ногам. Все перемазались. Соскребаем друг у друга белила из волос. А язык и зубы у нас от черемухи черные.
Потом вешали тюлевые занавески и оказались по разные стороны, и так захотелось, чтобы ты меня через этот тюль поцеловал!
А вот ты пьешь чай, обжигая себе язык, дуешь, чтобы остыло, делаешь маленькие глотки и так громко хлюпаешь, совсем не боясь, что это неприлично, как мне внушили в детстве. И я тоже начинаю хлюпать. Потому что больше не детство. И все можно.
Потом было озеро.
Спускаемся по крутому склону и подходим к заболоченному берегу, чувствуя под босыми ногами тропинку, влажную, пружинистую.
Полезли в плес, свободный от ряски. Вода мутная, солнечная. Холодная от родников – бьют снизу.
Тогда, в воде, наши тела соприкоснулись в первый раз. На берегу дотронуться до тебя боялась, а тут набросилась, обхватила твои бедра ногами, попыталась утопить. Я в детстве так играла на море с папой. Ты вырываешься, хочешь разорвать мои руки, я не даюсь. Все норовила окунуть с головой. Ресницы у тебя слиплись, наглотался воды, хохочешь, плюешься, рычишь, фыркаешь.
Потом сидим на солнце.
У тебя облупленный нос, кожа сходит лепестками от загара.
Смотрим, как колокольня на том берегу мочалит свое отражение в воде.
Сижу перед тобой почти голая, но почему-то застеснялась именно ног, пальцев. Зарыла их в песок.
Прижгла сигаретой муравья, а ты заступился.
Домой идем напрямик, через поле. В высокой сухой траве прыгают кузнечики – пристают к юбке.
На веранде ты посадил меня в плетеное кресло и стал отряхивать песок с моих ног. Как папа. Когда мы приходили с пляжа, он вот так же вытирал мне ноги, чтобы между пальцами не оставалось песка.
И все вдруг стало так ясно. Так просто. Так неизбежно. Так долгожданно.
Я встала перед тобой – в мокром купальнике. Руки опустила вниз. Смотрю тебе в глаза. Ты взялся за бретельки и стянул купальник.
Я была готова к этому уже давно и ждала, но боялась, а ты боялся еще больше, и уже все давно бы произошло, но тогда, еще весной, помнишь, я взяла твою руку и потянула туда, а ты выдернул. Теперь ты был совсем другим.
Знаешь, чего я боялась? Боли? Нет. И больно-то не было. И крови никакой не было. Подумала: вдруг ты подумаешь, что ты у меня не первый.
Вечером только вспомнила, что забыла повесить купальник сушиться. Он валялся забытый, мокрый, слежавшийся, холодный. Пах тиной.
Я прижималась к тебе и целовала твой облупленный нос. В доме никого не было, а мы почему-то шептались. И впервые можно было рассмотреть глаза – ничего не боясь и не смущаясь – карие с ореховыми и зелеными крапинками на радужке.
Вообще все вдруг изменилось – можно было все трогать, что еще только что было недоступным, не моим. Только что было чужое – а теперь свое, будто мое тело увеличилось, срослось с твоим. Я и себя-то теперь чувствовала только через тебя. Моя кожа существовала только там, где ты ее касался.
Ночью ты спал, а я не могла. Так хотелось поплакать, но боялась тебя разбудить. Встала и пошла в ванную. Наплакалась всласть.
И утром перед умывальником вдруг волна глупого счастья – от вида двух наших зубных щеток в одном стаканчике. Стоят, скрестив ножки, и смотрят друг на друга.
Самые простые вещи могут заставить умирать от счастья. Помнишь, уже в городе – ты заперся в туалете, а я проходила мимо на кухню, не удержалась, присела у двери и стала шептать в замочную скважину:
– Я тебя люблю!
Тихо совсем шепнула. Потом громче. А ты не понял, что я тебе шепчу, и бурчишь в ответ:
– Я скоро, скоро.
Будто мне нужна ванная.
Ты мне нужен, ты!
Вот сидишь перед духовкой с ложкой в одной руке и раскрытой поваренной книгой в другой. Что-то на тебя нашло. Сказал, что все приготовишь сам и чтобы я не мешала. А я специально заходила на кухню, будто мне что-то нужно, а на самом деле только чтобы на тебя посмотреть. Помнишь? Ты мял фарш, и я не удержалась, тоже засунула в кастрюлю руки – как чудесно было мять с тобой эту пахучую говяжью мякоть, и фарш вылезал между пальцами!
Вообще с поварешками, прихватками и сковородками ты был не в ладах – все у тебя в руках оживало и норовило вывернуться, выскочить, улизнуть.
Я все-все помню.
Лежали и не могли друг от друга отцепиться – а потом полукруг от моих зубов на твоем плече.
Наши ноги переплетаются, ступни льнут, ластятся, и скользкие после крема пальцы входят друг в друга.
В трамвае на нас оборачиваются – твой кулак у моего носа, а я целую ту косточку, которая июль.
Поднимаемся к тебе, и кажется, что лифт ползет невыносимо медленно.
Под стулом твои ботинки, в которые засунуты носки.
Ты тогда в первый раз целовал меня там, а я никак не могла расслабиться. Вырастаешь и знаешь, что там нельзя трогать. Это ведь только мальчикам кажется, что у девочек между ног тайна, а там мокроты, миазмы, бактерии.
Утром не могла найти трусики, куда-то пропали, все обыскала, не нашла. Я и сейчас думаю, что это ты их стащил и куда-то спрятал. Так и пошла. Иду по улице, ветер лезет под юбку, и такое удивительное ощущение, что это ты везде кругом.
Я знаю, что я есть, но мне нужны все время доказательства, прикосновения. Без тебя я – пустая пижама, брошенная на стул.
Только из-за тебя мне стали дороги мои собственные руки, ноги, мое тело – ведь ты его целовал, ведь ты его любишь.
Посмотрю в зеркало и ловлю себя на мысли: а ведь это та, которую любит он. И нравлюсь себе. А раньше никогда себе не нравилась.
Закрываю глаза и представляю себе, что ты здесь.
Тебя можно потрогать, обнять.
Целую твои глаза – и губы становятся зрячими.
И так хочется провести кончиком языка, как тогда, по твоему шовчику, который тянется у тебя там, внизу, от и до, будто у малыша-голыша, и тебя слепили из двух половинок.
Где-то прочитала, что самые пахучие части тела ближе всего к душе.
Сейчас выключила свет, чтобы, наконец, свернуться клубочком и заснуть, а на небо, пока писала тебе, набежали облака. Будто кто-то стер все грязной тряпкой со школьной доски и остались одни белесые разводы.
Я чувствую, что все будет хорошо. Судьба – лишь пугает, но сохранит, защитит от настоящей беды.
♠
Сашка, родная!
Я хорохорюсь, а на самом деле без тебя, без твоих писем я бы давно уже если не сдох, то перестал быть самим собой – не знаю, что хуже.
Я тебе писал про нашего мучителя, которого прозвал Коммодом, и кличка эта к нему прицепилась – как ты догадываешься, вовсе без связи с сыном Марка Аврелия. Сегодня он особенно постарался объяснить мне, что есть жизнь. Не хочу тебе про это писать. Хочется забыться, подумать о чем-то нездешнем, о том же Марке Аврелии.
Не понимаю, какая может быть связь между Марком Аврелием, который умер миллион лет назад и о котором все знают, и мной, который тут сидит в казенных колючих подштанниках и о котором никто не знает.
А с другой стороны, вот он написал: ни один человек не счастлив, пока он не считает себя счастливым.
Вот это нас, наверно, с ним и объединяет – два счастливых человека. И какая разница, что он когда-то умер, а я еще здесь. По сравнению с нашим счастьем смерть кажется пустяком. Он перешагнул ко мне через нее, как через порог.
Это ощущение счастья идет оттого, что понимаю: все это кругом – ненастоящее. А настоящее – это как я тогда оказался у тебя впервые и зашел помыть руки в ванную, а там увидел твою губку и так остро почувствовал, что она касалась твоей груди.
Сашенька моя! Вот мы были вместе, а я ведь это по-настоящему стал понимать только здесь.
А сейчас вспоминаю и удивляюсь, что я всего этого тогда не ценил.
Помнишь, у вас на даче выбило пробки, ты мне светила свечкой, а я стоял на стуле и ковырялся с жучком. Взглянул на тебя, а ты такая была необыкновенная в полумраке, и свет от пламени переливался по твоему лицу! И в глазах отражался огонек свечи.
Или вот, мы идем по нашему парку, а ты сбегаешь все время с асфальтовой дорожки, рвешь пучки травы и приносишь мне показать то одну метелку, то другую:
– А это что? А это как называется?
Идешь с перепачканными землей каблуками.
У тебя бедный палец на ноге синий-синий – в трамвае кто-то отдавил, а ты в босоножках.
И озеро вижу.
Вода загустела, заросла ряской, облаками.
Ты подошла к самой кромке, вступила, подобрав юбку, в воду по щиколотки – попробовать. Крикнула:
– Холодная!
Вытянула ногу и поводила по поверхности, словно разглаживая складки.
Все вижу, будто это не тогда было, а прямо сейчас происходит.
Разделась, завязала волосы, чтобы не рассыпались, входишь в воду, несколько раз проверяя узел на голове.
Перевернулась на спину и молотишь озеро ногами, в снопе пены мелькают розовые пятки.
Потом ложишься звездочкой, разбросав руки и ноги, узел на голове развязался, и твои длинные волосы расплываются во все стороны.
Позже, на берегу, я украдкой, чтобы ты не заметила, бросаю взгляд туда, где у тебя между ног из-под резинки купальника выбились мокрые завитки.
А теперь вижу твою комнату.
Снимаешь туфли – наклоняешься одним плечом, потом другим.
Целую твои ладони, а ты говоришь:
– Не надо, грязные!
Обхватила мою шею руками и целуешь, кусая губы.
Вдруг вскрикнула.
Я даже испугался:
– Что случилось?
– Ты мне локтем волосы прижал.
Наклонилась надо мной, касаешься соском моих век, ресниц. Надвинула волосы шатром на нас обоих.
Стаскиваю с тебя трусики, какие-то детские, кремовые, с бантиками, ты помогаешь, поднимаешь коленки.
Целую тебя там, где кожа мягче и нежнее всего, – в бедра изнутри.
Зарываю нос в густую теплую поросль.
Кровать так отчаянно скрипит, что перебираемся на пол.
Застонала подо мной, прогнулась мостиком.
Лежим, и сквозняк – приятно по потным ногам.
У тебя на спине нежный пушок и узоры от жестких рубцов китайской циновки. Вожу пальцем по твоим острым позвонкам.
Беру ручку на столе, начинаю соединять чернильной линией твои родинки на спине. Тебе щекотно. Потом выкручиваешься у зеркала, смотришь через плечо, что получилось. Я хочу смыть, а ты говоришь:
– Оставь!
– Так и будешь ходить?
– Да.
Забросила ноги на стенку и вдруг побежала мелкими шажками по обоям, выгнулась, уперлась локтями в циновку, замерла вверх ногами. Не удержался, захотелось поцеловать тебя там – сразу сложилась, рухнула.
Я ухожу, а ты вышла проводить меня к двери – в одной маечке, под ней ничего нет, застеснялась и тянешь спереди вниз рукой за край.
В последнюю нашу ночь проснулся и слушал, как ты сопишь.
Ты привыкла спать «куколкой», закутала голову в одеяло и оставила только лунку для дыхания. Лежу и смотрю в эту лунку. А ты смешная такая – заснула с шоколадной конфетой за щекой. И у тебя изо рта шоколадная струйка.
Лежу и сторожу твое дыхание.
Прислушиваюсь к твоему ритму. И пытаюсь дышать с тобой вместе. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох-выдох.
Медленно-медленно. Вот так.
Вдох.
Выдох.
Ты знаешь, мне никогда раньше не было так хорошо и уютно, как в ту минуту. Смотрел на тебя, такую красивую, такую безмятежную, сонную, трогал волосы, выбившиеся из твоего одеяльного кокона, и так захотелось защитить тебя от этой ночи, от каких-то пьяных ночных криков за окном, от всего мира.
Сашенька моя! Спи! Спи спокойно! Я здесь, дышу вместе с тобой.
Вдох.
Выдох.
Вдох.
Выдох.
Вдох.
Выдох.
♥
Заглянула в почтовый ящик – от тебя опять ничего.
Надо готовиться к семинару завтра, а в голове пусто. Наплевать. Сварю кофе, залезу с ногами в кресло и буду сейчас говорить с тобой. Слушай.
Помнишь, было так здорово рассказывать друг другу что-нибудь про детство. Я ведь тебе про себя так много еще не рассказала.
А теперь грызу ручку и не знаю, с чего начать.
Знаешь, почему меня так назвали?
Я в детстве обожала всякие красивые коробочки, шкатулки в нижних ящиках нашего серванта, подолгу разбирала хранившиеся там у мамы браслеты, брошки, игральные карты, открытки – все на свете. И вот в одной коробке я нашла детские сандалики – крохотные, ссохшиеся, кукольные.
Оказалось, что у меня был старший брат. В три года он заболел, его отвезли в больницу. О нем говорили страшное слово – залечили.
Родители сразу решили родить еще ребенка. Взамен.
Родилась девочка. Я.
Мама не смогла принять ребенка, не стала кормить, не хотела меня видеть. Мне все это потом рассказывали.
Меня выходил отец. И меня, и маму.
У моей детской кроватки в деревянной решетке были выпилены три прута, чтобы я могла вылезать. Но это была его кроватка, того ребенка. Я ведь тогда не могла понять, что это для него была лазейка. Это он пролезал. Мне нравилось туда юркнуть, но на самом деле я просто повторяла его движения.
Для меня тот мальчик оставался в какой-то непредставимой жизни до моего рождения, которая если и существовала, то сливалась с какими-то доисторическими временами, но для мамы он был здесь, рядом со мной, – присутствуя, не отлучаясь. Однажды мы ехали на дачу на электричке, и напротив сидел ребенок с бабушкой. Ребенок как ребенок, писклявый, капризный, сопливый, картавый. Все чего-то от своей бабки хотел. Та его без конца шпыняла:
– Да угомонись ты!
И помню, как мама дрогнула, сжалась, когда старуха сказала:
– Саша! Выходим!
Когда мы вышли из поезда, мама на платформе отвернулась и стала отчаянно рыться в сумочке, а я видела, что у нее хлынули слезы. Я захныкала, и тогда она обернулась, стала целовать меня мокрыми губами, успокаивать, что все хорошо, что просто ей мушка залетела в глаз.
– А теперь все хорошо!
Она высморкалась, подкрасила ресницы, хлопнула звонко пудреницей. И мы зашагали на дачу.
Помню, что я именно тогда подумала: хорошо, что тот ребенок умер. Иначе где бы тогда была я? Шла и повторяла про себя мамины слова: «А теперь все хорошо!».
Я ведь не могла не родиться. И все кругом, и все, что было, что есть и будет, – тому простое и достаточное доказательство, даже вот эта горластая форточка, и эти лепешки солнца на полу, и створоженные лепестки от свернувшегося молока вот в этой кружке с кофе, и вот это полинявшее зеркало, что играет с окном в гляделки – кто кого переглядит.
Девочкой я часами вглядывалась в зеркало. Глаза в глаза. Почему эти глаза? Почему это лицо? Почему это тело?
А вдруг это не я? И это не мои глаза, не мое лицо, не мое тело.
А вдруг я – с этими глазами, лицом и промелькнувшим телом – это только воспоминание какой-то старухи, которой я когда-нибудь стану?
Часто я играла, что на самом деле есть две меня. Будто сестрички-близняшки. Я и она. Как в сказках: одна плохая, другая хорошая. Я – послушная, она – оторва.
Я ходила с длинными волосами, и мама всегда ругалась, чтобы я их расчесывала. А она схватила ножницы и назло отхватила косу.
Мы устраивали на даче театр, и все главные роли, разумеется, играла она, а я занавес раздвигала и сдвигала. И вот по ходу действия она должна была покончить с собой. Представляешь, она говорит свои последние слова с ножом в руке, потом со всего размаха бьет себя по голове и заливается настоящей кровью. Все в ужасе вскочили, а она лежит и умирает – и по пьесе, и от восторга. Только я знала, что она натерла свеклу, взяла куриное яйцо, сквозь дырочку высосала, а с помощью шприца, взятого у мамы, ввела этот сок в яйцо и спрятала в парике. Она вскочила вся в свекольной крови и визжит от радости, что смогла всех провести:
– Поверили! Поверили!
Ты просто не представляешь себе, что значит все время зависеть от нее! Ты не представляешь себе, что значит всю жизнь донашивать за ней обноски. Ей, этой принцессе без горошины, всегда покупали новые красивые вещи, а мне доставались они же, но уже старые, противные – донашивать. Наряжают в школу после летних каникул – у нее новые туфельки, а я должна влезать в ее старый плащик с дырявыми карманами, с пятном на лацкане.
Все детство она тиранила меня как хотела. Помню, я провела по полу белую границу мелом, поделила нашу комнату пополам. Так она ее стерла и провела линию так, что я могла только ходить по краю от своей кровати к столу и к двери. Маме жаловаться было бесполезно, потому что с мамой она была сущим ангелом, а когда мы оставались одни, начинала меня щипать и дергать больно за волосы, чтобы я не ябедничала.
Никогда не забуду – мне подарили чудесную куклу, огромную, говорящую, которая закрывала и открывала глаза и даже умела ходить. Стоило мне отвернуться на мгновение, а моя мучительница уже оголила ее, увидела, что чего-то нет, – и пририсовала. Я зарыдала, побежала к родителям – те только рассмеялись.
С ней невозможно было договориться! Я что-то предлагаю, а она топает ножкой и заявляет:
– Здесь будет так, как говорю я, иначе здесь вообще ничего не будет!
Глаза сузились, мечут молнии, и еще верхняя губа дергается, обнажая острые зубки. Сейчас прямо вцепится.
Помню, как я испугалась, когда мама спросила меня, с кем это я разговариваю. Я соврала:
– С собой.
Я понимаю, это происходило, когда мне нужно было, чтобы меня любили. Она появлялась, когда мне нужно было бороться за любовь других. То есть почти всегда – даже когда я была сама с собой. И никогда – с папой. С папой все было по-другому.
И маму, и меня он называл одинаково – зайками. Наверно, ему приятно было крикнуть:
– Зайка! – и обе откликались, одна из кухни, другая из детской.
Когда он приходил домой, то я, прежде чем открыть дверь, должна была, чтобы не впустить чужих, спрашивать:
– Кто там?
Он отвечал:
– Швец, жнец и на дуде игрец.
У него даже вытереть ноги на коврике в прихожей получалось как станцевать.
Он любил приносить странные подарки. Говорил:
– Угадай!
Но угадать было совершенно невозможно. То это был веер, то пиала, или лорнет, чайница, пустой флакон, сломанный фотоаппарат. Один раз принес маску японского театра но. Даже притащил откуда-то настоящую слоновью ногу, пустую внутри, для зонтов и тросточек. Мама ругалась на него, а я от его подарков чувствовала себя совершенно счастливой.
Ни с того ни с сего он мог сказать:
– Брось ты свои уроки!
И мы устраивали концерт. Любили зудеть на гребешках, обернутых папиросной бумагой, от этого ужасно чесались губы. Коробка из-под торта становилась бубном. Отвернув угол ковра на полу, он принимался отбивать чечетку, пока снизу соседи не начинали стучать. Или хватал коробку с шахматами, начинал трясти в ритм, и все внутри грохотало.
Он заставлял меня играть с ним в шахматы, всегда выигрывал и, поставив мне мат, радовался, как ребенок.
Он знал все танцы на свете и учил меня танцевать. Почему-то очень любила гавайский, мы танцевали, не вынимая рук из карманов.
Один раз за столом он сказал, чтобы я не кочевряжилась, а то он мне стакан кефира выльет на голову.
Я сказала:
– Не выльешь!
И вдруг оказалась вся в кефирной жиже. Мама в ужасе, а я в восторге.
Мне никогда не нужно было бороться за его любовь.
Но без папы та, другая я, преследовала меня беспрестанно.
У меня всегда были мучения с кожей, а у нее – гладенькая, чистая. Кожа – это ведь не мешок для внутренностей, это то, чем мир до нас дотрагивается. Его щупальце. И заболевание кожи – это просто способ оградить себя от прикосновений. Сидишь себе, спрятавшись, будто в кокон. Она – та, другая я, ничего этого не понимала. Не понимала, что я всего боюсь – и больше всего быть с другими. Не понимала, как можно в гостях, когда все веселятся, запереться в туалете и сидеть просто так, не снимая трусов. Не понимала, как можно выучить наизусть доказательство теоремы Пифагора, а у доски открыть рот и остолбенеть, оставить свое тело, витать кругом и смотреть, будто со стороны, на себя беспомощную, жалкую, опустевшую. Про Пифагора у меня в голове осталось только, что, когда родители ему, ребенку, показали на столике основные формы, через которые невидимое являет себя людям: шар, пирамиду, куб, шерстяные лоскутки, яблоки, медовые лепешки и кувшинчик с вином, – и назвали их имена, то Пифагор, выслушав объяснения, опрокинул столик.
А сочинения за нее я всегда писала. И получала двойки. При этом учительница зачитывала их перед классом, вздыхая:
– Сашенька, тебе тяжело будет в жизни.
И ставила двойку, потому что я всегда писала не о том. Дают на выбор три темы, нужно писать про первое, про второе или про третье – а я пишу про пятое-десятое. Мне пятое-десятое важнее.
Я была уродка из семейства плеченогих, крыложаберных и мшанок. А она – хоровод Манаимский с глазами как озера Есевонские, что у ворот Батраббима. Я же помню, как меня поразило, каким взглядом смотрит на нее физрук на уроке.
Однажды переодевалась после школы и заметила, что в окне дома напротив кто-то из-за шторы за мной подглядывает в бинокль. Я от ужаса присела под подоконник, а она, наоборот, начала устраивать целое представление.
Когда я была маленькой, она мне говорила ночью, чтобы напугать, что она – ведьма и обладает властью над людьми. А в доказательство приводила свои глаза – левый голубой, а правый – карий. И рассказывала, что у нее были бородавки, а когда мы ночевали в гостях, то она помылась мочалкой в том доме, после чего у нее бородавки исчезли, а у другого ребенка, который там жил, появились. Но главным аргументом были, конечно, глаза. Она говорила, что может кого угодно сглазить. Девчонки ее не то чтобы боялись, но мало ли что. Она действительно умела заговаривать кровь – полижет ранку, прошепчет что-то, и кровь останавливалась.
Она и сейчас не дает мне жить. И никогда не знаешь, когда она снова появится. То исчезнет и нет ее месяцами, то вдруг – вот она я, не ждали?
Издевается надо мной, что я в библиотеке – из жалости к умершим и никому не нужным авторам – беру самые забытые книги, потому что иначе об этих писателях никто и не вспомнит. Мол, сама неряха и растрепа, а понравившиеся мысли подчеркиваю аккуратно, по расческе. Встанет в позу и учит, как старшая сестра: нельзя прожить жизнь такой размазней, нужно научиться быть выше травы и громче воды! Запомни, сестренка, семнадцатое правило Фалеса Милетского: лучше вызывай зависть, чем жалость!
А как она над тобой издевалась!
Помнишь, как сидели на веранде и ели клубнику – кислую, невкусную. Обмакивали ее в сахарный песок. А она придумала обмакивать в мед. Налила себе из банки мед в блюдце и облизывает ложку. И смотрит на тебя. И проверяет свой взгляд в зеркале. А я этот ее взгляд хорошо знаю, когда веселое разноглазое зло уже ее распирает.
Облизнула ложку, взяла двумя пальцами за кончик и вдруг швырнула ее за спину в открытое окно веранды.
И смотрит на тебя.
– Принеси!
Я хотела крикнуть тебе: «Стой! Не смей этого делать!» И не смогла из себя ни слова выдавить.
Ты встал, пошел искать ложку – а там заросли ежевики и одичавшей малины. Вернулся весь исцарапанный, на руках бусинки крови. Молча положил на стол ложку, всю в приставшей земле, сухих травинках, повернулся и ушел.
Она только скривилась на грязную ложку. И дальше как ни в чем не бывало макает клубнику в мед и кусает своими зубками.
Я не выдержала, бросилась за тобой, схватила за руку, хотела, как она, лизнуть царапину, заговорить кровь, а ты отпихнул меня.
– Да пошла ты! – и с таким презрением на меня посмотрел.
Сел на свой велосипед и поехал.
Как же я тебя тогда ненавидела!
Вернее, ее.
Вас обоих!
И как хотела, чтобы с тобой что-то случилось, прямо сейчас, что-то плохое, ужасное, злое.
Я сказала себе, что к тебе не пойду.
И побежала на следующий же день.
Как сейчас все это снова вижу и чувствую кожей: с утра накрапывает, туман залез на забор, все дорожки в лужах. Иду к тебе под зонтом, и на мосту через овраг дождь сыплет сильнее.
Между нашими дачами – кусок леса, там все тропинки развезло, и зелень прет безымянная, это только ты давал растениям имена.
Прохожу мимо ваших соседей на углу, заглядываюсь через забор на розы, огромные, тяжелые, кочанами. Под дождем еще пахучее.
Побоялась подняться по ступенькам на крыльцо, сложила зонт и подкралась к самым окнам веранды. Поднялась на цыпочки и увидела за дождливыми стеклами тебя. Ты лежишь на диване, закинув забинтованную ногу на спинку, и читаешь какой-то толстый том.
Вот, пожелала тебе зла, и ты упал с велосипеда в канаву.
Теперь знаешь, почему ты в тот вечер подвернул ногу и валялся потом в кровати.
Стояла под дождем и смотрела на тебя. Ты почувствовал, поднял голову, увидел меня, улыбнулся.
♠
Да, Сашенька моя дачная, как давно это было и в какой-то совсем другой и далекой жизни.
Так хорошо было лежать и писать всякую чушь в дневнике, прислушиваясь к шороху дождя по крыше и зудению комаров на веранде. Выглянешь в окно – там яблони от тумана безногие. На бельевой веревке прищепки мокнут, с них каплет.
Из-за дождя читать темно – включаешь среди дня свет.
Положил томище Шекспира на колени – на нем в тетрадке писать удобно.
А длинные сосновые сдвоенные иглы были закладкой.
Знаешь, о чем я тогда писал? О Гамлете. Вернее, о себе, что вот и у меня умер, а может, и не умер отец, а мать вышла замуж за другого, да еще и слепого, но совершенно непонятно, почему все должны травить друг друга и пронзать острыми предметами, не заливая при этом сцену кровью. А если все умрут без всяких надуманных злодейств и интриг, просто так, сами по себе, прожив жизнь – это что, уже не будет Гамлет? Да еще страшнее! Подумаешь, призрак отца! Детские страшилки.
И чего стоит яд, налитый в ухо!
И почему все начинается только с его возвращения в отчий замок, а что же, до этого он не был Гамлетом? Ведь еще ничего не случилось, занавес еще не открылся, Бернардо с Франциско еще не начали пререкаться, хотя в уставе все четко оговорено, – но он уже Гамлет.
А ведь это и есть самое интересное – что было с ним до всех этих встреч с призраками, отравлений, глупых театральных трюков, вроде прятаний за ковер.
Жил себе – вот как я живу. Без всяких предсмертных монологов в стихах.
И нужно написать его жизнь до. Например, как в детстве играл в почтальона – брал охапку старых газет и рассовывал в почтовые ящики. И как в школе на переменках прятался с книжкой в раздевалке и в библиотеке – над ним издевались и самые трусливые, и самые слабые – вымещали то, что терпели от других. Знаешь, кстати, какое у меня было первое разочарование в литературе? Прочитал, как средневековые шуты задают своим сеньорам каверзные вопросы, а те старательно на них отвечают и каждый раз попадают впросак, и вот на перемене тоже попробовал спросить что-то простодушно-едкое у своих мучителей, а те, не дослушав, – хлоп меня по ушам!
А про Гамлета еще нужно рассказать, как однажды он купался в озере, к нему подплыл один дядечка и сказал: «Мальчик, ты неплохо плаваешь, но твой стиль нечистый. Давай я тебе покажу!»
И вот этот учитель плавания поддерживал снизу, и рука все время соскальзывала с живота все ниже и ниже, будто случайно.
И про голубятню. В детстве, когда мы еще жили на старой квартире, во дворе сосед держал голубятню, и когда он ждал возвращения своих голубей из полета, то смотрел не в высоту, а в таз с водой, объяснял, что так видней небо.
Еще я писал, что хочу стать самим собой. Я еще не я. Не может быть, чтобы вот это было мной. Хотелось вырваться из календаря.
Вот, вырвался.
Хорошо, что ты не видишь, где я сейчас и что вокруг. Не описываю это, и оно вроде не существует вовсе.
Помнишь, у тебя на полке были красивые камушки, которые ты когда-то привезла с моря? Ты однажды взяла круглую гальку и вставила ее себе в глаз, будто монокль. Я эту гальку забрал, и она лежала на подоконнике. И все время на меня смотрела. И вдруг я понял, что это и есть чей-то зрачок. И он меня видит. И не меня только, а вообще – все. Потому что перед этой галькой – она даже не успеет моргнуть – все промелькнет, исчезнет, и я, и эта комната, и этот город за окном. В ту секунду я почувствовал всю ничтожность и всех прочитанных книг, и всех исписанных мной тетрадок, и стало так не по себе. Такая охватила тревога. Вдруг осознал, что, наоборот, на самом деле этот зрачок ни моей комнаты, ни меня не только не видит, но и вообще не может увидеть даже при всем желании, потому что я для него промелькну так быстро, что он и не успеет ничего заметить. Он – настоящий, существует, а я для него разве существую?
А для самого себя я существую?
Существовать – это что? Знать, что ты был? Доказывать себя воспоминаниями?
Что ему мои руки, ноги, родинки, урчащие от перловки кишки, обкусанные ногти, мошонка? Таламус? Мои детские воспоминания? Однажды на Новый год я проснулся рано утром и побежал босиком к елке смотреть подарки. В комнате везде спали гости, а под елкой ничего не было – подарки купили, но просто – после шампанского с водкой – забыли положить. Пошел на кухню и проплакал там, пока мама не встала. Глупость?
Наверно, чтобы стать настоящим, необходимо существовать в сознании не своем, которое так ненадежно, подвержено, например, сну, когда сам не знаешь, жив ты или нет, но в сознании другого человека. И не просто человека, а того, кому важно знать, что ты есть. Вот я знаю, Сашенька моя, что ты существуешь. А ты знаешь, что я есть. И это делает меня здесь, где все шиворот-навыворот, настоящим.
А еще я в детстве чудом избежал смерти – встал ночью в туалет, а на кроватку рухнули полки с книгами.
Но по-настоящему я задумался о своей смерти в первый раз в школе на уроке зоологии. У нас был старый учитель, больной, и он предупредил, чтобы мы положили ему в рот таблетку из его кармашка, если упадет без сознания. Таблетку положили, но она не помогла.
Он всегда протирал очки галстуком.
Сначала он преподавал ботанику, и я его так любил, что собирал без конца гербарии, а потом решил стать, как он, орнитологом.
Он очень смешно сокрушался, что исчезают разные растения и птицы.
Стоит у доски и кричит на нас, будто мы в чем-то виноваты:
– Где теневой безвременник? Где рыхлая осока? Где кальдезия? А летний белоцветник? А василек Дубянского? Что молчите? А птицы! Где птицы? Где черный орлан? Где ястреб-бородач? Где каравайка? Я вас спрашиваю! А красноногий ибис! А мраморный чирок! А тювик! Где тювик?
При этом он сам становился похож на какую-то взъерошенную птицу. У всех учителей были прозвища, его звали Тювиком.
Знаешь, о чем я мечтал? О том, что вот я когда-нибудь встречусь рано или поздно с моим отцом, и он скажет:
– Покажи-ка мне твои мускулы!
Я согну руку и напрягу мышцы. Папа обхватит мой бицепс и удивленно покачает головой, мол, ну ты даешь! Молодец!
А про невидимый мир я все понял, когда бабушка устроилась летом работать на дачу для слепых детей и меня взяла с собой.
Я уже с детства привык, что у нее дома есть разные слепые вещи. Например, она раскладывала пасьянс особыми картами с наколками в верхнем правом уголке. На день рождения она подарила мне шахматы – специальный набор, в котором фигуры разных размеров – белые больше черных. И шепнула маме, а я услышал:
– Они там все равно не играют.
На той даче было сначала странно, но потом даже понравилось – вдруг почувствовал, что стал невидимкой.
Вот идет какой-нибудь мальчик с лейкой в руке, слегка касаясь ногой бордюра дорожки, а я прохожу мимо, и он меня не видит. Но это мне только так казалось. Часто меня окликали:
– Кто здесь?
На самом деле спрятаться от слепого очень трудно.
Утром у них была зарядка, а потом целый день занятия, игры. Сначала непривычно было смотреть, как они выбегают на зарядку цепочкой, держась одной рукой за плечо переднего.
Во дворе в клетках жили кролики, за которыми они ухаживали. Была целая трагедия, когда однажды утром клетки оказались пустыми – украли.
С ними много пели. Почему-то считается, будто слепые обладают исключительными музыкальными способностями, особо тонким слухом и будто все они прирожденные музыканты. Ерунда, конечно.
Каждый день занимались лепкой. Одна девочка слепила птичку, которая сидела на ветке, как человек на стуле.
Вообще, уроки у них проходили совсем не как у нас в обычной школе. Помню, меня поразило, что на занятиях они должны были окунать руку в аквариум и трогать рыбок. Показалось, так здорово! Я потом, когда в комнате никого не было, подошел к аквариуму и закрыл глаза. Закатал рукав и опустил руку в воду. Прекрасная золотая рыбка на ощупь оказалась какой-то склизкой гадостью. И вот именно в ту минуту мне стало страшно – по-настоящему страшно, что и я могу когда-нибудь ослепнуть.
А для них быть слепым – нестрашно. Незрячий боится оглохнуть. Он боится тьмы в ушах.
И вообще, слепоту придумали зрячие.
Для слепого что есть – то есть, он с этим и живет, из этого и исходит, а не из того, чего нет. Страдать из-за того, чего нет, еще надо научиться. Мы же не видим цвета справа от фиолетового, и ничего. Если чувствуем себя несчастными, то не от этого.
Бабка их всех жалела, и они к ней льнули. Иногда мне казалось, что она их больше любит, чем меня. Ерунда, конечно, но тоже хотелось, чтобы она вот так же погладила меня по затылку, прижала к своей необъятной груди и вздохнула ласково:
– Ах ты мой воробышек!
Их она никогда не стегала хворостиной, а мне доставалось.
Я все хотел расспросить ее про отца, но почему-то боялся.
Вообще она мало рассказывала. Одну семейную историю я узнал от нее, когда подрос. Ее бабка родила ребенка совсем еще юной девицей. Уверяла, что зачала непорочно, но никто ей не верил. О партеногенезе тогда и не слыхали. Как раз начался ледоход. Она пришла ночью на реку и положила свой кулек на льдину.
Помню, что долго не мог избавиться от той картины – ночь, льдина плывет, и кулек визжит.
А через много лет я прочитал Марка Аврелия и утешился. Там он сформулировал так: вот поросенка несут, чтобы принести его в жертву, поросенок вырывается и визжит. А чего он визжит?
Ведь всякое живое существо и всякая вещь каждое мгновение вот так вырывается и визжит. Просто нужно во всем услышать этот визг жизни – в каждом дереве, в каждом прохожем, в каждой луже, в каждом шорохе.
♥
Так хочется прижаться к тебе и рассказывать что-нибудь глупое-глупое, дорогое-дорогое.
Помню, как родители меня привезли впервые на море – может, и не впервые, но именно тогда я в первый раз запомнила, как сначала меня вобрал в себя рокот прибоя, взял в кулак и так и носил все лето – в кулаке.
Так отчетливо помню, как мы стали спускаться по кривым улочкам, и море поднималось все выше и выше, раздвигало горизонт, как локтями, все в солнечных уколах, и как дохнуло мне в нос солью, водорослями, нефтью, гнилью, простором.
Выбежала на мостик, а он взорвался от прибоя – и я сразу получила от моря мокрую пощечину.
Настил набережной – дощат, от брызг прозрачен, будто дыры в небо, и в досках отражение чаек.
Мол бел. Помет.
Водоросли – рвань.
Коряга ошкурена морем.
Парус ложится вровень с волной.
Каждый день пляж, где проветривают подмышки.
Такое счастье бегать по мелководью, поднимая тучи брызг, сверкающих на солнце!
Галька раскалена, в прибое шипуча. Волны бьют по лодыжкам и тянут за собой в глубину, хватают за ноги, хотят повалить, утащить.
Проворные черные мухи прыгают по комкам морской травы, выброшенным недавним штормом. Волны подкрадываются искоса, и испуганные мушки то и дело взлетают.
Бутылочные стеклышки – морские леденцы – море пососало и выплюнуло. Я их собираю и угощаю родителей.
Папа начинает строить со мной замок из камушков, из песка, мы роем водяной ров, строим стены, башни, он увлекается, входит в раж. Я украшаю башни осколками раковин, флагами из конфетных оберток, а он кричит на меня, чтобы я не мешала. Я на него обижаюсь – ведь это мой замок он строит, для меня! Потом вдруг приходит волна и все рушит. Я в слезы, папа тоже расстроился. Тогда он с отчаяния начинает доламывать то, что осталось. И я с ним. Мы скачем по остаткам нашего замка и опять счастливо хохочем. Он сгребает меня в охапку и тащит в море, мы падаем в прибой. Он дурачится, ныряет, складывает перед нырком ладони, будто для молитвы.
Вода такая прозрачная, что видны алые ногти на пальцах ног – я их покрасила маминым лаком. Зажимаю нос, лезу с головой под воду, папа держит меня, я плыву, уши заложены, а подо мной бирюзовая бездна, и там, на дне, камни поросли шерсткой, и она шевелится. Вынырнешь – и кругом опять грохот.
Доплываем до деревянных мостков. Столб за долгие морские годы отрастил себе бороду из водорослей – пугает ею мальков.
Мимо проплывает широкая волосатая спина.
Я хочу все время забраться подальше от берега, на глубину – папа не пускает, я принимаюсь его топить, хватаю за плечи, тяну за уши, за волосы – он отбивается, хватается за скользкий столб, выныривает, фыркает, капли блестят на ресницах, он хохочет. Вылезаем на деревянные мостки, идем по настилу, стараясь не занозить ноги о доски, шершавые, изъеденные солью. Бежим к маме, оба трясемся, кутаемся в полотенца, стучим зубами.
Папа все время спрашивает меня:
– Который час?
Он подарил мне часики – детские, ненастоящие, с нарисованными стрелками. Я смотрю на них с гордостью и отвечаю:
– Без десяти два.
На них всегда без десяти два.
На солнце пощипывает кожу от соли.
Мама загорает на широком полотенце, сбрасывает бретельки, чтобы плечи загорали ровно, и просит отца расстегнуть застежку на лифчике. Рядом лежит прямо на гальке мужчина с крепкими футбольными ляжками, смотрит на нее.
Мама делает вид, что ничего кругом не замечает.
Мужчина приподнимается на локтях, чтобы заглядывать туда, где примяли полотенце ее груди, круглые, тяжелые, широко расставленные.
Я тогда еще ничего не понимала.
Вернее, я тогда уже все понимала.
Отец ловит эти взгляды. В его глазах удовольствие хозяина. Ему приятно, что у него есть то, о чем другие мечтают.
Несколько раз мы видели на пляже очень странную пару. Молодые, красивые, влюбленные. У нее не было ноги по колено. Я запомнила, как она загорала, раздвинув ноги – без десяти два. На них смотрел весь пляж, когда он брал ее на руки и нес в море. Там они брызгались, визжали, уплывали далеко, до самых буйков. Когда они возвращались и вылезали из воды, она смеялась, вырывалась из его рук, скакала на одной ноге к своему полотенцу. Люди замирали, глядя на них, то ли ужасаясь, то ли завидуя.
Я, только что из воды, набрасываюсь на маму, ледяная, облепленная мокрым песком, залезаю на нее верхом, ерзаю мерзлыми трусиками по жаркой спине. Мама визжит, сбрасывает меня и отправляется купаться – обстоятельно, как все, что она делает. Не спеша застегивает лифчик, заломив руки за спину. Поправляет бретельки, надевает белую резиновую шапочку, подолгу пряча в нее волосы. Медленно, будто проверяя каждый шаг, спускается к воде. Я прыгаю вокруг нее, осыпая брызгами, она взвизгивает и кричит, чтобы я прекратила, норовит шлепнуть меня по попе. В купальной шапочке у нее голова вдруг становится совсем маленькой.
Помню, как она присела в воде, подгребая бескостными руками – под водой казалось, что руки и ноги без костей, – и вдруг в прозрачной воде я увидела, что она писает. Мне тогда почему-то показалось это очень странным, но сказать что-то я испугалась.
Она заплывала очень далеко, и ее резиновая шапочка качалась на волнах, как шарик от пинг-понга.
Мы с папой сидели в прибое и смотрели на маму. Так все было чудесно! Сижу, шевелю пальцами воду, волны раздвигают ноги. Кругом только счастливые люди, счастливые крики, счастливые волны, счастливые ноги.
Я потом только поняла, что отец вовсе не умел плавать. А мама плавала подолгу, и я каждый раз начинала переживать за нее, но папа только смеялся:
– Куда наша зайчиха-пловчиха денется! Ее топи – не утопишь!
Вот мама вылезает, вытирается – и снова мужчина с футбольными ляжками смотрит на нее, как она промакивает себе полотенцем купальник на груди, на животе, под мышками, между ног.
Мама ложится на живот и снова сдвигает бретельки лифчика, читает книжку. Я сажусь рядом, начинаю заплетать ей косички.
Морская вода, высыхая, оставляет на ее коже кристаллики соли.
Над нами носятся чайки, и мне кажется, что они заплетают косы ветру.
Потом ложусь у мамы под боком и закрываю глаза. Шелест волн – будто кто-то без конца переворачивает страницы.
И засыпаю счастливая.
Просыпаюсь от грома. Вокруг темно, резкие холодные порывы ветра. Вот-вот начнется гроза. Все бегут с пляжа. Первые капли бьют по голому телу, как брошенные гальки.
Мы хватаем наши вещи, бежим. Ветер дует так сильно, что опрокидывает шезлонги, по пляжу мечутся полуголые люди и ловят свои улетевшие зонты, полотенца, юбки. Море уже серое, неприкаянное, гонит беспорядочные волны. Еле успеваем добежать до нашего дома – начинается ливень. Лезу с мамой под душ – она распускает мне косички, чтобы вымыть соль из волос. Прижимаюсь к ее холодной коже, собравшейся мелкими пупырышками.
Потом сижу на диване, завернувшись в одеяло, и жду папу, обещавшего мне почитать книжку, а он моется в душе и поет какую-то арию.
Папа был тогда дирижером.
Я не находила в этом ничего особенного.
Он мне рассказывал, как его отец, мой дед, скрипач, репетировал дома, и папа-мальчик брал две палочки и, пока тот играл на скрипке, повторял движения.
Помню, как папа, когда я была совсем маленькая и ужасно любила вертеться на винтовом табурете, играл со мной на фортепьяно: кластеры в басах на педальных поддержках изображали тучи. Высокие отрывистые звуки, схваченные педалью, таяли редкими снежинками в воздухе. А летний дождик получался так: только указательные пальцы – одна рука по черным, другая по белым клавишам – быстро-быстро перескакивали со звука на звук. У него была широкая рука – брала полторы октавы.
Еще мне запомнилось, как он открыл крышку, показал мне инструмент внутри и сказал:
– Видишь, как странно все устроено – в каждом сложном, необъяснимом есть что-то простое – мы всего-навсего стучим войлочными молоточками.
Он заставлял меня заниматься на фортепьяно, и я в конце концов возненавидела наш «Рениш».
Упражняюсь дома, играю бесконечные гаммы и арпеджио, а он мне говорит:
– Не хмурься!
У меня от напряжения намечалась морщина между бровей – совсем как у него.
Когда отца не было, я жульничала: ставила на пюпитр поверх нот книгу и читала ее, играя бесконечные упражнения вслепую. Однажды он застал меня за этим занятием и ужасно ругался. Стал бегать по квартире и кричать, что мне слон на ухо наступил, и за что ему такое наказание. Сказал, что природа отдыхает на детях гениев. Я от этого начинала давиться слезами и играла еще хуже. Раньше он никогда на меня не кричал. Мне казалось, что моего папу подменили, что это не он. Не могла этого тогда понять. А он просто вошел в роль и никак не мог из нее выйти.
Во время моей игры он садился на корточки, чтобы посмотреть, не провисает ли у меня ладонь, от фальшивой ноты дергался и стонал, будто прикусил язык, а один раз, когда я вместо указанных пальцев четвертого и пятого, думая, что он не заметит, играла трель вторым и третьим, он так вышел из себя, что чуть не прибил меня растрепанным Черни.
В конце концов в комнату заглядывала мама с мокрым полотенцем на лбу и требовала тишины. Не знаю, действительно ли ее мучила мигрень или это она просто так спасала меня.
Помню, как он возвращается поздно вечером – злой, сморкается и жалуется, что весь концерт боролся с насморком. И переживает, что на бис исполнили что-то не то. И даже фрак его, который мама повесила проветриться на балкон, все никак не мог успокоиться, все дирижировал.
Еще помню, как он репетировал дома, в трусах, поставив пластинку с какой-то симфонией. Я наблюдала за ним сквозь щель в двери, как он дирижировал нашими стульями, столом, книжными полками, окном. Сервант был ударными. Ковер на стене – духовыми. Чашки с неубранным завтраком на столе – скрипками. Он тыкал палочкой в диван, и тот сразу отзывался басами. Взметнул пальцы к настольной лампе – заиграл далекий рожок. Он так размахивал руками и весь ходил ходуном, что лил градом пот и с носа слетали капли.
Мама заглянула и сказала, чтобы он лучше поменял перегоревшую лампочку в люстре, но папа закатил глаза, не переставая мотать головой, и захлопнул перед ее носом дверь.
В финале он схватил все звуки в кулак под самой люстрой и задушил.
Когда его не было дома, я брала без спроса футляр, в котором хранилась его дирижерская палочка, ставила пластинку на полную громкость и тоже принималась дирижировать. Выходила на балкон и дирижировала нашим двором, и соседними домами, и деревьями, и лужами, и собакой с поднятой ногой у дерева, и облаками. Но больше всего мне нравилось в финале душить музыку в кулаке.