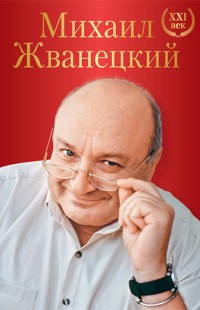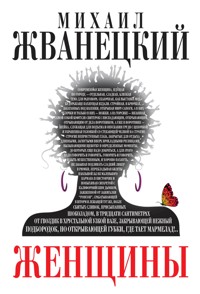5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Здесь все самое летнее для создания солнечного настроения, особенно в холодное время года. Юг Большой страны. Жизнь. Люди. Разговоры. Все происходит в Одессе. Смешно, трогательно, незабываемо - самое настоящее море. Море положительных эмоций и смеха, который, как известно, продлевает жизнь!В книге Михаила Жванецкого "Южное лето (Читать на Севере)" – юмористические размышления писателя-сатирика, руководителя Московского театра миниатюр. Место действия – Одесса.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Михаил Жванецкий Южное лето (Читать на Севере)
Извините!
Пишу коротко.
Что-то во мне так распорядилось.
Здесь – летнее.
Юг Большой страны.
Жизнь.
Люди.
Разговоры.
Открытое окно…
Помогли открыть:
Саша Сысоев – прокатный цех Нижнего Тагила,
Олег Сташкевич – прокатный цех Театра Миниатюр и Борис Иосифович Минц, которому я благодарен за предложенную помощь и особенно за честь выступить на закрытии Старого Политехнического музея.
Нам 2оо лет (1994 г.)
Семь лет назад я желал Одессе стать центром Юга. Чтоб была масса мест индивидуального отдыха вместо одного места массового отдыха, ибо массового отдыха не бывает, писал я.
Как ни странно, многое сбылось.
Чтоб рыба заходила, писал я.
Вошла. Никто не предполагал, что это будет связано с падением производства. То есть раньше одесситы, которые работали, не могли купить рыбу, потому что её не было. Теперь они не могут купить рыбу, потому что не работают. Но рыба есть.
Чтоб было много кафе, ресторанов, магазинов.
Они есть. Товар, конечно, иностранный. Конечно, жалко отечественного производителя, но нельзя из жалости к нему ничего не жрать в едином порыве.
Пусть повсюду звучит музыка, и мы красивым летним вечером все в белом будем гулять от музыки к музыке.
И это есть! И мы ходим. Я раньше бегал вдоль Аркадии, отмечая расстояние по туалетам: две вони, три вони, четыре, четыре с половиной вони, и я отдыхал. С возрастом счёт пошёл назад: пять воней, четыре вони, три… Эх бы музыка… Сбылось!
Новая жизнь наложилась на старую – сквозь вонь звучит музыка или воняет сквозь мелодию.
В общем, жить стало веселей.
Теперь – вода! Я мечтал, чтоб вода текла не по статистическим данным, а по трубам… Не течёт. Не сбылось. То есть – через крышу, через стены, через потолок, но не через трубу… Не сбылось. Если б с таким же напором, с каким велась предвыборная борьба… Нет-нет. Сейчас пошучу… Если б из трубы хлынуло то, что хлынуло из телевизора… Нет… Мы бы подохли… Нет… Если б такой же напор, какой был, нет – бил, нет – был, нет – бил в водопроводе… Нет-нет… Сейчас пошучу… То есть поменять напорами, то есть источник один, но поменять отверстия… Вот… Короче, шучу: не наберёшь там, где хочется, а наберёшься там, где не надо.
И помыться бы. Причём, горячей водой.
Это древнее изобретение человечества: мыться горячей водой. Не стоит его отбрасывать, как устаревшее. Можно, конечно, поливать отдельные места из чайника. Одесситы всегда славились отдельно помытыми местами. Я сам принял первую ванну в 33 года, в возрасте Христа, в Ленинграде, и с тех пор очень хочется помыться. Это частным образом не устроить, вода, как при социализме, течёт централизованно, то есть всё, что зависит от людей, сделано, осталось то, что зависит от руководства.
Что мне ещё нравится – количество кафе. Теперь в успешной борьбе с преступностью можно двигаться перебежками от кафе к кафе, можно скрыться в цветном фонтане, можно прикинуться посетителем и упасть за столик, можно прикинуться собакой хозяина. В общем, в борьбе с преступностью спрятаться уже есть где. И перекусить можно вполне прилично немецкой штучкой хамбургер, или, по-одесски – хербурхам, где очень приличная котлетка «как у мамы» с очень приличной булочкой.
И выборы – свободные.
Сбылось… Правда, мы сначала выбираем, а потом гадаем, правильно ли мы выбрали. Но выбираем правильно. А вот того или не того?
Но правильно. В этой ситуации, когда оба поливают друг друга и показывают друг на друге все язвы, всё равно надо выбрать, и второй сразу затихает и уже тише на половину, на одного. Конечно, до сих пор непонятно, почему так рвутся на места, где одни неприятности и тяжёлый бескорыстный труд на благо народа. Но тут важно, как бойцы поведут себя в мирное время, потому что боевые друзья – это ещё не водопроводчики. Но мы жаждем исключений, и первые шаги новых людей обнадёживают. Они уже хорошо знают разницу между богатыми и бедными, но ещё не чувствуют разницы между бездарными и талантливыми. Эту разницу должны показать им мы. Работать надо, надо работать.
На «Плитах» недаром появились первые люди с трудовым загаром. То есть кисти, шея, декольте от майки, одно колено от дыры в штанах. Наконец-то! Спрашиваю: «В поле?» Нет, говорят, на базаре. Хотя турецкий базар сдаёт, не обеспечивает наш город. Уже и качество падает из низкого в мерзкое, уже и наши путаны им надоели, зато мы все в турецком. Объевшись турецким шоколадом, опившись турецким лимонадом, хрустя турецкой кожей, одесская красавица уже и смотрит турецким взглядом.
Но одесская красавица есть красавица, ибо состоит из смеси разных кровей.
И кто вопит: Россия – для русских, Украина – для украинцев, Молдавия – для молдаван, – пусть приедут и посмотрят на одесскую женщину.
Красавица – есть красавица.
Молодая – мучение.
Пожилая – наказание.
И всё это в рамке, которая называется «любовь».
И не говорите мне, что жизнь стала хуже. Если вдруг прекратится это время…
Если вдруг победят они, кто стонет и плачет и не может забыть диких очередей за водкой. Если вдруг победят они, кто не помнит, что каждый вызов в ЖЭК, в ректорат, в гороно, в партбюро был вызовом в суд, и судили всех и за всё: за мысли, за разговоры, за танцы, за молитвы, за одежды. Они ходят среди нас, те, кто нас судил.
Если вдруг победят они, мы будем сегодняшний день вспоминать как самый светлый день в жизни. Ибо мы были свободны!
А Одесса есть движимая и недвижимая.
Одесса недвижимая – где каждое поколение кладёт свой камень. Талантливый или бездарный – зависит от того, как развивается данный момент. И она стоит – эта Одесса подмазанная, подкрашенная, где-то со своими, где-то со вставными домами, неся на себе отпечатки всех, кто владел ею.
А есть Одесса движимая. Движимая – та, которую увозят в душе, покидая.
Она – память.
Она – музыка.
Она – воображение.
Эта Одесса струится из глаз.
Эта Одесса звучит в интонациях.
Это компания, сплотилась в городе и рассыпалась на выходе из него… И море… И пляжи. И рассветы. И Пересыпь. И трамваи. И все, кто умер и кто жив, – вместе.
Здравствуй, здравствуй.
Не пропадай.
Не пропадай.
Не пропадай…
Учителю
Борис Ефимович Друккер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас с седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодур и деспот, лысый, в очках, которые в лоб летели любому из нас. Ходил размашисто, кланяясь в такт шагам. Бешено презирал все предметы, кроме своего.
– Бортник, вы ударник, он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не потому, о чём вы думаете, кстати, «потому, о чём» – вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше.
Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чём вы думаете, Лурье? Как написать «стеклянный, оловянный, деревянный»? Вы думаете о шахматах: шах – мат. Вы мне – шах, я вам – мат. Это будет моя партия, я вам обещаю. И вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской.
Повернись. Я тебе дал пять. О чём ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдёте общий язык. Пусть он гибнет один.
Внимание! Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает: я ему дал два. Он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам ещё два, чтоб ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Красным я отмечал ошибки. Это кровавая, простреленная в шести местах тетрадь. Но я тебе дал три с плюсом, тебе и маме.
Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорьянца. Вы будете плакать над ним, как плакал я.
Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели, а сейчас смотри на меня до боли, до слёз, до отвращения!
Борис Ефимович Друккер! Его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или в 47-м. Мы это знали. От этого нам было тоже противно: брат врага народа.
Борис Ефимович Друккер, имевший в классе любимчиков и прощавший им всё, кроме ошибок в диктанте.
Борис Ефимович Друккер, никогда не проверявший тетради. Он для этого брал двух отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли ошибки, и он, видимо, это знал.
Борис Ефимович Друккер брызгал слюной сквозь беззубый рот – какая жуткая, специфическая внешность.
Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друккер, умерший в пятьдесят девять лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом – мы уже все разъехались.
Мы собрались сегодня, когда нам – по сорок. «Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую и вечную память о нём», – сказали закончившие разные институты, а всё равно ставшие писателями, поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. «Встанем в память о нём, – сказали фотографы и инженеры, подполковники и моряки, которые до сих пор пишут без единой ошибки. – Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрёпанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык – его язык, ставший нашим. И во веки веков. Аминь!»
Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына (август 1991 г.)
Ну, что ж, отец. Кажется, мы победили. Я ещё не понял кто. Я ещё не понял кого. Но мы победили. Я ещё не понял победили ли мы, но они проиграли. Я ещё не понял, проиграли ли они вообще, но на этот раз они проиграли.
Помнишь, ты мне говорил: если хочешь испытать эйфорию – не закусывай. Это же вечная наша боль – пьём и едим одновременно. Уходит втрое больше и выпивки, и закуски.
Здесь говорят об угрозе голода. Но, если применить твоё правило, голода не будет. Всё будет завалено. А пока у нас от питья и закусок кирпичные рожи лиц и огромные животы впереди фигуры, при которых собственные ноги кажутся незнакомыми.
Так вот. В середине августа, когда все были в отпуске и я мучился в Одессе, пытаясь пошутить на бумаге, хлебал кофе, пил коньяк, лежал на животе, бил по спинам комаров, испытывал на котах уху, приготовленную моим другом Сташком вместе с одной дамой, для чего я их специально оставлял одних часа на три-четыре горячего вечернего времени, вдруг на экране появляются восемь рож и разными руками, плохим русским языком объявляют ЧП, ДДТ, КГБ, ДНД…
До этого врали, после этого врали, но во время этого врали как никогда. А потом пошли знакомые слова: «Не читать, не говорить, не выходить. Америку и Англию обзывать, после 23 в туалете не…ать, больше трёх не…ять, после двух не…еть». А мы-то тут уже худо-бедно, а разбаловались. Жрём не то, но говорим что хотим. Даже в Одессе, где с отъездом евреев политическая и сексуальная жизнь заглохла окончательно, – встрепенулись. И встрепенулись все! Кооператоры и рэкетиры, демократы и домушники, молодые учёные и будущие эмигранты.
Слушай, пока нам тут заливали делегаты, депутаты и кандидаты, мы искали жратву, латали штаны, проклинали свою жизнь, но, когда появились ЭТИ, все вдруг почувствовали, что им есть что терять. Не обращай внимания на тавтологию, в Одессе это бич. Слушай, я такого не видел. По городу ходили потерянные люди. Оказывается, каждый себе что-то планировал. Слушай, и каждый что-то потерял в один день. Вот тебе и перестройка, вот тебе и Горбачёв.
Одна бабка сказала: «А я поддерживаю переворот. Масло будет». Её чуть не разорвали…
– Масла захотела! Она масла захотела! Ты что, действительно, масла захотела?! Вы слышали, она масла захотела!
– Кто масла захотел?
– А вон та, в панаме.
– Это ты, бабка, масла захотела?
– Она, она.
– Иди, ковыляй отсюда. Масла она захотела!
А настроение было хреновое, отец. Я затих. Опять, думаю, буду знаменитым, опять в подполье, если не глубже. А твой проклятый солнечный город у моря и в мирное время отрезают ото всех киевским телевидением. Ни одной новой московской газеты, ни одной передачи, а тут вообще, всюду радио и из каждой подворотни: «…запретить, не ходить, не…ать, не…ить».
Так что сижу – жду звонка. Звонит наша знаменитая певица, ты уже её не знаешь, отец. Перелезла она через забор своего санатория, и пошли мы с ней на пляж «Отрада». Жара. Народу полно. «Эй, – кричит она, – вставайте. Вы что, не знаете, что чрезвычайное положение?» Все сказали: «Не знаем». А кто-то сказал: «Знаем». А кто-то сказал: «Нам вообще на это дело…» А кто-то даже головы не поднял.
– Вы что, с ума сошли? – закричала она. – Это я, Пугачёва! Вставай, народ!
Тут их всех как ветром собрало.
– Ты смотри, – закричали они, – Алла Борисовна! Сфотографировать можно?
– Давай, – закричала она, – только с этим, со Жванецким давай.
– Давайте, – закричали тридцать фотографов. – А автографы можно?
– Нет, – сказала хитрая певица, – это плохая примета.
Никто не понял, но все согласились.
– Чрезвычайное положение, всё запрещено, – вскричала она, – поэтому мы все сейчас пойдём на другой пляж. Сколько нас здесь?
– Человек пятьсот.
– Мало. Ещё давай. Митинги запрещены, но у нас не митинг, а демонстрация. Что будем делать, если нас арестуют?
– Перебьём всех, – радостно ответила толпа.
– Тогда пошли на другой пляж. Там ещё людей соберём.
Все пятьсот с фотографами и детьми пошли на соседний пляж, там присоединилось ещё пятьсот.
– А теперь все в воду, – закричала певица, – как на крещении.
– Сейчас я разденусь, – крикнул один.
– Не раздеваться! Кто в чём. Чрезвычайное положение.
И все вошли в воду. Пятьсот и еще пятьсот и запели: «Вихри враждебные веют над нами», и запевалой была она, и они были хором. А я на берегу проводил летучий митинг-беседу с теми, кого интересовало, что такое ЧП, ДП, КГБ, КПУ.
– А теперь, – сказала Алла опять гениально, – вы все останетесь здесь, а мы пойдём.
И мы пошли. А из всех щелей Одессы дикторы Всесоюзного радио шипели: «…запретить, сократить, наказать, посадить». Настроение у нас стало прекрасным. Мы были наконец вместе со своей публикой, и мы не знали, мы не знали, мы, к стыду своему, не знали, что в Москве народ вышел против танков.
Представляешь, отец, когда ты жил, люди боялись анекдотов, когда я жил, люди боялись книг, теперь, когда живут они, они не боятся танков. Вот что значит людям есть что терять. Тавтология наш бич.
В общем, когда в Одессе так всё плавно шло в пропасть, в Москве начались загадки. Те восемь побежали, не потерпев как следует поражения. Они поехали к тому, кого свергли, жаловаться на провал. Но он их не принял. Он сидел в заключении, окруженный крейсерами, и не мог выйти. Он, оказывается, был здоров.
Он не то что не принял заговорщиков, он их послал по-русски, и они сидели в приёмной как побитые курицы вместе со своими танками и самолётами. Он сказал: «Почините мне телефон немедленно». Они тут же ему починили. И он разжаловал их всех по телефону, чтоб не видеть их в глаза, хотя ближе них у него никого не было.
– Пусть теперь никого и не будет, – сказал он и пошёл к врагам, раскрыв объятия.
Враги встретили его как родного. А хуже друзей у него никого не было. И к нам приехал совсем другой человек. Уже четвёртый президент за последние полгода. Сейчас это решительный, твёрдый, неумолимый, даже слегка кровавый демократ. Никто не знает, что он делал эти три дня. Про его друзей знают, кто чем занимался до мелочей. А что делал он – не знает никто. Но мы его безумно любим, потому что и так нет продуктов, топлива и одежды, ещё его не будет, такая скука зимой будет, вообще помрём.
Тот второй, что его заменил, покрепче, но не умеет выражаться, не сообразив. Наш выражается запросто. Не думая. Спроси его: «Как вы относитесь к указам предыдущего?» – «Я пришел в семь утра», – скажет он…
Ни на один вопрос не отвечает, хотя смотрит приветливо, чем и завоевал всеобщее уважение. А тот, который завоевал всеобщую любовь, крепко думает. Это видно. И выражается, хорошо подумав, чем уже навлёк на себя и на всех нас огромные неприятности.
Но это всё неважно, отец. Мы сейчас все кайфуем!
Во-первых, мы разбились по республикам окончательно. Хотя у нас единое экономическое, политическое, полуголодное и больничное пространство, но на этом пространстве нет ни хрена и не ходят поезда. Самолёты преодолевают это пространство, стараясь не садиться. Но мы сейчас все разбились по республикам. Все выставили таможни. Потому что в одной республике нет мяса, в другой нет рыбы, в третьей нет хлеба. И мы хотим знать, где чего нет, и хотим это положение закрепить.
Теперь кто в какой народ попал, тот там и сидит. Назначили туркменом – так уж будь здоров. И кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто и в первобытнообщинный. Все с трудом говорят на родном языке, у каждого своя армия с пиками, мушкетами, усами и бородой. Дозорные сидят на колокольнях. Как с соседней территории увидят войско, кричат вниз, машут флагами и пускают дым. Коней нет, волов нет, техники нет, поэтому войска идут пешком долго, пока дойдут. Но говорить им, какие вы отсталые, – нельзя. Очень обидчивые. Уж как стараются их не обидеть, всё равно обижаются и пики мечут во врагов. Но это скорее весело, хотя очень плохо.
Да, забыл тебе сказать, отец. Помнишь, ты всё бегал на партсобрания, а по ночам тайно делал аборты? Так вот этого теперь нет. Нет, аборты есть. А этой больше нет. Ты ее помнишь как ВКП(б)… Нету! Разогнали… Помнишь, если раньше у кого в толпе был суетливый взгляд – это были мы. Теперь это они. Коммунистическая партия большевиков, о необходимости которой говорила вся страна, попряталась.
Помнишь, среди помоев и дерьма стояли здания с колоннами, а впереди Владимир Ильич показывал рукой в разные стороны и подмигивал левым глазом в птичьем помёте: «Правильной дорогой идёте, товарищи». А на указательном пальце сидел какой-то мерзавец из голубей и дискредитировал направление окончательно. Теперь ВКП(б) выезжает из этих колонн, Ильич выезжает из мавзолея, и они вместе переезжают на новое место… Опять тавтология… Умоляю!.. Да… Так они переезжают на какое-то кладбище в Ленинграде.
Да! Совсем забыл. Ленинграда-то больше нет! Слушай! Как мы все проголосовали. Ещё до ППП. Я буду сокращенно писать, чтоб тебя не утомлять. ППП – это Провал Попытки Переворота. ГППП – это Герой Провала Попытки Переворота. УППП – это Участник Провала Попытки Переворота.
Так вот, ещё до ППП, мы все ка-ак проголосовали – хотим Санкт-Петербург.
Ну, ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь из нас доживёт?! Все большевики взвыли. Как?! Кровью и потом, блокадой умыто. Они до сих пор хвастаются потерями. Но на самом-то деле они понимали, что в это название никакие райкомы не помещаются: «Санкт-Петербургский обком ВКП(б)». Я пишу ВКП(б), чтоб тебе легче было понять. Она теперь была КПСС. Слушай, как безграмотно «Она теперь была КПСС». Мой учитель Борис Ефимович Друккер переворачивается в гробу.
А кто вам виноват? «СССР – СЭС – КПСС». Не дай бог произнести – со всех дворов кошки сбегаются, думая, что их накормят. Мы тоже, папаня, сбежавшись на это пс-пс-с-с, ожидали семьдесят четыре года. Мне Генрих рассказывал. У них во дворе Берта чистила рыбу. Все коты сидели вокруг. Вдруг одноглазый по кличке Матрос так мерзко взвыл «мяу»!
– Ша, – сказала Берта, – это пустой разговор…
Так и мы с КПСС.
Так интересно, как стало, не было никогда.
Жить этой жизнью гораздо лучше, чем жизнью животных, которой мы жили.
Тавтология такой же бич Одессы, как отравления питьевой водой.
Но ничего. Это тоже интересно. Мы тут уже полюбили эти внезапности. Такое ощущение, что все события, которых не было все эти годы, собрались сейчас. Дай бог нам пережить их без потерь.
Хотя каждый ходит приподнятый.
Приподнятый и твой сын под той же фамилией.
7 сентября 1991 г., Одесса
Фестиваль «Золотой Дюк» Откроемся, братья! (к открытию)
И Одесса, и зелёная осень, и Чёрное море приветствуют своих поклонников и гостей кинофестиваля «Золотой Дюк»…Здравствуйте!
Для тех, кто не знает, мы сейчас на переходном этапе. Мы были на переходном этапе от капитализма к социализму, сейчас – от социализма к капитализму, то есть практически там же.
Одесса, как никогда, нуждается в кино. Всё остальное есть. Есть бесплатный проезд, есть бесплатный телефон, есть бесплатное детское питание, осталось кино. Что тут радует? Наконец-то сбылась наша мечта: жизнь становится всё лучше, и никакой работы не надо! Причём ни нефти, ни наркотиков, ни электроники мы не производим. Значит, идея была правильной: при переходе к капитализму всё произойдёт само собой.
Теперь – «Золотой Дюк». Спешу обрадовать. Опять горожанам палец о палец не надо ударять. Всё привезут, поставят и покажут, и деньги переведут. Нужно только прийти и посмотреть… Разве кто-нибудь обратился к городским властям с жалобой, что его попросили что-то сделать для кинофестиваля?.. Нет!.. Значит, «сиди и смотри». Таков девиз фестиваля.
И этого мало. Фильмы как раз для глядения. Лёгкие, развлекательные, эротические, комедийные. Иди и смотри!..
Приходи и веселись!
Некоторые представления будут бесплатными, то есть вообще – приходи и садись.
Кое-что не получится. Общего праздника может и не быть. Так его и быть не может, потому что никто для этого ничего не сделал. Но в том-то и фокус обратного движения от социализма к капитализму, что всё происходит само собой… Заявить, что ограблены трудящиеся, нельзя, ибо никто из их зарплаты ничего не удерживал. Значит, как столики на пляжах, как магазины на улицах, как одесситы в Стамбуле, так и появился фестиваль. Спасибо товарищу Сталину! Кто-то скажет: но пропали пионерлагеря. А кто-то ответит: но исчезли очереди. А кто-то скажет: но пропали санатории в Сочи. А кто-то ответит: но добавился Кипр.
Так что организаторы принимают любые претензии от одесситов, вложивших какую-то лепту в золото Дюка. От посторонних требуется присутствие и хохот в нужных местах. Списки Рудинштейна с указанием необходимого хохота будут раздаваться при входе.
Насчёт эротического кино?
Советуем поесть дома. Это развлечение, а не замена… Насчёт комедии… одесситов учить не надо. Посмотрим, чем остальной мир сумеет их рассмешить.
Тут Голливуд выпустил гангстерский фильм «Маленькая Одесса» о Нью-Йорке, так что авторитет нашего города в воровском и песенном мире большой, осталось подтянуться в физике и математике. Но это с годами.
Пока нашей Одессе нечего продать, кроме климата, поэтому мы продаём свой климат и на эти деньги заказываем кино и музыку.
Просим! Просим! Вас ждут приятные дни и тёплые тёмные вечера без звёзд, ибо, ах ибо, ах ибо, ибо… Правильно…
Каждая звезда встанет на своё место 1 октября 1994 года. И мы сумеем в полной мере обалдеть, потрогать и проводить каждую долгим одесским взглядом…
С голливудскими звёздами мы стреляем каждый вечер, попробуем среди них узнать своих, которых отделяет от предыдущих свидетельство о рождении и низкий заработок. Но и эти коренные противоречия берётся устранить весёлый фестиваль «Золотой Дюк».
Сиди и смотри!
Единственное, что хотели бы оговорить для себя организаторы и восстановители «Золотого Дюка» – уж если они что-то делают для города, так чтоб и горожане когда-нибудь где-нибудь что-нибудь через кого-нибудь сделали для них.
Целую всех и обожаю каждого
Ваш М. Жванецкий
P.S. Господа! Вы не помните, кому я обрадовался в Одессе?
Про Мишу
В Одессе до эмиграции жил такой Миша Беленький. Музыкант. Очень любил шутить в брежневские времена. Например, надел тёмные очки, плащ, шляпу и пошёл давать телеграмму: «Тётя умерла. Аптека закрыта. Посылки больше не посылай». Девочка отказалась принимать. На крыльце уже ждали.
Провёл четыре дня в КГБ.
Миша Беленький играл в судовом оркестре. Когда вернулись с Кубы, во время досмотра влез в шкаф. Советский пограничник нашёл его в шкафу со всеми правильными документами.
Опять четыре дня сидел в КГБ.
Остановило ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали. Он крикнул: «Ложись!» Все легли. А там ничего не было.
Четыре дня провёл в больнице.
Сейчас в Америке.
Как шутят в Одессе
Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди – бригадир – дирижёр. Звонок. Выходит жилец.
Бригадир (вежливо приподнимает шляпу). Ай-я-яй, мне уже говорили. Такое горе!
Жилец. Какое горе?
Бригадир. У вас похороны?
Жилец. Похороны?
Бригадир. Ришельевская, шесть, квартира семь?
Жилец. Да.
Бригадир. Ну?
Жилец. Что?
Бригадир. Будем хоронить?
Жилец. Кого?
Бригадир. Что значит «кого»? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну, не валяй дурака, выноси.
Жилец. Кого?
Бригадир. У меня люди. Оркестр. Пятнадцать человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Маня, прошу.
(Толстая Маня, в носках и мужских ботинках, ударила в тарелки и посмотрела на часы.)
Жилец. Минуточку, кто вас сюда прислал?
Бригадир. Откуда я знаю? Может быть, и ты. Что, я всех должен помнить?
(Из коллектива вылетает разъяренный Тромбон.)
Тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесём эту халабуду вдребезги пополам. Я инвалид, вы же знаете.
Бригадир. Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же ещё не слышали наше звучание.
Жилец. Я себе представляю.
Бригадир. Секундочку. Вы услышите наше звучание – вы снимете с себя последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как своё собственное.
Жилец. Я прекрасно представляю.
Бригадир. Встаньте там и слушайте сюда. Тётя Маня, прошу сигнал на построение.
(Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы.)
Бригадир (прошёлся кавалерийским шагом). Константин, застегнитесь, спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Вы всё время пишете что-то новое. Если вы её не выведете, я вас отстраню от работы. Фёдор Григорьевич, вы хоть и студент консерватории, возможно, вы даже культурнее нас – вы знаете ноты, но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, есть работа – уличное движение растёт. Мы только в июле проводили пятнадцать человек.
Теперь вы, Маня. Что вы там варите на обед, меня не интересует, но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. Прошу печальный сигнал.
(Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш.)
Жилец (аплодирует). Большое спасибо, достаточно. Но всё это напрасно. Наверное, кто-то пошутил.
Бригадир. Может быть, но нас это не касается. Я пятнадцать человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтоб он был здоров. Так вы хотите, чтоб я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеёмся все вместе.
(Из группы музыкантов вылетает разъяренный Тромбон.)
Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем своё, гори оно огнём!
Бригадир. Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?
Жилец. Почём стоит похоронить?
Бригадир. С почестями?
Жилец. Да.
Бригадир. Не торопясь?
Жилец. Да.
Бригадир. По пятёрке на лицо.
Жилец. А без покойника?
Бригадир. По трёшке, хотя это унизительно.
Жилец. Хорошо, договорились. Играйте, только пойте:
в память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинёва.
(Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь:
«Безвременно, безвременно… На кого ты нас оставляешь?
Ты туда, а мы – здесь. Мы здесь, а ты – туда».
За кулисами крики, плач, кого-то понесли.)
Бригадир (повеселел). Вот вам и покойничек!
Жилец. Нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
Давайте в августе…
Вы не хоронили в августе в Одессе? Как? Вы не хоронили в августе в Одессе, в полдень, в жару? Ну, давайте сделаем это вместе. Попробуем – близкого человека. Давайте.
Мы с вами подъедем к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, мать их!..
Съезжаются пятнадцать-двадцать покойников с гостями сразу. Голая степь, поросшая могилами. Урожайный год. Плотность хорошая. Наш участок 208. Движемся далеко в поле. Там толпы в цветах. Всё происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах всё давно приготовил… Ямки по ниточке раз-раз-раз. Сейчас он только подсыплет, подроет, задевая и разрушая собственную работу. У него в трибуне потрясающая рожа музыкального вида с длинными волосами. Лабух переработанный. Двумя движениями под оркестры вонзается в новое, руша старое, потом, жутко целясь, снова промахивается, завывая дизелем под оркестры. Дикая плотность. Их суют почти вертикально. Поют евангелисты. Высоко взвывают евреи. Из-за плотности мертвецов на квадратный метр – над каким-то евреем: «Товариши, дозвольте мени, тьфу, а де Григорий? Шо ж ви мене видштовхнули, товариши?»
Цветы, цветы затоптанные, растоптанные. Белые лица, чёрные костюмы, торчащие носки ботинок, крики:
– Ой, гиволт!
– Господи, душу его упокой!
– Дозвольте мени…
Хорошо видны четверо в клетчатом с верёвками и лопатами. Их тащат от ямы к яме: «Быстрей, быстрей, закопайте, это невыносимо. Сейчас, сейчас. Вначале верёвки, потом лопаты. Где чей? Нет таблички? Где табличка?» – «Сойдите с моей могилы». – «А где мне встать, у меня нога не помещается?»
Верёвки, лопаты. «Музыкант» выкапывает, они закапывают.
По пять штук сразу.
Между ними по оси икс – пятьдесят сантиметров, по оси игрек – двадцать пять.
Много нас. Много. Пока ещё живых больше. Но это пока и это на поверхности. Четыре человека машут лопатами, как вёслами. Мы им всё время подвозим. Не расслабляться. Покойники снова в очередях. Уже стирается эта небольшая разница между живыми и мёртвыми. Шеренги по верёвке. Расстояние между бывшими людьми 0,5 метра, время – 0,5 минуты.
Крики, плачи, речи, гости, цветы, имена. На красный гроб прибивают чёрную крышку. «Ребята, это не наша крышка…» – «А где наша?..» – «Откуда мы знаем, где ваша?» – «Сёма, держите рукой нашу крышку».
В этой тесноте над вашей ямой чужой плач.
– Он был в партии до последнего дня…
– Кто? Он никогда не был в партии. Если бы мы достали лекарство, он вообще бы жил. Цыпарин, цыпарин. Ему не хватило цыпарина.
– Операции они делают удачно, они выхаживать не могут.
– Зачем тогда эти удачные операции?
– Вы хотите, чтоб он хорошо оперировал и ещё ночами ухаживал?
– Я ничего не хочу, я хочу, чтобы он жил…
– Да скажите спасибо, что оперируют хорошо…
– За что спасибо, если я его хороню?!
– Это уже другой разговор.
– Он не хотел брать на себя. Он как чувствовал. А они ему всё время: «Бери на себя… бери на себя». Он взял на себя. Теперь он здесь, а они в стороне.
– Теперь же инфаркт лечат…
– Инфаркт не лечат, его отмечают… Отметили – и живи, если выживаешь. Как он не хотел брать на себя. А они ему: «Мы приказываем – строй!» Он говорил: «Я не имею права». А они говорили: «Мы приказываем – строй!» Он построил, а когда приехала ревизия, они говорят: «Мы не приказывали!» – Теперь весь завод здесь.
– Куда вы сыпете наши цветы? Где он? Где Константин Дмитриевич?.. Константин Дмитриевич. О, вот это он… А-а… вот это он. Ой, Константин Дмитриевич, и при жизни я вас искал. Вечно вас ищешь, вечно…
– Господи, спаси и помилуй. Суди нас, Господи, не по поступкам нашим, а по доброте своей, Господи.
– Товарищи, славный путь покойного отмечен почётными грамотами.
Тут закончили, там заплакали. Тут заплакали, там разошлись. Цветы, гробы, венки, ямы, плач, вой. «Беларусь» задними колесами в цветах.
– Товарищи, всех ногами к дороге! Значит, вынимайте и разворачивайте согласно постановлению горисполкома.
Чёрт его знает, чего больше – рождаются или умирают? Какое нам дело, если нас так хоронят?..
Население!
– Не смейте кушать, Мария Ивановна, это же колбаса для населения. Сетевые сосиски, комковатые публичные макароны, бочковые народные пельмени, страна вечнозелёных помидоров, жидкого лука. Для удобства пассажиров маршрут № 113 переносится. Для удобства покупателей магазин № 2 Плодоовощторга…
А оперируют они хорошо, только очень непрерывно.
Так же, как и копают.
Мы им подносим – они закапывают. Свои своих. Без простоев. Огромное поле. Все ямы на одном пятачке, ибо. Ах, ибо!
Удобно экскаватору, копателям, конторе. Всем, кроме нас.
Как наша жизнь не нужна всем, кроме нас.
Как наша смерть не нужна всем, кроме нас.
Как нас лечат?
Как мы умираем?
Как нас хоронят?
На старой «Победе»
Он подрядился везти на старой «Победе» из-за города.
Сидеть было неловко: он всё время подозрительно всматривался.
– Что такое? Вы меня знаете?
– Гремит что-то справа. А?
– Не знаю. Это ваша машина.
– От погода! А, надо вылезать.
Он вылез, обошёл авто. Оторвал что-то сзади. Едем. От него ещё тревожнее. Всматривается.
– От погода! Льёт и льёт! О! Яма! А если б ночью? Та не дай бо! О!
Он пристально всматривается в меня.
– Что? Гремит?
– Та колпак, что ли? Или трос спидометра. Льёт, как самашедший. Ц! Надо смотреть.
Всматривается в меня.
– Надо идти!
Он вылез, оторвал что-то слева, со звоном бросил в салон. Поехали. Он стал всматриваться в меня.
– Гремит?
– Вроде, – сказал я.