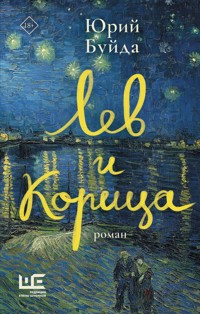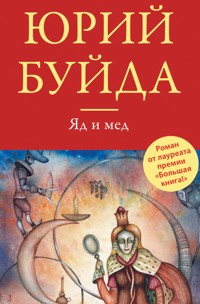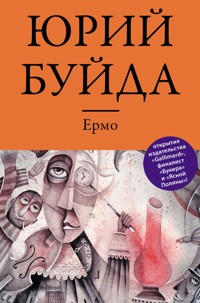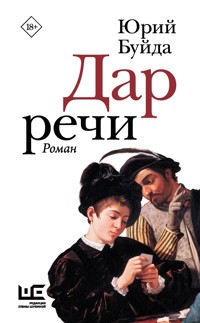4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
"Жунгли" - метафора современной России, дикой и необузданной, несущейся к бездне и чудом удерживающейся на самом ее краю. Там, где заканчиваются прямые асфальтовые дороги и гаснут огни больших городов, начинаются непроходимые жунгли, где тоже живут - любят и страдают - удивительные люди, герои Буйды. Они одержимы страстями и зачастую порочны и не привлекательны внешне, но каждый из них - подлинный философ, понимающий об устройстве мира гораздо больше записных профессоров. Не проникнуться симпатией к этим жестоким и одновременно ранимым людям - просто невозможно. А прекрасный язык автора доставит истинное наслаждение ценителям настоящей литературы!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Юрий Буйда Жунгли
Лета
Крониду Любарскому
Дом расцветал весной. Лиза и ее муж Николай вытаскивали из кладовки стремянку и начинали красить огромный барельеф, нависавший над входом. Из дебрей причудливого орнамента – сплетение лиан и змей, круговращенье звезд и подсолнухов – мускулистые кентавры с аккуратно отбитыми мужскими признаками хищно тянулись к златогрудым девам с вьющимися чешуйчатыми телами, которые, глядя в сад, демонстрировали плоские, но безупречно красивые лица и поддерживаемый руками, обвитый лаврами овальный щит с датой постройки дома – 1888 год, где восьмерки, подобно змеям, кусали себя за хвосты, а заполненные золотой краской шесть колец издали казались гроздьями женских грудей. Руководствуясь собственными представлениями скорее о должном, нежели о прекрасном, Лиза и Николай расцвечивали барельеф золотом и чернью, киноварью и зеленью, пока он не начинал звучать подобно первому аккорду весны – невразумительно, но мощно…
Дом стоял на отшибе дачного поселка Жукова Гора, на гребне холма, отлого спускавшегося в речную пойму, через которую – вдали – был переброшен железнодорожный мост. Несколько раз дом пытались перестроить, но всякий раз дело до конца не доводили: хозяева пропадали то в лагерях, то на войнах (в России трудно быть домовладельцем). Прирастали какие-то клетушки, лесенки, башенки, крылечки, но все это вскоре ветшало, сливаясь со старой основой, пока наконец не слиплось в нечто громоздкое и бесформенное – скорее явление природы, нежели дело рук человеческих. Густые кусты сирени, черемухи, шиповника, яблоня, тополь и береза врастали в дом, становясь такими же его частями, как балясины лестниц, люди или электрические лампочки. В начале лета тополиный пух летал по комнатам, оседал на картинах и иконах, слоисто колыхался на крашеных деревянных полах…
Когда-то этот дом, принадлежавший до революции актрисе мамонтовской оперы, занимали четыре семьи, но после войны, поделенный надвое, он остался за Исуповыми и стариком по прозвищу Енерал, бывшим не то денщиком, не то помощником советского маршала. По утрам Енерал занимался гимнастикой в своем уголке сада. Кепка с лаковым козырьком, трусы до колен и высокие шнурованные ботинки. Зарядку он завершал маршировкой, вызывавшей недоумение у Леты Александровны Исуповой.
Однажды старик объяснил: «Для собственного удовольствия. Пройдусь строевым хотя бы двадцать шагов – и весь день хорош».
От его-то выкриков – «Ас – два! Ас – два!» – Лета Александровна обычно и просыпалась, легко всплывая со дна полузабытья сквозь бесплотную фауну сновидений.
И в свои сто три года она не боялась смотреться в зеркало, перед которым, как гласило семейное предание, любила прибираться Екатерина Великая. Из бронзового овала, залитого венецианским стеклом, старухе смиренно улыбалась женщина с хорошими зубами, бесформенным жабьим лицом и слегка косящим взглядом. Причесавшись и помассировав отвислые щеки, она облачалась в светлое – летнее – ситцевое платье с отложным воротничком и повязывала волосы широкой голубой лентой, гармонировавшей с ее чуть выцветшими васильковыми глазами.
В открытое окно легко впорхнула птица, суматошно метнулась к иконке, перед которой горела электрическая лампадка, и вылетела наружу, ударившись в куст сирени, с которого на землю с шумом посыпались крупные капли росы. Обмахнувшись крестом, Лета Александровна отправилась вниз – глянуть на детей да завтракать.
Первый этаж давным-давно превратился в «инкубатор» – так прозвала его Лиза, помогавшая Лете Александровне по дому. Сюда привозили детей политзэков позднесталинских, хрущевских и брежневско-андроповских лагерей, дочерей и сыновей многочисленных родственников и свойственников, да и просто знакомых и знакомых знакомых. Вот и сейчас в доме «дачничали» дети из Карабаха и Чечни. Белые и смуглые ребятишки с утра до вечера носились по комнатам, по саду, играли, дрались, влюблялись и секретничали.
И все они знали: когда после полудня Лета Александровна отправляется в «колоду» – так называлось громоздкое деревянное кресло под полотняным зонтом, вросшее – или выросшее – у садовой ограды, – беспокоить ее могли лишь Лиза да сын – Иван Абрамович, изредка наезжавший из Москвы.
В «колоде» хозяйка каждый день проводила несколько часов.
«Пора все вспомнить и привести в порядок, – говорила она Лиане, молодой армянке, ухаживавшей за карабахскими и чеченскими детьми. – Наконец-то я достигла возраста, когда можно не сравнивать, а просто вспоминать».
Перед сном она благодарила Бога за счастье, которое Он так щедро дарил и дарил ей: «За что мне столько одной, Господи? И как мне благодарить Тебя?»
Она только что закончила Смольный институт и колебалась в выборе: ехать ли сестрой милосердия в истекающую кровью Боснию – или же продолжать учебу в подготовительном и пепиньерском классах? Вечером собирались праздновать день ее рождения. По комнатам большого дома в Игнатьеве летал тополиный пух. Одетая по-домашнему, в сарафане, с лупившимися от загара плечами, она влетела в кабинет отца. Из кресла, стоявшего подле низкого столика у окна, поднялся рослый военный.
– Князь, моя дочь Леточка… Елена… – Отец насмешливо фыркнул. – Пейзанка!
Мужчина склонился к ее руке, и на мгновение ее обдало запахом его одеколона и той свежестью, которую источало его большое сильное тело, обтянутое красивым мундиром. Он выпрямился и с улыбкой посмотрел ей в лицо.
– Почему же вас зовут Летой, княжна? – спросил он, откровенно ею любуясь и в то же время – смущаясь. – Леточка…
Виски его были тронуты сединой.
– Семейная тайна! – Ей вдруг захотелось показать ему язык, но сдержалась, поймав себя на том, что он ей тотчас понравился. – Умру, а не выдам!
Вечером, гуляя в саду, она рассказала Николаю Александровичу, как Елена стала Летой. В детстве ей ужасно – ну просто ужасно, понимаете? – понравилась повесть Достоевского «Неточка Незванова», она влюбилась даже в имя героини, и старший брат – Сережа, сейчас он дипломат, – милостиво соизволил образовать от ее имени домашнее прозвище – Леточка.
– А получилось неловко: кануть в Лету… глупо, правда?
– Вам идет, – сказал Николай Александрович. – Вам все идет – походка, манера брать вишенку с тарелки, имя… Лета, лето, пуха лёт…
И бережно снял с ее прически тополиную пушинку.
Спустя два года они поженились. Княжна Прозоровская стала княгиней Исуповой. После свадьбы отправились в Костянку, рязанское имение мужа. Утром проснулись – а на полу, на подоконниках, на одеяле и подушках – всюду – лежал тополиный пух, который Николай собрал с ее лица губами…
Незадолго до войны у них родился мальчик, назвали Петром.
Осенью пятнадцатого юная княгиня вызвалась сопровождать генеральшу Самсонову, которая при содействии датского Красного Креста выехала в Германию, в Восточную Пруссию, для розыска тела погибшего мужа – горькой легенды августа четырнадцатого. В сопровождении чиновника прусского военного министерства фон Бенигка они объездили едва ли не все лагеря для военнопленных, пытаясь восстановить обстоятельства гибели Самсонова, а затем выехали в район Щитно, где какой-то польский лесник обнаружил труп командующего русской армией, разгромленной полчищами Гинденбурга в Мазурских болотах, на полях Грюнвальда-Танненберга. Прах генерала в цинковом гробу был отправлен из Кенигсберга в Копенгаген, а оттуда, через Стокгольм, – в Петроград. Щитненский ландрат Виктор фон Позер пообещал на месте гибели Самсонова воздвигнуть памятник (и сдержал слово).
В России Лету Александровну встречали как героиню.
Она сказала мужу:
– После этой поездки я чувствую себя старой старухой. Эта война, эти несчастные люди… В Кенигсберге я побывала у гробницы Канта, вдруг вспомнила о звездном небе над головой и душе человеческой – и разрыдалась… Бог с нами, но почему мы не с Богом?
– Просто ты повзрослела, – мягко возразил Николай Александрович. – И тебе нужно отдохнуть.
В шестнадцатом родился Мишенька, в семнадцатом – Катюша.
После октябрьского переворота Николай Александрович последовал примеру своего старинного товарища по Пажескому корпусу генерала Брусилова и пошел служить большевикам, был инспектором кавалерии, затем его перевели в красный Генеральный штаб.
Когда впоследствии друзья младшего, Ивана, спрашивали о причинах решения Исупова, Лета Александровна отвечала сухо и сдержанно: «Он служил России».
– Империи, – не без язвительности уточнял Илюша Хан, спустя несколько лет погибший в мордовском политлагере. – Большевики расстреляли царскую семью, ваших родных и близких, в то же время аристократы – а ведь ваш род древнее Романовых – служили палачам не за страх…
– Англичане отрубили голову Карлу, французы – Людовику, русские расстреляли Николая. Это уже история.
Когда ее спрашивали об отношении к Романовым, она лишь пожимала плечами:
– Мы обожали государя, но, пожалуй, немножко презирали его как человека: он был такой буржуа. А эти их спириты и кликуши? Сначала мсье Филипп, проходимец, оказавшийся Низьером Вашолем, потом Распутин… В Петергофском дворце у великих княжон на стенках висели рекламки мыла Брокара, шоколада Сиу…
«Ну, за это их, конечно, следовало расстрелять! – хохотал Илюша Хан. – Да вы большевичка, Лета Александровна!»
Она любила этих беспутных молодых людей, страстно игравших в борьбу с режимом и нешуточно страдавших над пропастью, пролегшей между ними и народом, который жил своей растительной жизнью и знать ничего не знал, и не хотел знать о тех, кто боролся за его освобождение.
Дети еще не встали, когда они сели на кухне пить чай. Две старухи и молодая армянка – костистая Лиана, за которой ухаживал внук Леты Александровны – Евгений.
– Звонил Иван Абрамыч, – сказала Лиза, придвигая чашку хозяйке. – Будет с женой и сыном.
Лиана опустила глаза. Она всегда страшно смущалась, если Лета Александровна заставала ее с Женей где-нибудь в саду или на веранде. Похоже, у них роман.
Евгений, как и Лиана, был врачом. Они познакомились прошлой осенью, когда в дом прибыли карабахские дети. Поздно вечером он стремительно вошел в кухню, где голая до пояса Лиана умывалась над тазом, стоя спиной к двери.
– О, простите! – Он отпрыгнул к порогу, задев ногой табурет, сам едва удержал равновесие. – О боже!
Женщина повернулась к нему, держа перед собою полотенце.
– Тише! Детей разбудите!
Женя вконец сконфузился.
– Простите… но что у вас на спине… откуда такой шрам?
Лиана спокойно улыбнулась.
– Осколок. А теперь можно мне одеться?
Она прошла через ад армяно-азербайджанской войны, была ранена дважды. Теперь вот и чеченских детей лечила.
– Радио включить? – спросила Лиза, глянув на часы. – Новости будут.
– Только потихоньку.
Передавали известия из Чечни.
– Дудаев негодяй, Масхадов негодяй, все эти кавказские князья – заурядные негодяи, – вдруг прервала молчание Лиана. – Людям ведь все равно, при какой власти жить. Им нужно было сто раз подумать, прежде чем ввязываться во все это…
– А русским? – Лета Александровна поправила ленту на голове.
– При чем тут русские? – удивилась армянка. – Русские ни при чем. Русские всегда убивают. Это нам думать надо…
Она вдруг смешалась. Лета Александровна накрыла ее костистую руку своей мягкой пестрой лапкой. В наступившей тишине (Лиза выключила радиоприемник) стало слышно, как сопят и возятся в спальне дети.
«Сколько же их? – подумала Лета Александровна. – Как-нибудь надо бы сосчитать…»
– Продукты кончаются, – прошептала Лиана. – Рафик и Шамиль должны завтра подвезти…
– Я буду в саду. – Лета Александровна поднялась. – С цветами.
Николай Александрович умер в тридцатом от разрыва сердца. Его хоронили с военным оркестром, на панихиде выступали бритоголовые усатые генералы. Красноармейцы в буденовках дали три залпа в воздух из ружей. За Летой Александровной оставили квартиру. Старший, Петр, уже пробовал себя в литературной критике, неожиданно для матери стал активистом комсомола, сменил имя – подписывался Юсуповым, впадал в ярость, если ему намекали на аристократическое происхождение. Жил он отдельно. Лишь пожал плечами, когда ему сказали о смерти деда, Александра Петровича, известного историка.
Через два года Лета Александровна вышла замуж за Абрама Ивановича Долгово, из старинной семьи, давнего знакомого, друга семьи. Он был ученый-химик и генерал, подолгу пропадал на каких-то секретных полигонах в Поволжье. Отношения их были ровны и теплы, проникнуты нежностью и участием. Спустя полтора года Лета Александровна родила Ивана и превратилась в статную дородную даму с чуть набрякшим, но по-прежнему красивым лицом.
Дочь вышла замуж за офицера и уехала в Западный край. Писала редко – да между ними никогда и не было настоящей близости. Вскоре Катя родила девочку и привезла ее в Москву показать бабушке.
Лето вся семья проводила на даче. Там-то они и узнали об аресте Петеньки. Катя тотчас собралась и укатила с дочкой в Белоруссию (через несколько месяцев взяли и ее мужа). Абрам Иванович возбудил все свои связи, но делу было решено придать громкую огласку, и хлопоты пропали впусте. А зимой тридцать седьмого Петра Юсупова расстреляли.
Она была матерью врага народа, но ее лишь однажды допросили, и довольно небрежно, и отпустили. На прощание следователь съязвил: «До скорой встречи, ваше высочество». Она обернулась в дверях и холодно заметила: «Если уж так Вам угодно, то обращайтесь ко мне правильно, по-русски: ваше сиятельство».
Это была первая жуткая зима, которую она пережила с болью, в муках, слезах.
Вторая выпала на сорок первый год, когда погиб Мишенька, записавшийся в московское ополчение: он был убит в первом же бою. Скромный, тихий ученый-ассириолог, продолживший дело Александра Петровича Прозоровского.
Много лет спустя Иван сочинил стихотворение, посвященное матери, и две строки из него Лета Александровна часто шептала перед иконкой: «Зимой Тридцать страшного года, зимой Сорок тяжкого года…»
Она пережила и эти страшные зимы.
«Как мне благодарить Тебя, Господи?»
Утро она провела в саду, составляя букет к приезду сына. Помогавшая ей Лиана волновалась в ожидании встречи с Женей. После обеда она увела детей на речку, а Лета Александровна, как всегда, отправилась в «колоду». Отсюда открывался чудесный вид на пойму, дышавшую донником и чуточку – речным илом. Над высокой травой, уворачиваясь от тополиного пуха, носились стрекозы. Вдали погромыхивало – быть может, приближалась гроза. Громадные белые облака стремительно разворачивались и, оставляя за собою перистые хвосты, мчались к Москве, по пути густея и вливаясь в подсиненную облачную массу.
«Какое счастье, – думала старуха. – Боже, какое счастье…»
Она думала ни о чем: о себе, сыновьях, облаках, о том, что открыла наконец секрет жизни: надо просто расти, как растет трава или растет само время…
По железнодорожному мосту к Москве пробежала электричка – цепочка тусклых огоньков.
Вечерело.
Повернув голову, она увидела спускавшегося садом сына. В полушаге за ним шла высокая женщина. Лета Александровна достала из кармашка платок, вытерла рот: с возрастом мышцы лица ослабли, и слюна незаметно стекала на подбородок.
– Ну что, милый? А где Женя?
Она подставила щеку – сын поцеловал. И еще раз. Значит, волнуется: как-то матушка примет новую жену? Двух прежних приняла плохо, хотя ни разу об этом сыну не сказала.
– Он Лиане бросился помогать. – Иван легко рассмеялся, потянул за руку жену. – Это Руфь. А это Елена Александровна.
Сыну было за шестьдесят, но выглядел он, несмотря на седину, молодо. Конечно же, тюрьмы и лагеря не прошли бесследно: Лиза шепотом докладывала, что сын перенес уже три операции на желудке, – но сам матери об этом ни гугу.
– Хорошо у вас тут. – В голосе молодой женщины звучала легкая растерянность: робела. – И воздух сладкий…
– Идите приберитесь, да будем ужинать, – велела Лета Александровна. – И пошлите Николая за вином.
Иван дернул щекой:
– Не надо Николая, мы привезли.
Лизиного мужа он не любил, звал Крысоедом, но – из уважения к матушке – заглазно.
Старуха проводила молодых взглядом. И на этот раз Иван женился на красавице, хотя ведь сам не раз говорил: «Красота до вечера, доброта навеки». Стройна, мила… Что ж, он поэт. Лете Александровне уже успели донести его новые стихи, посвященные Руфи:
Та-та-та… Сумбурновато и выспренне. Не лучшее из того, что он написал. Впрочем, предыдущей жене, Верочке, он и вовсе не посвятил ни строки, что приводило ее в ярость: ей хотелось увековечиться.
Верочка страстно ненавидела этот дом, ревновала Ивана к матери, легко затевала сцены, без которых, кажется, и жизнь ей была не в жизнь. «Кста» – презрительно отозвалась однажды о ней Лета Александровна. Что означало это междометие – «кста» – она, впрочем, и сама не знала. Набор звуков. Взрыв сухих согласных, разрешающийся бескостной гласной мякотью. Другими ругательствами она не пользовалась.
– Единственное, что мы создали подлинно своего, это язык, – заметила она как-то с усмешкой. – Все остальное – колесо, кирпич или там телеграф – могли создать и немцы. Если мы чем-то миру интересны, то лишь своим языком.
– Ну да, – тотчас согласился Иван. – Ничего другого и создать не могли. Недаром Куракины отправляли белье стирать в Голландию. Русские прачки стирали из рук вон: не привыкли к тщательной работе, к деталям. Деревянная цивилизация не требует искусства труда.
Лета Александровна лишь покачала головой: «Эк у тебя легко! Чуть что – люди, народ. Выдь-ка на площадь да крикни: «Эй, народ!» – и никто головы не повернет, ни один Иван, ни одна Сарра…»
Кста…
Иван тяжело переживал разрыв с Верочкой. А когда отутбил (по Лизиному выражению), рассказал о забавном случае. Однажды Верочка увидела, как, собираясь к ужину с гостями, Лета Александровна достает из шкатулки свое ожерельице, и ночью вдруг разрыдалась на Ивановом плече: «Ты б видел этот жест! Это движение! Умри – такому не научишься, это – от рождения. Княгиня!»
Дети в столовой стучали ложками-вилками и громко перекрикивались.
Тем временем Лиза – Руфь взялась ей помогать – накрывала стол в просторной кухне, у распахнутого в сад окна.
Иван пристроился в уголке с папироской и со своего места подначивал Женю, старательно ассистировавшего Лиане, которая унимала жующих и галдящих детей.
– А теперь умываться и в постель! – Женя хлопнул в ладоши, подражая Лиане. – Договорились?
Дети с любопытством уставились на мужчину. Лиана спрятала улыбку и повторила: «Умываться и в постель», – после чего ребятишки, грохая стульями, потянулись из столовой.
– Евгений Иванович! – укоризненно сказал Иван сыну. – Если ты приказываешь, то никаких «договорились» быть не должно, никаких вопросов – одни ответы!
– Зиф! – крикнула Лиза в столовую. – Это ты брал шумовку?
Высокий мальчик лет двенадцати-тринадцати с плоским красивым лицом развел руками:
– Шумовку? Которая шумит?
– Которой мешают…
– Кому мешают?
– Иди спать! – Лиза махнула рукой. – Шельма!
– Ну что ты от него хочешь? – усмехнулась Лета Александровна. – Татарин же…
Иван в своем углу громко рассмеялся.
– Башкир, мама! Ну да тебе все равно. Тебе имя неправильное дали. Надо было – Империя, ей-богу! Империя Иванна! Ну недаром, недаром тебя Сталин любил!
Руфь с интересом обернулась к хозяйке.
– Семейная шутка, – сказала Лета Александровна.
– Любил, любил! – со смехом настаивал сын. – Ну скажи правду!
Лета Александровна сделала сердитое лицо.
– Я пойду к себе, переоденусь к столу.
И скрылась за дверью.
Незадолго до войны в Кремле был прием, на который были званы и Абрам Иванович с Летой Александровной. Народу в зале было много. К ним подбежал молодой человек в полувоенном костюме и тонких очках и велел следовать за ним. Пройдя через толпу, они оказались лицом к лицу со Сталиным, стоявшим в окружении свиты. Сталин искоса посмотрел на них и неторопливо проговорил:
– Мне товарищи рассказывают чудеса о вашей работе, Абрам Иванович. Вы ведь из старой фамилии, не так ли? Долгово… Ваш предок как-то произнес замечательные слова: «Царю правда лучший слуга. Служить – так не картавить, картавить – так не служить», – он повернулся к своим и с удовольствием повторил: – Картавить – так не служить!
– Долгово, Иосиф Виссарионович, происходят от татарского мурзы, крестившегося и ставшего боярином князя Александра Невского, – вдруг вступила Лета Александровна. – Они звались Долгово-Сабуровыми. А процитировали вы князя Якова Долгорукова, Петрова сподвижника, их род восходил к Михаилу Всеволодичу Черниговскому.
Сталин с любопытством разглядывал Лету Александровну. Молодой человек в тонких очках что-то торопливо ему нашептывал. Он отстранил его нетерпеливым жестом.
– Знаю, знаю… Исупова… Ведь ваш первый муж был инспектором кавалерии. Я его помню. Специалист, – усмехнулся. – Когда-то вы владели чуть не всей Россией, княгиня…
– Да, государь, – при всеобщем изумленном молчании Лета Александровна сделала движение, как если бы собиралась присесть в книксене. – Мы по-прежнему ею владеем – правда, уже только ее историей.
Сталин от души рассмеялся: ответ понравился.
Вокруг зашумели и заулыбались с явным облегчением.
– Служить – так не картавить, – повторил Сталин. – Хорошо сказано.
Он уже утратил интерес к Абраму Ивановичу и его жене.
Они скрылись в толпе.
К ним подбежал давешний молодой человек в полувоенном костюме и с улыбкой проговорил:
– Ну, знаете, Елена Александровна, так с товарищем Сталиным еще никто не говорил… Государь! – Он взмахнул обеими руками, словно полоща белье. – Но ему, кажется, понравилось.
И убежал.
Домой возвращались пешком. И уже в виду дома Абрам Иванович вдруг сказал:
– Какая же власть у одного человека! И все – один!
– Это хорошо, что Сталин один, – заметила Лета Александровна. – Он всегда один, а народу, к счастью, всегда много.
А через месяц Абрама Ивановича арестовали и отправили в заточение: сначала в лагерь, затем в шарашку.
Увиделись они только в сорок четвертом. Абрам Иванович был плох: истощал, кашлял, затравленно оглядывался то и дело… «Нет, содержали хорошо, Леточка, шарашка – не лагерь, но знаешь…» Таким его и запомнил сын – дрожащим от холода в жарко натопленной комнате, надломленным, жалким. Абрам Иванович перебирал на большом столе папиросы, не решаясь закурить, – сгребал их в кучу, снова раскатывал и снова сгребал…
Лета Александровна извелась, глядя на таявшего мужа.
Его вернули на службу, но это ему было уже не в радость. Ночами он не спал. Не спала и она, боясь пошевельнуться. Ей все время ужасно хотелось спать. Казалось, она могла заснуть на острие иглы, но стоило лечь в постель, как сон улетучивался, и это было мучительно.
Абрам Иванович вспоминал кремлевский прием и то, как Лета Александровна назвала Сталина государем.
– Наверное, ты права. Наверное, мы просто обречены на них… Иван Грозный убил сына Ивана, Петр Великий убил сына Алексея, этот, говорят, погубил сына Якова… Банальность какая, Боже… Мы ходим и ходим по кругу, мы обречены на повторение своей истории. – Помолчал. – Нам все кажется, что мы свою историю обречены пожирать, словно это какая-то невкусная еда… неаппетитная, но другой нет… Но однажды вдруг понимаешь, что это она нас пожирает, она – нас… этакое историческое чревоугодие… смертный грех…
В сорок шестом они получили эту дачу с кентаврами и чешуйчатыми женщинами на фронтоне. А на исходе следующего лета Абрам Иванович умер. У Леты Александровны случился инсульт, после которого и ослабли лицевые мышцы.
Она по-прежнему гордо носила свое тело по улице, словно хоругвь – в храм, и однорукий продавец поселковой лавки, завидев ее, восхищенно шептал: «Лошадь!» «На лошади!» – почтительно возражал ему дружок-инвалид, побиравшийся с гармонью по пригородным поездам.
Она сама себя лечила – зимними купаниями в проруби. Николай освободил ото льда прибрежную полосу метра в три шириной, и каждое утро в сопровождении Лизы Лета Александровна ступала полными белоснежными ногами в студеную темно-зеленую воду. Лиза терпеливо ждала на берегу, наблюдая за огромной белой женщиной, плававшей среди льдинок. От купаний пришлось отказаться, когда стали плохо слушаться ноги.
Сыну удалось поступить в университет. Помогли и друзья первого мужа, занимавшие высокие посты в военном ведомстве.
Вот тебе и любовь Сталина, вот тебе и Империя Ивановна.
Но ведь и Иван был небезгрешен. Друзья сына рассказывали ей, как на очередном допросе, не выдержав попреков «чуждостью» и «изменой родине», Иван вдруг вскочил и закричал следователю: «Не смейте мне говорить о родине! Это мои предки создали эту страну! История Прозоровских, Исуповых и Долгово – это и есть история России! А за вами куцых полвека, да и те краденые!» Поэт…
– Музыку слушайте без меня, – заявила Лета Александровна после жаркого. – Каюсь и сдаюсь: не могу слушать Бетховена, которого лупят в таком темпе. Наверное, возраст.
Сын включил маленький телевизор, стоявший в кухне. Передавали последние известия. Лета Александровна слушала – смотреть не могла: то ли слишком мало было изображение, то ли не выдерживала суматошного мелькания кадров. Плачущий женский голос требовал выслать из России всех черножопых, чтобы решить какие-то там проблемы (какие – Лета Александровна не расслышала: наблюдала за Лианой).
– Сколько же лет империя будет превращаться в страну, – пробормотал Иван. – Их бьют, а они требуют: еще! еще! Ей-богу, в этой стране права человека нужно насаждать так же, как Екатерина насаждала картошку, – из-под палки, под ружьем…
– И вырастут не права человека, а картошка, – вдруг подал голос Женя. – Если вообще вырастут.
Лета Александровна махнула на него платком: помолчи.
– Иногда мне кажется, что страны и не было, – сказала старуха. – Тем более – империи. Была и есть – Россия. С панцирем, но без костей. А какая ж империя без костей?
– И слава богу. – Сын поднял бокал с вином. – За ракообразных! Их движение задом наперед – наука, которую мы в тонкостях постигли за тысячу лет.
В наследство с дачей им достались Николай и Лиза, жившие во флигеле за тополями. До войны они служили какому-то партийному бонзе, занимавшему этот дом. В самом начале войны Николаю миной оторвало ступню, он был признан негодным к воинской службе и вернулся домой – сюда. Про него и Лизу рассказывали страшную историю. Лиза была женой родного брата Николая. Николай был в нее влюблен. Чтобы завладеть женщиной, он якобы написал донос на брата. Дачные старухи – «злое семя» – жевали эту историю много лет.
«Ну почему ты не веришь? – удивлялся Иван. – Во всяком случае, на него это похоже…»
Похоже, однако, что сын остался неравнодушен к красивым Лизиным глазам.
Лиза и впрямь была замужем за братом Николая, который во время войны исчез невесть куда. Правда было и то, что Николай и Лиза долго жили в незарегистрированном браке. Ждали чего-то? Или кого-то? Но, скорее всего, к злым сплетням дачных старух побуждали их отношения: разве может муж так любить жену?
Детей у них не было, и с первого дня, как Лета Александровна въехала в этот дом, Николай и Лиза взяли ее под свое покровительство.
Однажды Лета Александровна позвала Ивана посмотреть, как Николай будет «делать крысоеда».
У хозяина флигеля было большое хозяйство, одних овец умудрялся держать больше полусотни. А где овцы, там и крысы. Прихрамывающий Николай выкатил из сарая большую железную бочку из-под горючего и бросил в нее несколько заранее отловленных крыс.
– Может, не надо вам на это смотреть? – хмуро спросил он. – Да и мальчик…
– Ничего, – сказала Лета Александровна. – Мы посмотрим.
Николай раскочегарил бензиновую паяльную лампу, и когда пламя ровно загудело, сунул ее в бочку, поставленную на попа. Опаленные крысы заверещали, бешено запрыгали, норовя вырваться из ловушки, но Николай объяснил, что это им не удастся: по высоте бочка в самый раз, не выпрыгнут. Постепенно хаотическое движение зверьков упорядочилось. Они носились по кругу толпой. Слышно было только, как их когти цокают по металлу. Из бочки пахло паленой шерстью. Наконец голод сделал свое дело: крысы вдруг набросились на самую слабую и израненную свою товарку и в мгновение ока сожрали ее. Потом еще одну. И эта жуть продолжалась, пока в бочке не осталась одна-единственная тварь, с окровавленной мордой и покрытая струпьями. Николай ногой повалил бочку на бок, и крысоед метнулся в ближайший сарай.
– И что потом? – сдавленным голосом спросил Иван.
– Теперь он будет жрать своих, – ответил Николай. – Пока кто-нибудь его не остановит.
Тогда Иван на удивление легко отнесся к увиденному. Сказал: «Если ты хотела показать мне, что делает жизнь с русскими людьми, ты этого не добилась. Слишком просто свалить на паяльную лампу, на Сталина, на Россию, судьбу, черта, Бога все зло, которое творим мы сами, которое позволяем творить. Можно сколько угодно кивать на злых гениев или святых праведников, но от этого абсолютно ничего не меняется: мы сами отвечаем за свои поступки».
Но впоследствии он много раз возвращался к этой сцене в своих публицистических произведениях, печатавшихся сначала на Западе, а потом и в России. Крысоед стал для него метафорой русской жизни – тем более страшной, что это была и его жизнь.
– Трудно мне с русскими, – посмеивался он. – Наверное, потому, что я один из них.
К Николаю же после этого он проникся настоящей ненавистью, чуть заглохшей лишь с годами. Крысоед – только так он его и звал. «Не могу! Почему-то он у меня брезгливость вызывает…»
Лета Александровна вспомнила тетушку, настоятельницу монастыря, у которой они с мужем побывали в гостях незадолго до Первой мировой. В семье тетушку звали Купчихой – за стать, за пышную красоту. Поговаривали, что матушка-настоятельница и после пострига поддерживала отнюдь не платоническую связь со своим старинным другом Федором Ивановичем. Когда беременная Леточка выходила с нею из монастырской церкви после службы, на паперти Лету обступили молчаливые нищие, и она с перепугу отдала им все бывшие при ней деньги, лишь бы они не дотронулись до нее своими руками.
Тетушка увела ее к себе, привела в чувство, потом сказала:
– Брезгай людьми, девочка, но не жизнью.
Леточка вспыхнула.
– Как же отделить жизнь от людей?
– Для того и живем, чтоб научиться этому, – сказала Купчиха, глядя на племянницу бездонными черными глазами. – Потому и верим в Бога…
– Ас – два! Ас – два! – выкрикивал сквозь сжатые зубы Енерал.
Домаршировав до клумбы, он остановился, вытер фуражкой пот с лысины.
– Доброе утро, Петр Никитич, – сказала Лета Александровна. – Ночью, кажется, был дождь.
От наволгшей земли поднимался пар, выкрашенный утренним солнцем в ярко-розовый цвет.
– Лета Александровна! – крикнул Енерал. – Все хочу спросить… У вас зубы свои или не свои? Простите, конечно…
Лета Александровна сдержанно улыбнулась.
– Свои, Петр Никитич.
– Завидую. – Енерал нахлобучил кепку. – Пора и чай знать.
После общего утреннего чаепития встречали машину с продуктами. Чеченские мальчишки повисли на Шамиле. Евгений ревниво поглядывал на Лиану, которая оживленно болтала о чем-то с Рафиком. Пришедший на подмогу Крысоед держался поодаль.
– Ну! Ну! – Лиза хлопнула в ладоши. – Дети, отправляйтесь в сад. А вам хватит болтать – тащите все в кухню, там разберемся!
Мужчины взялись за коробки и ящики.
Лета Александровна наблюдала за разгрузкой с веранды, где для нее поставили легкое креслице. Руфи с трудом удалось усадить рядом с нею Ивана. «Не хватало тебе ящики таскать! А завтра что будет?» Иван ворчал: не любил, когда ему напоминали о хворобах.
С веранды через широкий просвет в деревьях было видно пойму с железнодорожным мостом и мчавшиеся к Москве пышные облака, ярко освещенные солнцем. Высоко в небе гудел самолет.
– А что это там? – спросил вдруг Зиф. Он подошел сзади и присел на корточки между Летой Александровной и Иваном. – Гляньте-ка.
От самолета отрывались какие-то пятнышки – их становилось все больше, пока не стало ясно, что это парашютисты.
Один из чеченских мальчиков что-то громко крикнул. Младший попятился к веранде, не отрывая взгляда от самолета. Приложив ладонь козырьком ко лбу, Лиана смотрела вверх. Возле нее уже собрались армянские дети. Из глубины сада прибежали и остальные ребятишки.
– Да это учения! – со смехом сказал Женя. – Чего испугались, люди большие и маленькие! Это же Москва, а не Кавказ!
– Это солдаты, – серьезно сказал старший чеченский мальчик («Как же его звать? – попыталась вспомнить Лета Александровна. – Руслан? Нет… Асланбек?»). – Они убивают.
– Асланбек, помолчи! – крикнула Лиана. – Где Шамиль? Шамиль! Рафик!
Армянские малыши заплакали – тихо, почти без голоса.
– Черт знает что такое! – пробурчал Иван, решительно поднимаясь из кресла. – Лиана! Шамиль! Да остановите же их, кто-нибудь…
Он вдруг запнулся, оглянулся на мать. Она не шелохнулась, но что-то в выражении ее лица изменилось. Она привлекла к себе Зифа и сердито крикнула:
– А ну-ка, вы, черненькие! Идите сюда! – Она не могла сказать им, что солдаты никого не будут убивать, она не могла сказать им, что под ее защитой они будут в безопасности, она лишь еще более сердито повторила: – Идите сюда! И вы, беленькие! Я здесь.
И хотя она не сказала ничего такого, что могло бы успокоить и ободрить детей, они вдруг побежали со всех сторон к старухе, сидевшей в креслице на веранде с поднятыми, словно крылья у курицы-клуши, руками и натекшей на подбородок слюной, и сгрудились, сбились вокруг нее, облепили ее, все еще всхлипывая и дрожа, – а она лишь касалась руками их черных и русых голов, их плеч, лиц, бормоча: «Я здесь… Я здесь…»
Электричка, которой уехали Иван и Руфь, обогнула холмы по плавной дуге и устремилась, набирая скорость, к железнодорожному мосту. В вагоне зажгли свет.
– Мужчины, женщины, кто угодно, а они к ней бросились, – вдруг проговорил Иван. – Ах, мама, мама…
Руфь прижалась к его плечу.
С моста открывался вид на дачный поселок, на Кандауровские холмы и пойму, на высокое небо, залитое закатом, на реку и облака, грозно разворачивавшиеся в вышине, в окна хлынул запах донника, запах речного ила…
– Она там, – сказал Иван.
И Руфь поняла, что он говорит о матери, сонно следившей из «колоды» за убегавшей электричкой, пока вокруг нее разворачивался целый мир – жаркий, предгрозовой, пахучий, кипящий и даже жестокий, но она лишь спокойно внимала этому миру, провожая вечность благосклонной улыбкой, вечность, в которой хватало места всему и всем, даже ей, старой одинокой женщине, любившей лёт тополиного пуха и неслышно бормотавшей: «Господи, как же мне благодарить Тебя? Как, Господи?» И голова у нее немножко кружилась, ибо она уже предчувствовала ответ Бога…
Казанский вокзал
Он оделся потеплее, проверил, все ли пуговицы застегнуты, достал из стоявшего в углу старого валенка спрятанную от внучки бутылку водки и осторожно приоткрыл дверь. Предусмотрительно смазанные с вечера петли не выдали его.
В темной гостиной пахло неряшливой женщиной, перегаром и особенно мерзко – апельсинами, в жирной мякоти которых тушили окурки.
Мишутка, уже одетый, сидел бочком на низкой табуретке в прихожей, спрятав лицо за полой материного пальто.
Овсенька натянул рыжий брезентовый плащ, убедился, что шапка сидит ровно, и не глядя взял Мишутку за руку, привычно подавляя вздох: пальцы мальчика были пугающе холодны.
Вниз они спустились по лестнице: старик боялся лифта. Прошли вдоль стены дома – быстро, вжимая головы в плечи и не оборачиваясь, чтобы не приманить недобрый взгляд.
Узкая улочка вывела их к платформе пригородной электрички. Ездили они всегда бесплатно, и контролеры их не трогали: старику прощали безбилетность по возрасту, а с глухонемого малыша – какой спрос? Мишутка всю дорогу дремал, притулившись плечом к окну и спрятав зябнущие руки в рукава.
Сын привез Овсеньку в Кандаурово лет тридцать назад. Спустя год после переезда старуха умерла, и сын уговорил Овсеньку обратиться в крематорий. Старику выдали урну. Он не знал, что с нею делать. Засунуть в дырку в стене и запечатать табличкой с именем? На это не решился. Отвезти в деревню и похоронить как полагается? Да узнай деревенские, что в гробу банка с пеплом, – сраму не оберешься…
Когда умер и сын, Овсенькино одиночество стало полным. Пившая запоями внучка раз-другой в месяц устраивала ему выволочку, убирая в его комнате и гоняя шваброй валявшуюся под койкой старухину урну. Овсенька никогда ни с кем не спорил. Внучку это раздражало: ей нужен был противник, а не это безответное костлявище.
«Ты потому такой, что у тебя ничего своего нету, кроме прозвища! – в сердцах заключала внучка. – И не было».
Овсенька легко соглашался: и не было.
Прозвище же свое он получил в детстве, когда в компании однолеток бегал под Рождество по домам и кричал: «Овсень! Ов-сень! Подавай нам всем! Открывайте сундучки, доставайте пятачки!» А поскольку кричал он звонче и веселее всех, то и прозвали Евсея – Овсенькой.
Когда внучке надоело держать припадочного Мишутку на цепи, она разрешила Овсеньке брать мальчика с собою в Москву, куда старик наладился ездить почти каждый день. С утра до вечера они бродили в районе Каланчевки, и так уж как-то само собой выходило, что добрые люди совали Мишутке то пирожок, то конфетку, а старику иногда наливали стаканчик водки.
Вечером они отправлялись на Казанский вокзал, на платформу, у которой ждал отправления поезд на Вернадовку. Овсенька с умилением рассказывал проводникам о том, как замечательна трехчасовая стоянка в Шилове, где можно и дешевых яблок купить, и выпить рюмку, и даже в кино сходить, пока перецепляют вагоны, формируя состав на Касимов. Он подходил к окнам и спрашивал у пассажиров, куда они едут, некоторые отвечали, другие же даже не смотрели на него: мало ли сумасшедших на столичных вокзалах.
К полуночи они возвращались домой, иногда за компанию с отдежурившим милиционером Алешей Силисом, который жил по соседству. Стараясь не шуметь, Овсенька и Мишутка пробирались в свои углы – в последнее время мальчик укладывался у прадеда в ногах – и замирали до утра.
Они вышли на Каланчевке и спустились к Плешке.
На широком тротуаре лежал скрюченный бродяга по прозвищу Громобой. В подпитии он любил потешить компанию историей своей инвалидности: совесть не позволяла ему изображать калеку, и, чтобы не обманывать людей, этот правдолюб оттяпал себе ступню мясницким топором.
И вот сейчас он неподвижно лежал на стылом асфальте, выставив из-под кавалерийской шинели «честно отрубленную ногу», через которую переступали самые нетерпеливые из прохожих.
Овсенька присел на корточки рядом с Громобоем и тронул его за плечо:
– Вставай, служивый, сдохнешь ведь!
Издали, от железнодорожного моста, под который уносился автомобильный поток, за ними скучливо наблюдал постовой милиционер.
Старик попытался поднять Громобоя, но тот был слишком тяжел для него.
– А может, помер? – к ним подшаркала одетая в свои сто одежек Тамарища с десятком пустых бутылок в авоське. – Эй, хенде хох, руссише собака!
Громобой не шелохнулся. Овсенька взял бродягу двумя пальцами за шею – пульс не прощупывался. Вытерев руку о штаны, старик поднялся с колен.
– Сержанту, что ли, сказать…
– Он и сам не дурак, – возразила Тамарища, беря Мишутку за руку. – Или тебе с ребенком охота в свидетели? Пошли. Шнель, шнель!
Заглядывая по пути во все урны, они пересекли Плешку подземным переходом и вышли на перрон под крышу Казанского вокзала.
Сбившиеся в кучу татары-носильщики молча покуривали в ожидании поезда. Овсенька поздоровался с ними, приложив к шапке-ушанке твердую, как кость, пятерню. Татары засмеялись. Молодой носильщик с щегольскими черными усиками над капризно вырезанной губой дал Мишутке бутерброд с сыром. Мальчик посмотрел на старика.
– Я сытый, – сказал Овсенька, – ешь, пока не взопрешь.
Они пробились через густую толпу, миновали ларьки с ярким разноцветным товаром, нырнули в щель между штабелем ящиков с пивом и бетонным забором и спустя несколько минут оказались у вагончика Пиццы.
Этот домик на колесах, когда-то служивший строителям бытовкой, время от времени перетаскивали с места на место, чтобы не мозолил глаза разным начальникам, но вскоре он возвращался к облупившейся стене, на пятачок, давно известный вокзальному люду. У Пиццы можно было выпить и закусить на свои, погреться, взять напрокат костыли или ребенка для сбора подаяния. Сходились здесь, разумеется, свои – чужим, особенно ночью, сюда было лучше не соваться.
Сухая и желчная Пицца при виде Мишутки заулыбалась.
– Золотой мой пришел! – Она сняла с электроплитки кружку с бульоном и налила мальчику в пластмассовый стаканчик. – А вам особое приглашение требуется?
Овсенька с многозначительной миной выставил на стол бутылку.
– Что праздновать будем? – равнодушно поинтересовалась Пицца, доставая из шкафчика тарелку с хлебом и стаканы.
– Мое деньрожденье, – объявил старик.
– Сто лет, что ли? – осведомилась Тамарища. – Ну, тогда хайль Гитлер, Евсей Овсеньич!
Скосив от напряжения лицо, Пицца – «по такому случаю» – открыла банку шпротов. Овсенька бережно разлил водку, чокнулся с женщинами. Выпили. Пицца и Тамарища принялись закусывать. Старик прислонился спиной к стене, закрыл глаза. Ему стало тепло, и он лениво расстегнул плащ и снял шапку…
Согревшись и подремав, Овсенька с Мишуткой отправились в метро – кататься: это было их любимое развлечение. Старик плохо разбирался в хитросплетении линий и переходов метрополитена, но твердо знал главное: вернуться надо на «Комсомольскую». Оба любили подолгу ездить в поезде, станцию «Площадь Революции» с ее медными ружьями, курами и пограничными собаками – и не любили эскалаторы, на которых у старика кружилась голова, а Мишутка, когда лестница шла вниз, ни с того ни с сего начинал мычать и хвататься за Овсенькино пальто.
Они вышли на «Тургеневской»: старику захотелось по нужде. Темнело. В холодном воздухе пахло снегом и бензиновой гарью.
Взяв мальчика за руку, старик протолкался через толпу, колготившуюся вокруг ларьков на углу Мясницкой, напротив Главпочтамта, – «Сушеного рыбца к пивку задаром! Куплю золото, радиодетали желтые, ветхую валюту! Если ты, сука, еще раз…» – и через несколько минут нырнул в подворотню. Поглядывая то на бегущих по тротуару прохожих, то во двор, где однообразно взревывал автомобильный двигатель, он расстегнул штаны и закряхтел от удовольствия, освобождаясь от горячей тяжести в мочевом пузыре. Негромко пукнул. «Как девушка, – с умилением подумал он, вдруг вспомнив деревенскую подружку, которая всякий раз, пукнув, со смехом закрывала лицо платочком. – Шутница была… Нюрой, что ли, звали?»
Мишутка дернул старика за рукав, но Овсенька и сам уже услыхал приближающуюся со двора машину и, торопливо застегивая штаны и жмурясь от яркого света фар, прижался к стене.
Автомобиль вдруг остановился. Из него выбрался рослый парень в долгополом пальто.
– В сортир Москву превратили, – проговорил он, смерив Овсеньку взглядом. – Огнеметом надо выжигать, как тараканов…
«Лик-то у него какой… Иисус Христос прямо, и строгий такой же, – подумал старик. – Чего это он про тараканов?»
– Ваша правда, – согласился на всякий случай Овсенька. – Ну, так мы пойдем…
Первый удар пришелся в ухо – шапка слетела наземь, второй в грудь – старик ударился боком о стенку и сполз в лужу. Громко замычав, Мишутка вдруг бросился на обидчика, но тот схватил мальчика за руку, в которой был зажат перочинный ножик, и швырнул на старика.
Хлопнула дверца, машина уехала.
Овсенька торопливо ощупал мальчика – тот вырвался.
– Ты чего? Ножичек? Да щас, щас найдем… Где-то тут… Да вот! – И он со счастливой улыбкой протянул Мишутке плохонький перочинный нож с коротким ржавым лезвийцем. – Эк ты его! Ну, не плачь, чего… Забудь, ладно… Чего не бывает… Поделом ведь: не пачкай… Впредь мне, дураку, наука…
Кое-как пристроив на голове шапку, потянул Мишутку из подворотни.
В метро на Овсеньку с веселым любопытством уставилась компания подростков в кожаных курточках с заклепками и бахромой. Старик отвечал им взглядом боязливым, но ласковым: «Тут-то, в метре, бить не станут…» Наконец парень, перевязавший голову по-пиратски черным платком, наклонился вперед и, едва сдерживая смех, спросил:
– И тебя Бог создал по своему образу и подобию, а, дед? – вытянул руку к Овсеньке. – Посмотри на себя в зеркало, дед, я тебя умоляю!
Старик глянул: черный, лохматый, страшный.
Пацаны громко захохотали, и только тогда Овсенька разглядел: в руке у пирата было не карманное зеркальце, а песья фотография. Хотел сплюнуть, да воздержался: вдруг обидятся?
Прежде чем вернуться к Пицце, он купил в киоске на Плешке бутылку водки. Вздыхая, считал и пересчитывал мятые денежки – но делать нечего: день рождения. Да и настроение сделалось – выпить.
К вечеру Пицца включила электрообогреватель, и в вагончике стало душно.
С удовольствием наблюдая за ловкими движениями женщины, собиравшей на стол, старик неторопливо рассказывал о приключении в подворотне на Мясницкой.
– А Мишутка-то – с ножиком! – с восхищением сказал он. – Надо же! Мал-мал, да вон как за старого вступился. – Он запнулся и уставился на мальчика, вдруг издавшего странный горловой звук. – Ты чего, малый, а? Не плачь, Москва слезам не верит, да и времена…
– Времена… – Пицца вздохнула. – Поостерегся бы мальчишку таскать туда-сюда в такие-то времена. А ну пропадет? Ему десяти нет, а он с ножичком…
Старик согласно покивал:
– Конечно, конечно… Так ведь и дома сидеть – знаешь…
Пицца снова вздохнула: знала.
Дверь распахнулась, из темноты раздался голос Синди:
– Помогите же, суки, втащить его!
Пицца с Овсенькой ухватились за толстые мужские руки и втянули большого человека в вагончик. Сзади его подталкивали Синди и Барби.
– На кой он вам сдался? – сердито спросила Пицца, разглядев на голове мужчины кровь. – Где подобрали?
Мужчина, рыкнув, с трудом перевернулся на бок и застонал. На нем было добротное пальто и дорогие ботинки.
– Во дворе валялся, – отдышавшись, объяснила Синди. – Там же холодища, еще сдохнет, ну и решили… Да ладно тебе, не мурзись! – Присев на корточки, она быстро и умело обыскала мужика, сняла часы на золотом браслете, бросила на стол кожаный бумажник. – Ну вот…
Она вытащила из бумажника пачку денег и присвистнула.
– Баксы, – сказала флегматичная Барби. – Значит, его не грабили, а просто били. Сколько?
Синди зажмурилась: много. Синяк под ее левым глазом почти скрылся в морщинках. Очень много.
Мужчина на полу опять застонал.
– Так. – Синди деловито пересчитала купюры, отделила тонкую пачечку Пицце. – Твоя доля. С горкой. – Несколько бумажек сунула Овсеньке. – Мишутке на конфеты. – Остальное спрятала под юбкой, облизнулась. – Гуляем?
– А если он очухается и схватится? Или дружки какие-нибудь заявятся? – Пицца покачала головой, похожей на огурец. – Они тебе глаз на жопу натянут – телевизор сделают.