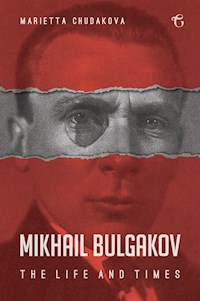Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Время
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Время — детство!
- Sprache: Russisch
Книжка для смышленых людей от десяти до шестнадцати лет. А также для тех взрослых, которые захотят понять, наконец, то, что им не удалось понять до 16-ти. Короче говоря - для всех, кто решится отбросить мифы и россказни о прекрасной эпохе Брежнева и о "плохих" 90-х - тех самых, для которых в течение "нулевых" лет политтехнологи хитроумно закрепили в сознании людей одно именование: "лихие девяностые". Для тех, кто сам захочет понять недавнюю историю своей страны в ее драматической и вселяющей надежду реальности. Кто задумает узнать, какие же они были на самом деле - эти 90-е… И еще он узнает из этой книжки историю недолгой и яркой жизни одного из самых замечательных людей российского ХХ века.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Кате Гайдар —
любимой внучке Егора Гайдара —
и ее поколению, которое сумеет
оценить его по заслугам.
Книжка для смышленых людей от десяти до шестнадцати лет.
А также для тех взрослых, которые захотят понять, наконец, то, что им не удалось понять до 16-ти.
Короче говоря — для всех, кто решится отбросить мифы и россказни о прекрасной эпохе Брежнева и о «плохих» 90-х — тех самых, для которых в течение «нулевых» лет политтехнологи хитроумно закрепили в сознании людей одно именование: «лихие девяностые».
Для тех, кто сам захочет понять недавнюю историю своей страны в ее драматической и вселяющей надежду реальности.
Кто задумает узнать, какие же они были на самом деле — эти 90-е…
И еще он узнает из этой книжки историю недолгой и яркой жизни одного из самых замечательных людей российского ХХ века.
Мариэтта Омаровна Чудакова
Егор
Биографический роман
Книжка для смышленых людей от десяти до шестнадцати лет
У замечательного российского литературоведа, писателя и общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой есть две цели, достижению которых она отдает сейчас больше всего сил, времени и таланта. Цель первая: научить подростков читать книги и — думать. Цель вторая: научить подростков разбираться в людях и — думать. Новая книга Чудаковой успешно работает сразу на обе цели. Во-первых, потому, что Егора Гайдара автор считает одной из самых выдающихся личностей ХХ века, идеальным жизненным примером для современной молодежи. А во-вторых, потому, что подросток, внимательно прочитавший и обдумавший книгу Мариэтты Чудаковой о Егоре Гайдаре, достигнет важной высоты в своем интеллектуальном развитии и, как надеются автор и издательство, впредь уровня не снизит.
Благодарности
Этой книги не было бы без постоянной помощи матери Егора Гайдара — Ариадны Павловны Бажовой-Гайдар. Преодолевая неутихающую боль потери, она с вниманием читала все варианты рукописи, снабжала меня документами и поощряла к работе. Спасибо всем близким героя книги, кто знакомился с моей рукописью и принял мой подход к биографии и личности Егора Гайдара.
Моя глубокая благодарность Якову Уринсону — без его неоднократного чтения всей рукописи и апробации моих экскурсов в экономику я никогда не решилась бы превращать эту рукопись в книгу.
Моя признательность друзьям и близким, читавшим рукопись и помогавшим советами и поощрениями, — Инне Мишиной, Евгению Тоддесу, Татьяне Пшеницыной, Наталье Самойловой, Андрею Мосину, Евгении Астафьевой, а также бессменной помощнице Гайдара Елене Мозговой. Особые чувства — моему редактору, директору издательства «Время» Алле Михайловне Гладковой, увлекшейся книгой и поверившей в важность ее издания.
Сердечно благодарю сподвижника Егора Гайдара в первом правительстве постсоветской России Петра Авена, без дружеской поддержки которого книга о Гайдаре вряд ли была бы написана в весьма сложных для ее автора обстоятельствах 2011 года.
…В них самих нет красоты и размаха, и они отказывают в этих достоинствах всем; слишком трусливые, чтобы дерзать, они уверяют, что дерзание умерло еще в средние века, если не раньше… Эти люди никогда не видели гор, значит, гор не существует.
…От их взора скрыты славные пути и те смертные, что идут этими путями, поэтому они отрицают существование и славных путей, и отважных смертных.
Джек Лондон
Время? Время дано. Это не подлежит обсужденью. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем.
Наум Коржавин. Вступление в поэму, 1952
Предисловие
Подумавши, пришла я к выводу, что эта книжка — все-таки не для каждого даже из смышленых.
А только для таких, кто или уже любит и умеет анализировать, или хочет этому выучиться.
А что это значит — «анализировать»?..
Ну, это прежде всего — думать. Работать головой. Пользоваться своим разумом как рабочим инструментом.
Не довольствоваться одними эмоциями — типа «Не нравится, и всё!» Или — «А моя бабушка говорит, что…». Но пытаться узнать и понять.
Вам кажется, например, что кто-то поступил плохо. Потому что причинил лично вам и вашим близким какое-то — и, может быть, очень чувствительное — неудобство.
Но этого, должна вам сообщить по секрету, еще недостаточно для того, чтобы тут же его возненавидеть и начать поносить. (Хотя многим взрослым дяденькам и тетенькам у нас в России кажется, что совершенно достаточно.)
Сначала нужно разобрать все происшедшее на составные части. Затем установить между ними причинно-следственные связи…
Впрочем, прояснится все это дальше.
часть первая
ЕГОРКИНО ДЕТСТВО. МОРЕ
Счастливая, счастливая невозвратимая пора детства!..
Лев Толстой
…Если не верить в детстве, что ты можешь все, то, выросши, ты, скорей всего, не сможешь вообще ничего…
Анонимный философ
1. Москва. Самые-самые ранние годы
Когда Егору исполнилось четыре года, его отдали в детский сад. Ходить туда он не любил. Ему хорошо было дома, где соблюдались «либеральные порядки»: как рассказывает его мама, разрешалось все. Кроме того, что не разрешено: лгать, лениться, сквернословить и плохо относиться к старшим.
И когда однажды Егор заболел и долго просидел дома, то очень даже радовался. Когда же выздоровел — отправился в садик с большой неохотой.
А его там встретили прямо-таки очень хорошо, радостно и ласково:
— А, Егорушка! Как хорошо, что ты пришел! Тебя так долго не было, мы все по тебе так скучали. И ты, наверно, тоже скучал по своему садику? Да?
Его мама вспоминала много лет спустя, как он стоял перед воспитательницей, бледный и сосредоточенный: ведь он был приучен не лгать… Наконец любезно улыбнулся и тихо сказал:
— Да.
Он не смог ее огорчить, сказав правду. И, после мучительных колебаний, принял одно из первых в жизни трудных решений.
Дома были мама и папа — недавний подводник, теперь журналист, мало бывавший в Москве, все больше в плаванье, откуда писал свои корреспонденции. «По морям, по волнам, нынче — здесь, завтра — там».
Прибегая домой со двора, Егорка с надеждой спрашивал:
— Папа дома?
Мама читала Егору разные книжки, среди них — книги обоих его дедушек. Он никогда их не видел, но все равно любил. Аркадия Гайдара — папиного папу. И Павла Бажова — маминого.
Дедушек давно не было на свете, но висели на стене их портреты: один — молодой, со смеющимися глазами, другой — с бородой, но добрый. И книги их стояли на полке. Всегда можно взять их и почитать.
Зато у Егора были целых две бабушки.
Папина мама жила в Москве, а на лето снимала в Дунине дачу. И Егор всю зиму мечтал о Дунине, о том, как будет там играть с друзьями. А мамина мама жила в Свердловске (хоть теперь вы такого города на карте не найдете — он снова, как в прошлые века, давно уже называется Екатеринбургом). Туда он тоже ездил летом. И очень любил уютный бревенчатый бажовский дом.
Дома, в московском дворе, тоже были друзья — мальчики и девочки. Перед девочками Егор немножко робел — ведь с ними нельзя обращаться так же, как с мальчишками! Его отцу, морскому офицеру, это бы не понравилось.
Однажды утром раздался требовательный звонок в дверь. Мама открыла. На пороге стояла Таня Тройчешникова собственной персоной — самая красивая девочка во дворе, в новом платье…
— Егор дома? — строго спросила она.
Егорка вышел, ошеломленно взирая на чудное виденье.
— Нам пора идти гулять, — сказала Таня твердо.
И Егорка, как лунатик, вышел из дома вслед за Таней, не только не спросив у мамы разрешения, но даже не взглянув в ее сторону!.. Слишком сильным оказалось впечатление от неожиданного визита Тройчешниковой.
Как вспоминала потом его мама, на лице Егорки было написано: уж если Таня за ним зашла, то другого варианта, как тут же отправиться с ней гулять, и быть не может…
— С каких лет Егор читал? — спросили недавно у его мамы Ариадны Павловны.
— Не помню… — растерянно сказала она. — Он, по-моему, всегда читал…
— А вы учили его читать?
— Нет! Точно помню, что никто его не учил. Года в три, во всяком случае, он знал все буквы — мы случайно это обнаружили…
…Взрослого Гайдара спросили, что он читал в свои детские годы.
Он ответил коротко:
— Все. Но из первых, еще дошкольных, книг больше всего мне нравились «Маугли» Киплинга и «Таинственный остров» Жюля Верна.
Его мама добавляет сюда «Всадника без головы» Майн Рида и романы Дюма — в чуть более поздние годы. И еще «Старика Хоттабыча».
…В тот день, когда он родился на свет (уже с именем — имя выбрали заранее), мама Егора писала его отцу Тимуру Гайдару из роддома: «Егор широкоплечий… Он маленький, но очень жизнедеятельный. Он один мальчик в нашей палате. Только его одного принесут мне сейчас так рано…».
А это означало, что младенец сразу показал себя очень жизнеспособным.
Весна 1956 года, когда он родился, стала временем надежд в его стране. Везде шли собрания, на которых читали вслух (но печатать — не печатали) доклад Хрущева о страшных преступлениях Сталина. Люди возвращались домой из сталинских концлагерей Колымы, Магадана, Воркуты, и им объясняли, что они, оказывается, сидели зазря, безо всякой вины. Правда, они это сами и без того знали.
И Тимур Гайдар радостно писал жене в роддом, что сам воздух в стране стал другим!
Да — пахло надеждой…
2. «Маугли»
«— Детеныш человека! Смотри!
Как раз напротив волка, держась за низкую ветку, стоял голый коричневый малыш, только что научившийся ходить, самая мяконькая и самая усеянная ямочками крошка, которая когда-либо попадала ночью в волчье логово.
Он посмотрел прямо в лицо Отцу Волку и засмеялся.
— Это человечий детеныш? — спросила Мать Волчица. — Я никогда не видела их. Дай-ка его сюда.
Волк, привыкший переносить собственных детенышей, в случае необходимости может взять в рот яйцо, не разбив его, а потому, хотя челюсти зверя схватили ребенка за спинку, ни один зуб не оцарапал кожи. Отец Волк осторожно положил его между своими детенышами.
— Какой маленький! Совсем голенький! И какой смелый, — мягко сказала Мать Волчица. Ребенок растаскивал волчат, чтобы подобраться поближе к ее теплой шкуре. — Ай, да он кормится вместе с остальными! Вот это человечий детеныш! Ну-ка, скажи, была ли когда-нибудь в мире волчица, которая могла похвастаться тем, что между ее волчатами живет детеныш человека?
— Я слышал, что такие вещи случались время от времени, только не в нашей стае и не в наши дни, — ответил Отец Волк. — На нем совсем нет шерсти, и я мог бы убить его одним прикосновением лапы. Но взгляни: он смотрит и не боится».
Вот чем он завоевывает сердце Отца Волка! Это Егорка очень хорошо понимает. Да и Матери Волчице тоже нравится, что человечий детеныш такой смелый: «Он пришел к нам совсем голый, ночью, один, и все же он не боялся!»
Тут в пещеру пробует протиснуться тигр Шер Хан.
Он хочет вернуть свою добычу: это он унес ребенка у людей — себе на обед…
«—…Клянусь убитым мною Быком, должен ли я стоять, сунув нос в вашу собачью конуру, ради того, что принадлежит мне по праву. Это говорю я, Шер Хан.
Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать Волчица стряхнула с себя детенышей и кинулась вперед; ее глаза, блестевшие в темноте, как две зеленые луны, глядели прямо в пылающие глаза Шер Хана.
— Говоришь ты, а отвечаю я, Ракша (Демон). Человечий детеныш — мой, Лунгри! Да, мой. Он не будет убит. Он будет жить, бегать вместе со Стаей, охотиться со Стаей и, в конце концов, убьет тебя, преследователь маленьких голых детенышей, поедатель лягушек и убийца рыб! А теперь убирайся или, клянусь убитым мною оленем (я не ем палого скота), ты, паленое животное, отправишься к своей матери, хромая хуже, чем в день своего рождения! Уходи!
Отец Волк посмотрел на нее с изумлением. Он почти позабыл те дни, когда завоевал Мать Волчицу в честном бою с пятью другими волками; тогда она бегала в Стае, и ее называли Демоном не из одной любезности…»
И Шер Хан со страшным ворчанием отступил, детеныш остался у волков с четырьмя их волчатами, и вскоре Стая приняла его в свои ряды. Но не так все просто. Не так, не так все просто… Недаром Багира спустя не очень-то долгое время будет уговаривать Маугли вернуться к людям, своим братьям — пока его не убили.
«— Но зачем кому-то убивать меня? — спросил Маугли».
Вот то-то и оно-то. Ни Маугли, ни Егорка не знали, что нередко ненавидят, а иногда даже убивают — только за непохожесть…
Почему-то Егорке очень нравилось одно место на тех же страницах.
Про то, что после непременного представления на Совет Стаи подросших волчат, они «могут бегать, где им вздумается, и пока они не убили своего первого оленя, нет оправдания тому из взрослых волков, кто убьет волчонка. Наказание за это — смерть, если только поймают убийцу. Подумай с минуту, и ты сам поймешь, что так и должно быть».
Нет, ему совсем не то нравилось, что кому-то — смерть.
Он вообще был против, чтоб кого-то живого убивали насовсем, насмерть. Но, конечно, Егорка понимал, что у волков нет тюрем, и убийцу некуда посадить надолго или навсегда.
А нравились ему — он сам не знал почему — те именно слова, которые мы выделили для вас курсивом.
Да, вот почему?..
Ведь Егорке по малолетству совсем неоткуда было узнать, что это большая редкость у нас (да, может, вовсе не только в России, а и везде) — остановиться и подумать с минуту над тем, что ты только что услышал.
Большинство людей судит, что называется, с кондачка — у них ответ вам готов раньше, чем вы договорили. Что первое в голову пришло, то и ляпнул. Потом только, много времени спустя, человек, спохватившись, может, и почешет в затылке: «Что это я такое сморозил?» Только большинство никогда и не спохватится. Несут себе вслух всякую дичь и ахинею, как дети малые.
Ничего такого Егорка, точно вам говорю, совсем еще не знал. Но слова эти повторял, беззвучно шевеля губами: «Подумай с минуту, и ты сам поймешь…» Может, ему нравилось, что Редьярд Киплинг обращается прямо к нему, Егорке? Его призывает поразмыслить?..
На этот раз обратился Киплинг явно по адресу. Егорка размышлять как раз любил. Он рано стал человеком рассудительным.
Не то что Обезьяний Народ, водиться с которым было запрещено Законом. С неодобрением он читал про них:
«…Они ни о чем не помнят. Они болтают и хвастают, будто они великий народ и задумали великие дела в джунглях, но вот упадет орех, и они уже смеются и всё позабыли…» Обезьяны постоянно собирались завести «свои законы и обычаи, но так и не завели, потому что память у них была короткая, не дальше вчерашнего дня». «У обезьян никогда не бывает цели…», «Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим — значит, это правда! — кричали они».
Вот уж глупость так глупость. «Все так говорим!..» Егорка давно понял, что очень даже много людей могут все вместе говорить не только неправду, но вообще чушь.
Откуда он это узнал — покрыто мраком неизвестности (Егорка очень любил эти слова, откуда-то им вычитанные). И Егорке пока неизвестно, что во взрослой жизни вот это самое знание еще сослужит ему службу.
На самое-то главное, за что все презирали обезьян, указал медведь Балу (а мы выделим это курсивом; и в дальнейшем курсив в цитатах везде будет наш — за исключением специально оговоренных случаях курсива авторов цитат): «Я научил тебя Закону Джунглей — общему для всех народов джунглей, кроме Обезьяньего Народа… У них нет Закона».
Можно смело сказать, что именно книжка про Маугли впервые открыла Егорке глаза на очень важную вещь.
Оказывается, что даже в джунглях, где у всех обитателей совсем разные интересы — пантере Багире и Матери Волчице интересно съесть оленя, а оленю совсем не интересно, чтоб его кто-то ел, — все хищные звери и мирные животные все-таки могут сосуществовать и даже бок о бок растить потомство, каждый свое. Только потому, что все они подчиняются одному неписаному Закону Джунглей.
И только обезьяны не хотят подчиняться никакому вообще закону. Потому и пользуются общим презрением. А сами еще придумали поговорку: «Все джунгли будут думать завтра так, как обезьяны думают сегодня».
То есть хотят уверить себя и других, что у них — свой особый, от всех отличный и, конечно, самый лучший путь. И именно он-то и имеет будущее…
Я не могу вам сказать доподлинно, справедливо ли то, что писал Киплинг, в отношении жизни джунглей, — для этого надо обладать большими специальными знаниями о животном мире. Но точно скажу, что это справедливо в отношении жизни человеческого общества.
Это общество, во-первых, должно подчиняться Закону. А во-вторых, стремиться идти тем путем, эффективность которого уже доказана, а не придумывать изо всех сил свой, особый.
Об этом и сложена известная очень даже хорошая пословица: «Умный учится на чужих ошибках, а глупец — на своих».
…С замиранием сердца читал Егорка о смелости человеческого детеныша. Его поведение точка в точку совпадало с тем, что всегда требует от самого Егора его отец!
«Вообще в нашей семье трусость, даже намек на нее считались самым страшным пороком. Отец прыгает с вышки бассейна, предлагает и мне сделать то же самое. Это приглашение не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Однако прыгаю, больно шлепаюсь животом о воду, но делаю вид, что получаю немыслимое наслаждение» (Е. Гайдар. Дни поражений и побед, 1996; далее — только имя автора и год).
В середине 90-х один из журналистов спрашивал Гайдара, боялся ли он чего-либо в детстве. «…О страхах не то что не говорилось, — поясняет взрослый Гайдар, — а даже намеки о них не допускались. Конечно, наверняка чего-то боялся, но чего конкретно — не помню… Культ смелости — он шел от Аркадия Гайдара.
— Что ценилось в вашей семье кроме смелости?
— Знания».
А Маугли не боится ничего, вступает в любой бой: «Он не понимал, что такое страх». Правда, ему помогают в сражениях с опасными обитателями джунглей разные человеческие знания, которых нет у зверей. Знания, доставшиеся ему неизвестно каким путем, — ведь Маугли не успел пообщаться со своими родителями, за что Егорка очень его жалел.
«Ну что ж, — думал Егор, — не иначе как эти знания достались ему генетически». Значение этого слова Егорка, конечно, уже хорошо знал — на то и словари в доме. И правда — в книжке, например, сказано, что «Маугли, как сын лесоруба, многое знал, сам не помня откуда, и умел строить шалаши из хвороста, сам не зная, как это у него получается».
И еще замирало маленькое сердечко Егорки, когда он читал, как Отец Волк или Мать Волчица говорили: «Мы, Волки, — Свободный Народ». Эти два слова — Свободный Народ — действовали на него прямо-таки колдовским образом. Волновали, будоражили.
Он много читал стихов, легко запоминал их наизусть и, читая у Киплинга про Свободный Народ, вспоминал то строчки современного поэта Александра Кушнера:
Затем, что свобода одна —
Достойная жизни подкладка…
а то и самого Пушкина:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы…
«Для чести живы…» Егор много думал и над этими словами — правда, мало что придумал. Но они все равно очень и очень задевали его за живое. Тоже сильно волновали.
Потом в «Капитанской дочке» Пушкина прочитали с мамой на первой же странице эпиграф: «Береги честь смолоду». Мама еще так серьезно на него посмотрела. И опять Егорка очень заволновался. Чувствовал, что в этих словах что-то очень важное. Может быть, даже самое важное на свете, без чего совсем невозможно жить. Если ты, конечно, человек, а не свинья под дубом, как в басне Крылова.
А из любимой книжки «Маугли» еще ему нравился почему-то такой вот кусочек: когда Маугли подрос, пришел к людям и одно время жил с ними, то он, усевшись вместе с взрослыми вечером вокруг дерева, слушал старого охотника Балдео. Тот рассказывал «о повадках зверей в джунглях, так что у мальчиков, сидевших вне круга, дух захватывало».
Этот Балдео был большой хвастун и выдумщик. Но те, кто не бывал в джунглях, ему верили — потому что сами-то ничего про джунгли не знали. Егору особенно нравилось, что «Маугли, который, разумеется, хорошо знал то, о чем здесь рассказывали, закрывал лицо руками, чтобы никто не видел, как он смеется. Балдео, положив мушкет на колени, переходил от одной истории к другой, а у Маугли тряслись плечи от смеха».
…И я хочу под большим секретом рассказать читателям этой книги кое-что про то время, когда Егорка был уже давно не Егоркой, а Егором Тимуровичем. И однажды, сидя в президиуме, вел серьезную международную конференцию. Сам он вырос, должна вам сказать, человеком светским, то есть хорошо воспитанным. Он очень вежливо обращался решительно со всеми людьми. В том числе, конечно, и с теми, про недружелюбное отношение которых к нему самому точно знал.
И вот он сидит в президиуме — то есть лицом ко всему залу. А с небольшой трибуны справа от него выступает один его коллега. Про этого коллегу всем хорошо известно, что он ненавидит сумасшедшей ненавистью самого близкого друга Гайдара. А уж заодно и его самого.
И пока этот коллега говорит на тему доклада — все идет хорошо. И вдруг докладчик — почти случайно — упоминает имя объекта своей ненависти...
С этого момента доклад летит под откос. Кажется, что докладчик вообще забыл его тему и у всех на глазах повредился в рассудке. Он только ругательски ругает своего ненавистника (так в русских деревнях называли того, кого не любили), поносит его, как может. Словом, честит на все корки.
А Егора Гайдара это зрелище не злит и даже не раздражает, а очень смешит. Но как светский (то есть, напоминаю, воспитанный) человек он не может, глядя прямо в зал, хохотать над бедолагой открыто. И поэтому сидит, поставив щитком ладонь у рта, чтобы укрыться главным образом от докладчика. И беззвучно смеется. Его смешит такое неприкрытое проявление человеческой слабости. У него просто нет сил удержаться от смеха. И вот так он смеялся до самого конца злополучного доклада — и у него, как у Маугли, тоже тряслись плечи от смеха…
…Неужели вспомнил хвастуна Балдео? И своего любимого героя?..
Еще с восторгом читал и перечитывал Егорка про то, как все хорошо продумал Маугли, и Джунгли — то есть весь животный мир, их населявший, — сумели победить общими дружными усилиями тупых и злобных Диких Собак! Иначе пришлось бы отдавать им прекрасные Джунгли насовсем, а всем жителям Джунглей бежать на север…
Егорка вообще любил, когда все любили всех. А этого в книжке про Маугли — навалом. Поэтому ужасно нравилась ему дружба Маугли с огромным удавом Каа. И он с удовольствием в который раз погружался в рассказ о том, как Маугли пришел советоваться с мудрым, очень долго прожившим на свете удавом про Диких Собак: «Каа, по обыкновению, изогнулся, словно мягкий гамак, под тяжестью Маугли. Мальчик протянул в темноте руку, обнял гибкую, похожую на трос шею Каа и привлек его голову к себе на плечо…»
Конечно, Егору очень нравилось, что полюбившие Маугли дикие звери и мирные животные выучили его понимать язык всех обитателей Джунглей. Но почему-то его оставлял равнодушным необходимый для установления контакта клич: «Мы с тобой одной крови, ты и я!». Он не мог понять — почему. И понял, только когда стал взрослым.
Но вот с чем Егорка никак не мог смириться — это с тем, что родная мама Маугли его не узнала. Помните? Когда Маугли появился в ее хижине уже подростком, она никак не могла уверенно сказать, что — да, это ее сын. Тот, кого в полтора года унес тигр. И вот теперь он пришел к ней…
Егорка все думал и думал: могла ли бы его мама засомневаться когда-нибудь — он это или не он? И пришел к твердому выводу — нет, никогда! Такого он себе представить не мог. А эта индианка — мать Маугли — смотрит на его пятки и видит, что они сильно ороговели от ходьбы босиком. И приходит к выводу, что «эти ноги никогда не знали башмаков», а значит, это не ее сын, которому она когда-то подарила новые башмаки!..
Нет, Егорка не видел здесь никакой логики. И на мать Маугли он сердился.
3. Еще про детство
Егорка очень рано знал цифры и выучился считать — не только в пределах десятка, но даже сотни.
Внизу в их доме находилась булочная. Однажды — Егору не было еще пяти лет — мама послала его за хлебом, дав несколько монеток. Он долго не возвращался. Пришел с хлебом, протянул на ладошке оставшуюся от покупки мелочь и сказал дрожащим от обиды голосом:
— Она думает — я не умею считать…
Оказывается, продавщица дала ему булку, а сдачу — две копейки — не дала. Он стоял у прилавка молча и ждал. Потом продавщица спросила:
— Мальчик, ты почему домой не идешь?
Он еле слышно ответил:
— Я жду сдачу…
— Никакой тебе сдачи нет, иди домой!
И он пошел, удрученный людской нечестностью...
Ранний вечер в доме Тимура Аркадьевича Гайдара.
К отцу Егорки в гости опять пришли военные, по большей части в темно-синих морских мундирах, с весьма серьезными звездами на погонах.
Мальчик в коротких штанишках, четырех-пяти лет от роду, выходит из детской комнаты с шахматной доской под мышкой. Взрослые улыбаются ему навстречу. Они готовы поговорить с сынишкой Тимура об его оловянных солдатиках, посмотреть недавно появившегося огромного плюшевого мишку… А круглоголовый мальчик тихо спрашивает:
— Вы не хотели бы сыграть в шахматы?..
Ну почему бы не развлечь такого симпатичного ребенка? Он, конечно, путается в ходах — заодно и подучим.
Один из офицеров решительно отставляет рюмку, усаживается на табуретку за маленький столик. Фигуры расставлены. Переговариваясь с товарищами за большим столом, морской офицер рассеянно, лишь изредка взглядывая на доску, переставляет фигуры.
Егорушка так же тихо говорит:
— Шах.
— Что? — встрепенулся кавторанг. — Какой еще шах?!
Егор делает еще один ход и еще тише говорит:
— Мат.
За большим столом — хохот. Игрока зовут обратно, к студню, салатам и выпивке. Но тот уже завелся:
— Как это? Давай расставляй снова!
Белые и черные снова выстроились на доске. Теперь кавторанг уже не оборачивается к большому столу, играет внимательно, вдумчиво. Но вскоре снова раздается тихий, но твердый детский голосок:
— Шах…
И затем:
— Мат.
И — гневный возглас кавторанга… Ему явно приходится делать громадное усилие, чтобы удержать в груди неподходящие выражения. Конечно, не по адресу малыша, а скорее уж по адресу своего друга Тимура: нечего таких умных пацанят разводить!..
А Тимур Гайдар, хохоча, кричит:
— Не обращай внимания! Я его научил, а он и меня обыгрывает! Не обращай внимания…
После этого далеко не всякий из отцовских гостей принимает Егоркино предложение сыграть в шахматы.
В доме бывали поэты.
Егорка любил стихи и любил читать их вслух наизусть. Часто с особым выражением читал стихи приятеля отца Григория Поженяна — фронтовика, воевавшего в морской пехоте... От мыслей о ней у Егора все замирало внутри: «Вот бы мне!» А строки —
Есть у моря такая сила,
Что всегда возвращает к морю, —
ему казалось иногда, что он сам их написал.
Но всем и повсюду — гостям, домашним и самому себе — читал он вот эти свои любимые стихи:
А ты — терпи, терпи и жди.
Терпи и мучайся в работе,
и не сходи на полпути,
и не кренись на повороте.
И, не завидуя другим,
Иди
И будь самим собою…
Чувствовал, что ли, что эти строки не раз откликнутся в его взрослой жизни?..
4. Егорка Гайдар и его страна
Я — стрелочник. Я виноват во всем, Что на моих глазах происходило. И выраженье — «Я здесь ни при чем» — В моем сознанье не имеет силы. Виновен в том, что верил в палачей, Что в их портретах я души не чаял… За всех имевших место Ильичей Я целиком и лично отвечаю…
Валентин Резник. Стрелочник, 2007
А вот теперь самое время поговорить о том, в какой же стране родился и жил мальчик Егорка. Потому что про нее сегодня вы мало что знаете. Она стала уже почти что сказочной, никому не ведомой страной. И если о ней вам не рассказать — то книжку мою пришлось бы начинать словами: «В некотором царстве, некотором государстве жил да был мальчик Егорка».
Страны этой уже двадцать лет как нет ни на одной карте мира.
Но была она долго — 70 с лишним лет.
Страна эта называлась немножко странно — сокращенно: СССР. То есть — Союз Советских Социалистических Республик.
Чаще ее называли — Советский Союз. А ее жители назывались — советские люди.
Была даже песенка:
Мой адрес — не дом и не улица,
Мой адрес — Советский Союз!
Правда, Егорка эту песенку не совсем понимал. Сам он рано выучил свой адрес — чтобы не потеряться. А что это за адрес такой — Советский Союз? Это все равно что в рассказе Чехова, который ему еще в очень раннем детстве читала мама, — как бедный Ванька Жуков написал своему любимому дедушке письмо — со слезами просил забрать его из города, где он работает у хозяина и ему там совсем плохо и одиноко. Ну вот, заклеил письмо в конверт, а на конверте написал: «На деревню дедушке». А потом подумал и приписал имя-отчество… Ну вот — сами подумайте: может такое письмо дойти до адресата? Егорка долго расстраивался, что дедушка Ванькино слезное письмо так и не получил.
…Выходит, такие же, что ли, Ваньки Жуковы песню сочиняли?
В Советский Союз входили много разных республик. Грузинская, Армянская, Азербайджанская — это на Кавказе. И еще на юге Западной Сибири — очень большая Казахская. И в Азии — Туркменская, Узбекская, Таджикская.
Егорка легко находил их все на карте. Карту он любил и с раннего детства хорошо знал.
А на западе, на границе с Европой, — еще и Белоруссия, и Украина. Украина — она на Черном море. Там — легендарный город Одесса. А недавно Хрущев взял да и подарил Украине весь Крым, включая Одессу, Севастополь, Ялту с домиком Чехова — там больной туберкулезом Антон Павлович жил в свои последние годы, Коктебель, где Дом писателей и там тоже кто только ни жил. Ну и что, что подарил Украине? Егорке не жалко — страна-то все равно одна, никуда всеми любимый Крым не денется.
…А на берегу не солнечного Черного, а прохладного и сумрачного Балтийского моря — республики Прибалтики: Литва, Латвия, Эстония.
В Латвии, на взморье под Ригой, в Дубултах — тоже Дом писателей. Как-то летом они были там всей семьей. Мама восхищалась хорошенькими домиками и тем, как много цветов во дворах, и еще чистотой на улицах…
Егорка уже немножко знает историю. Он знает, что эти республики до 1917 года входили в Российскую империю, а потом сделались независимыми государствами. А потом Сталин ввел туда войска — и они стали советскими республиками. Только еще больше зависимыми, чем при царе.
Кстати, отец говорит, что за границей наших людей все равно никто не называет советскими, а только — русскими. Всех без разбору — и украинцев, и казахов. Наверно, потому, что РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — самая большая. И в ней живет очень много русских. Правда, в ней есть еще и автономные республики — Башкирская, Татарская, Дагестанская… Они — внутри Российской республики, у них нет границ с другими странами. Поэтому по советской Конституции (Егорка ее, конечно, читал) союзная республика может взять да и объявить себя независимой — и отделиться от Советского Союза. И общая советская граница станет ее границей с другими какими-то странами. А автономная — не может. Потому что ей просто некуда отделяться.
Правда, отец смеялся, когда Егорка с ним про это заговорил. И сказал, что право на отделение у союзных республик, записанное в Конституции, — оно только на словах. А на деле никто и никогда им отделиться не даст!
Это Егорка не понял. Как же так, ведь Конституция — Основной закон! Все же должны ему подчиняться! Но приставать к отцу не стал.
Советский Союз назывался так потому, что считалось — им управляет советская власть. Еще говорили — власть советов. Но это только так говорилось. Никакой власти советов в Советском Союзе не было. Егорке этого никто не объяснял — советская и советская. Но читателям этой книжки я постараюсь объяснить. Не сразу, а попозже.
Считалось, что советские люди строят социализм. Про него известно было главное — при социализме каждый получает по труду. К счастью для советских людей, мало кто из них знал, что за границей, при капитализме, все — от рабочих до профессоров — тоже получают по труду, только гораздо больше, чем у нас. А если бы это точно узнали, то что такое социализм и почему его обязательно надо строить, стало бы не очень-то и понятно.
Тем не менее как раз через несколько лет после рождения Егора объявили, что социализм в основном уже построен и пора начинать строить коммунизм, чтобы успеть завершить это дело к точному году — к 1980-му… Генеральный секретарь КПСС объявил в 1961 году: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Так что деваться некуда.
А коммунизм — это когда каждый будет получать уже не по труду, а по потребностям: зашел в магазин и взял с полки столько коробок конфет, сколько тебе требуется. А платить ничего не надо, потому что денег во время коммунизма вообще не должно быть, — Маркс объяснял, что при коммунизме деньги отмирают.
(И вот что самое интересное — многие поверили про 80-й год, я сама таких видела, и вовсе не самых глупых…)
В Советском Союзе ни у кого не было никакой собственности — кроме личных вещей. Решительно все принадлежало государству — фабрики, заводы, шахты, дома и так далее. Все квартиры, в которых жили люди, тоже принадлежали государству. Если квартиру государство давало каким-то людям, то они не могли оставить ее детям — если, например, дети жили в другом городе. Или просто — не прописаны в квартире родителей. Тогда после смерти родителей государство эту квартиру забирало себе обратно.
Но зато — квартплату платили очень низкую. И многие до сих пор это вспоминают. Но зато — квартиры были плохие и тесные, по несколько семей жили в одной квартире. Это почему-то не вспоминают.
Вот в 1959 году мастер стройуправления из Казахстана (тогда — часть Советского Союза) пишет письмо маршалу Ворошилову — председателю Президиума Верховного Совета (письмо сохранилось в российских архивах и его прочитали вслух в одной из передач на радио «Свобода»):
«…Дома у нас строят очень хорошие, капитальные, из сборного бетона, но очень богатые для настоящего времени. Планировка квартир преимущественно из трех-четырех комнат, а по необходимости семье дают только одну комнату, и в результате в одной квартире живет три-четыре семьи. Кухня только одна — очень неудобно и убого. Почему не строят однокомнатные квартиры, двухкомнатные, ведь это же очень удобно и экономнее… А кому, собственно, нужна квартира из трех-четырех комнат? Думаю, очень мало таких семей, больше согласны иметь одну комнату 15—18 метров и кухню, это очень хорошо и удобно, и дешевле, выгоднее». Тут слово «очень» часто повторяется, ну как уж написал рабочий.
Здесь все было бы непонятно в том же самом 1959 году жителям любых несоциалистических стран — США, Англии, Швеции и других: как это — однокомнатная квартира с кухней как предел мечтаний для семьи в несколько человек?..
Правда, в годы детства Егора уже появилась возможность у тех, кто имел хорошую зарплату или, например, поработал на Севере, а там зарабатывали из-за трудных условий гораздо больше, — вступить в кооператив. То есть, купить себе квартиру у государства в долг. Заплатить половину ее цены сразу, а остальное выплачивать государству ежемесячно в течение пятнадцати лет. Многие так и делали, и радовались такой возможности, хотя платить за кооперативную квартиру почти всем было очень тяжело. Ведь никакого бизнеса никто не имел — только зарплату, и небольшую.
Не существовало ничего такого, что было бы — чье-то: частных магазинов, частных парикмахерских, частных прачечных, частных кафе, частных школ, частных детских садов — все-все принадлежало государству.
Если нужных вам вещей вы не находили в одном магазине, то вряд ли вы бы нашли их в другом — выбор везде имелся примерно один и тот же. И, в сравнении с выбором в сегодняшней России или с тогдашним в любой европейской стране, не строившей социализм (Франции, Италии, Германии, Англии, Швеции и так далее), — неимоверно скудный.
Особенно плохо было с одеждой. Иностранцы на улицах наших городов сразу выделялись — модной, яркой, хорошо сшитой одеждой. Их на нашем сером фоне замечали за сто шагов.
Купить что-то приличное (отстояв, конечно, несусветную очередь) удавалось только в одном городе огромной страны — в ее столице.
Поэтому летом магазины Москвы оказывались битком набитыми приезжими людьми — москвичи старались в эти месяцы туда и не ходить. Со всей страны люди ехали во время отпуска в Москву — за платьицами и костюмчиками для дошкольников, за школьной формой…
И, конечно, все стремились найти одежду и обувь импортные. Советские товары очень уж некрасивые, а обувь еще и неудобная. Даже вечно пьяному водопроводчику из жэка жена покупала ботинки не известной советской фабрики «Скороход», а немецкой фирмы «Саламандер». Она оправдывалась во дворе перед соседками, осуждавшими ее за дорогую покупку:
— В наших-то мой дурак спьяну ногу сломает — что я с ним делать буду?..
Егорка с его привычкой обо всем размышлять никак не мог понять: «А куда же девают скороходовские ботинки, которые никто не покупает?»
И только много лет спустя, уже в студенческие годы, узнал он печальную судьбу мужских плащей советского производства, покупать которые население ни за что не хотело, а гонялось за появившейся недавно «болоньей».
Эти плащи (как и пальто, и немало чего другого) висели в магазинах по десять лет. После их собирали в кучу и где-то в специальном месте сжигали — «под подписку». То есть с сотрудников магазина, участвовавших в такой операции, брали расписку, что они никогда, ни при каких обстоятельствах, никому про это аутодафе не расскажут. Это называлось — подписка о неразглашении секретных сведений…
Почему бы вместо хранения страшных секретов про плохую продукцию не производить продукцию хорошую — об этом Егорке еще только предстояло размышлять. И узнавать, например, что такое план и дефицит.
Подружка Егорки по детсадовской группе пришла однажды в ситцевом сарафанчике ослепительной красоты — короткая юбочка топорщилась во все стороны, как у балерины. Кто-то даже закричал: «Иринка-балеринка!» И Егорка слышал, как ее мама с гордостью говорила его маме:
— Венгерский! Муж три часа в «Детском мире» отстоял. По два сарафана в одни руки давали…
Именно в те годы появились такие новые товары, которые сразу же стали дефицитом.
Мой школьный товарищ тогда же остроумно сказал:
— Советская власть приучила нас к трем вещам — и не дает возможности их купить: шариковые ручки, растворимый кофе и туалетная бумага.
…Сегодняшнего подростка трудно заставить поверить, что за туалетной бумагой люди выстаивали очереди по три-четыре часа.
Среди хорошего в советском времени назову пионерские лагеря.
На все лето за небольшие деньги можно было отправить детей в лагерь — туда, где поля, леса и речка. Там ходили в походы, собирали грибы и ягоды, делали гербарии и 1 сентября гордо приносили их в школу на урок ботаники…
А родители в это время могли, например, отправиться по дешевой профсоюзной путевке в дом отдыха. Правда, почти никогда — вместе. Потому что путевки давали каждому на его работе. И жить приходилось не в отдельной комнате, а в палате, где были еще два-три и больше соседа или соседки. Но все не сильно переживали, потому что и дома многие жили в коммунальных квартирах, где на кухне всегда толклось полно народу.
Вы, конечно, можете меня спросить: а почему бы родителям не поехать вместе, прихватив и детей, скажем, в Турцию, в Египет или на Кипр? «Вот я, — рассказывала мне недавно одна десятилетняя девочка, — с родителями ездила прошлым летом в Турцию и даже стала в отеле, где мы жили, победительницей конкурса на лучший танец живота! И получила премию — корзинку с бутылкой шампанского и всякими прекрасными фруктами!..»
Но если бы вы задали такой вопрос рядовым советским людям в 1962 году, вас, пожалуй, заботливо спросили бы, не состоите ли вы на учете в психиатрическом диспансере. А может, вы вообще — турецкий шпион?..
Еще были демонстрации — на 1 мая и на 7 ноября.
Медленно шли — с плакатами, с красивыми бумажными цветами, с большими портретами каких-то дядек (они назывались Политбюро), с разноцветными воздушными шариками через всю Москву. И приходили наконец на Красную площадь. Тут начиналось самое главное. На Мавзолее — прямо над огромными буквами «ЛЕНИН» — стояли Хрущев в шляпе и разные другие люди. И можно было изо всех сил орать «Ура!». Здорово все-таки ехать на папиных плечах по Красной площади и размахивать флажком!
…Но лет пятнадцать спустя — другое дело. Студенты уже не хотели идти в выходной день на демонстрацию, кричать «ура» Брежневу. Их теперь заставляли это делать. А тех, кто отказывался идти, записывали, и факультетское бюро комсомола или даже деканат могли сделать им за это какую-нибудь гадость.
В СССР имелась только одна партия — Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). Она же и считалась правящей — руководила всем, что происходило в стране. Эта ее роль была записана в Конституции СССР — в 6-й статье:
«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу... руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма…»
Поэтому когда говорили — партия, все знали, что речь идет о ней, единственной. Член партии — то есть член правящей партии.
Еще имелся Верховный Совет народных депутатов. А у него — Президиум, и Председатель Президиума. Но ни от Президиума, ни от Председателя ничего существенного не зависело. Правда, именно Президиум мог помиловать осужденного: уменьшить срок и даже вообще выпустить на волю. Но помилованных что-то особенно не замечалось. И, конечно, достаточно Генеральному секретарю бровью повести, чтобы в помиловании отказали: Верховный Совет и его Президиум полностью зависели от воли правящей партии. Так что власть в стране называлась советской, можно считать, по недоразумению. Если не сказать хуже.
В каждом городке выбирали районный Совет народных депутатов. Но выбирали не из двух или больше, а из одного — в бюллетень всегда вписывался только один кандидат…
Поэтому наиболее смышленые дети и подростки интересовались у родителей — почему называется выборы, когда никакого выбора нет?.. Но обычно родители предлагали смышленым детям помалкивать в тряпочку, если они не хотят, чтоб их родителей отправили далеко-далеко, куда Макар телят не гонял.
…Были даже и поселковые советы, и сельсоветы, то есть советы и в поселках, и даже в селах. Но это еще не факт, что они-то и располагали властью. Нет — самое большее, что они могли делать, — это давать советы райкомам (районным комитетам), горкомам (городским комитетам) и уж совсем всемогущим обкомам (областным комитетам) правящей коммунистической партии…
Но обычно партия в их советах нисколько не нуждалась. Наоборот — вызывала на расправу (называлось — «на ковер») какого-нибудь провинившегося председателя сельсовета. Того, например, кто в неурожайный год осмелился не сдать все до последнего зерна государству, а укрыл — оставил маленько односельчанам-колхозникам…
И тут же на заседании райкома его снимали с выборной (заметим!) должности. Заодно исключали из партии (беспартийные оказаться на такой должности заведомо не могли) или, по крайней мере, объявляли выговор. У него две степени — выговор с занесением в личное дело (это было довольно паршиво — с такой записью в личном деле на хорошую работу в Советском Союзе уже не устроишься) или без занесения.
Ну и в сельский совет или Совет депутатов какого-то городка приезжал представитель бюро райкома КПСС и объявлял собравшимся, что выбранный ими ранее председатель их Совета снят за такие-то ошибки (в советское время это — очень важное слово: за ошибки могли в тюрьму посадить, а при Сталине — и расстрелять). И что райком партии предлагает им избрать нового председателя. Его тут же им обычно и представляли. Как правило, колхозники или горожане впервые его видели в глаза. Но послушно за него голосовали. И выбирали обычно единогласно.
Так что советской монопольная власть компартии называлась по чистому недоразумению. Вернее — это была ложь государственного масштаба.
И вот большая и не очень большая неправда, фальшь, лицемерие просачивались буквально везде. Например, говорилось: «Пионер — всем пример!» А кому пример, если в пионеры принимали всех поголовно в третьем классе?.. И без красного галстука школьника встретить было трудно — до того момента, когда в седьмом классе всех постепенно принимали в комсомол…
Так что уже в девять лет смышленый человек вставал перед сложным вопросом — а кому это он, собственно, пример?..
На пионерских сборах старшая пионервожатая громко выкрикивала:
— Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина—Сталина будьте готовы!
И все нестройным хором отвечали:
— Всегда готовы!
Кажется — ну и что? И ничего такого плохого…
А вот нет. Очень даже есть плохое. Когда все говорят и даже думают одинаково, это к хорошему не ведет.
* * *
Был такой замечательного ума человек — Фридрих Хайек (в зрелые свои годы Егор Гайдар очень его ценил). Он в 1974 году получил Нобелевскую премию за глубокий анализ экономических, социальных и прочих явлений. Так вот, он писал, что задача построения социализма опасна уже потому, что «требует всеобщего единого мировоззрения, единой системы ценностей».
И почему это все-таки опасно?
Вот почему:
«Именно социалисты в своих стараниях породить массовое движение, опирающееся на единую идеологию, и создали те идеологические средства внушения, которыми так успешно воспользовались нацисты и фашисты.
В Германии и Италии нацистам и фашистам практически не потребовалось изобретать ничего нового. Обычаи и ритуалы новых политических движений, пропитывающие все стороны жизни, были введены в употребление социалистами. Идею политической партии, охватывающей все стороны жизни человека от колыбели до могилы, стремящейся руководить всеми его взглядами и обожающей превращать любые вопросы в партийно-идеологические, впервые на практике осуществили социалисты. …Не фашисты, а социалисты стали вовлекать детей с младенческого возраста в политические организации, чтобы они вырастали хорошими пролетариями».
Он пишет про социалистов в разных странах, но до Второй мировой войны только в нашей стране, где коммунисты в 1917 году взяли власть, все это делалось в общегосударственном порядке.
И неизбежно сопровождалось враньем и лицемерием, которое детей ранит гораздо больней, чем взрослых.
Из личных воспоминаний. Во втором классе я несколько месяцев жила и училась в Ялте — там моя мама лечилась. А в Ялте отличников принимали в пионеры раньше других — не в третьем классе, а во втором. И меня приняли, торжественно надели галстук — я с гордостью его носила. Хочу заметить, что это было еще при Сталине.
После Нового года мы вернулись в Москву, и я снова пошла в свою школу. На нашем этаже учились четыре вторых класса — 2а, 2б, 2в и 2г, то есть примерно 160 человек (классы у нас были большие). А в красном галстуке на перемене расхаживаю по коридору одна я. Ну и что? Меня же приняли, я не сама его надела!
И все-таки однажды старшая пионервожатая Лариса Ефимовна (очень мною потом любимая) подзывает меня и говорит, немного смущаясь:
— Знаешь, Мариэтта, ты все-таки сними галстук и не носи его больше. А то неудобно — ты одна во всем коридоре в галстуке...
— Но меня же приняли! — говорю я возмущенно.
— Ну и что?.. Вот на будущий год всех третьеклассниц примем — тогда и будешь носить.
И на будущий год меня в Музее Калинина приняли в пионеры вместе со всеми во второй раз. Что моего уважения к пионерской организации не прибавило. И навеяло, во всяком случае, какие-то смутные мысли.
* * *
В СССР все до одного должны были иметь одну политическую идеологию — она называлась марксизм-ленинизм. И одну философию — материализм и связанный с ней атеизм. Часть церквей работала (в большинстве размещались овощехранилища, сельские клубы и тому подобное). Но членам правящей партии ходить туда не подобало. Они не имели права крестить детей, отпевать в церкви близких ну и, конечно, венчаться.
Марксизм-ленинизм — политико-экономическое учение Карла Маркса, усвоенное и дополненное Лениным. Про это подробней будет речь позже — когда Егорка в 12 лет возьмется читать Маркса. А материализм — это философское учение о том, что сначала была материя, а мысль — уже потом. Но так как никто точно не знает, как именно возникла Вселенная, то спорить о первичности или вторичности материи по отношению к сознанию можно сколько угодно. Только совершенно безрезультатно.
Учение Маркса—Ленина (при Сталине добавляли — «Сталина», а потом убрали) изучали в университетах и институтах. По нему выходило, что социализм — высшая форма общественного устройства и все страны должны постепенно к нему прийти. В основном — при помощи революции, но, может, у кого-то получится и мирно.
В этом отношении Советский Союз больше надеялся на бедные страны — в Африке и в Азии. Но деньги давал всем компартиям, в том числе и преуспевающих европейских стран. Хотя если вдуматься — становилось совершенно непонятно, с каких это щей Германии, Голландии и тем более США заводить у себя социализм и советскую власть. Но мало кто из советских людей вдумывался в это. Да и не знали, собственно, какие большие, просто огромные деньги идут на содержание, скажем, компартии США, в которой состояло, кажется, примерно 10 000 человек…
Правда, в некоторых странах — в Великобритании, в Италии, во Франции коммунистические партии были довольно многочисленные и сильные, особенно после того, как Советский Союз практически освободил Европу от Гитлера. Но через десять лет после нашей победы над фашизмом прозвучал знаменитый доклад Хрущева на ХХ съезде, где выяснилось, что Сталин, стоявший во главе советской компартии 30 лет, — страшный злодей, загубивший миллионы(!) советских людей совершенно зазря. И люди за границей, ужаснувшись такой новости, стали, что называется, пачками выходить из своих компартий. Потому что в европейских странах давно сложилось иное отношение к человеческой жизни. И в головах тамошних коммунистов просто не умещалось, как это — не во время гражданской войны, а в обычной жизни — рассылать по районным партийным организациям разнарядки, сколько тысяч людей нужно арестовать и потом пристрелить как бешеных собак…
Но идеологи этих партий постепенно убедили людей, что в России просто строили неправильный социализм: Сталин испортил замечательный ленинский проект. И что теперь надо строить, учтя все ошибки, правильный социализм — и все будет хорошо.
Тут очень кстати война за национальную независимость Кубы привела в 1959 году к победе Фиделя Кастро над Фульхенсио Батистой. СССР сразу стал Кубе помогать экономически, там в 1961 году учредили компартию — и коммунисты всего мира воспрянули. Они стали ожидать, что на этой совсем новой строительной площадке наконец-то будет построен образцовый, настоящий социализм, процветающее общество социальной справедливости. И Кубу авансом назвали Островом Свободы. Российские журналисты легкомысленно продолжают так называть до сих пор — красиво звучит!.. А пора бы уже пошевелить маленько мозгами.
* * *
В советском обществе действовала цензура. То есть — предварительный просмотр всех текстов прежде их печатания. Ленин ввел ее сразу после Октябрьского переворота 1917 года — с обещанием убрать, как только советская власть укрепится. Но, видно, она так и не укрепилась за 70 с лишним лет — до тех пор, пока вовсе не рухнула в Августе 1991-го. Рухнула — и только тогда отменили цензуру.
...Так вот, в той стране, в которой шло детство Егорки, никто не мог напечатать своего стихотворения или рассказа, если его запрещала цензура. Цензоры разрешали или запрещали печатание. А что именно они запретят — иногда даже трудно было угадать. Вычеркивали слова, строчки, абзацы, страницы, главы и отправляли в корзину для мусора целые книги. Сначала вычеркивал редактор — боясь цензора. Потом — рядовой цензор. Потом — его начальник. А если начальник сомневался — он шел с рукописью в руках в здание напротив, в ЦК КПСС. И там уже выносили окончательный приговор — печатать или (гораздо чаще) запретить публикацию.
А люди мечтали напечатать плоды своих мыслей, своего творчества. Они были готовы отвечать после напечатания перед любым судом (так, как это происходит сейчас). Но суть предварительной цензуры в том, что она вовсе не дает сочинению появиться на свет, дойти до читателей. Оставляет в виде рукописи в ящике авторского стола — и это еще в лучшем случае.
Потому что бывало и похуже. Как раз в годы Егоркиного детства всесильный Комитет государственной безопасности (КГБ), распоряжавшийся жизнями, судьбами и плодами мыслей советских людей, забрал у замечательного писателя-фронтовика Василия Гроссмана все рукописи (включая черновики) его романа о Великой Отечественной войне «Жизнь и судьба». После чего потрясенный автор (он работал над романом 15 лет) заболел раком и вскоре умер.
Поехать за границу — непременно в туристической группе, в одиночку выпускали главным образом дипломатов и разведчиков, — было очень-очень непросто.
Во-первых, вы не могли сразу поехать в «капстрану» — сначала следовало съездить в какую-нибудь «соцстрану». Там показать, так сказать, хорошее поведение за границей.
В любом случае надо сперва пойти на «выездную комиссию при райкоме партии» и ответить на вопросы ее членов — «старых большевиков». Ну, тут уж — у кого какая выдержка, какие отношения с чувством собственного достоинства… Петербургский литератор Александр Ильич Рубашкин рассказывает в своих воспоминаниях, как собрался ехать в Германию один его давний товарищ, впоследствии (уже после отъезда за границу навсегда) — неплохой и очень известный писатель.
«Старые большевики проверяли, насколько он готов к поездке в тогдашнюю ФРГ (слово «Германия» в ту пору считали неточным — или ГДР, или ФРГ). Его спросили: «Товарищ Драбкин, вот вы хотите поехать в Федеративную Республику Германию. Но разве вы уже побывали во всех краях нашей великой страны?» Фима сочинял сценарий фильма, в нем действие происходило где-то на Рейне. Все это он изложил в заявлении. Повторять ему не пришлось. Ответил вопросом на вопрос:
— А вы уже всюду побывали?
На этом поездка закончилась» (А. Рубашкин. Заметки на полях жизни, 2010).
Открою страшную тайну коммунистической партии тех лет — с особой неохотой эти люди, всю жизнь клявшиеся идеями интернационализма, «выпускали» (был в ходу — правда, только в устной речи — такой термин) за границу евреев (к этому мы еще вернемся потом).
А самого Рубашкина впервые «выпустили» за границу в самую безобидную даже из «соцстран» — Болгарию — только в 50 лет…
Даже дома — не говорю про сталинское время, а в то самое брежневское, о котором немало людей в последние годы вдруг затосковало, — нельзя было свободно говорить. Чуть заговоришь о «политике» — то есть начнешь ругать власть, — хозяева дома бросаются выключать телефон или накрывают подушкой. Никто не знал, у кого поставили прослушку-подслушку…
5. «Серебряное копытце»
Как вы уже знаете, читать Егор начал так рано, что маме его впоследствии казалось, что он читал всегда.
Но особое удовольствие было для него, когда книжку читала ему вслух мама… Читала она, конечно, не всю книжку целиком. И постепенно он разгадал ее хитрый прием: именно на самом интересном месте она говорила:
— Ну а дальше читай сам — у меня, к сожалению, больше времени нет.
Егора уговаривать читать так и так не приходилось.
Но одну книжку мама почти целиком прочитала ему вслух — сказку ее папы, Павла Петровича Бажова, «Серебряное копытце».
«Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя…»
Уже само имя казалось сказочным! Егорка слушал, замерев.
«Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку…»
Егорка смаковал каждое слово. Слышался хоть и русский, но другой какой-то язык. Немножко не тот, каким все говорили вокруг и вообще в Москве. Не «остался один», а — «семьи не осталось». «Взять в дети…»
«Спросил у соседей, — продолжала читать мама, — не знают ли кого, а соседи и говорят…». Рассказывают, что осиротела недавно семья. «Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее».
«По шестому году… — беззвучно шептал про себя Егорка. — Как мне… И осталась без мамы и папы…» Ему было жалко незнакомую девчоночку.
«Несподручно мне с девчоночкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?»
«И правда!.. — оживлялся Егорка. — Вот, например, мой папа. Чего бы он делал с девчонкой?.. Совершенно нечего! На моряка же учить ее не будешь?» А про «пособника» он сразу понял, хотя раньше слышал только про «пособников» преступникам. Кокованя в другом смысле говорил — что парнишка пособлял бы ему, значит, в разных мужских работах.
Потом все-таки решился — «Возьму ее. Только пойдет ли?» А соседи объясняют, что дома у нее больно плохое житье — там своя семья «больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья!»
Егорка возмущенно сопит. Попрекать едой! Как им не стыдно! Это ж самое последнее дело. Тут от возраста вообще не зависит — любому обидно!
Мама с мягкой улыбкой посматривает на него — Егоркины мысли она читает легко. И продолжает: «В праздничный день…»
Тут мы должны вам сказать, что Егорка слушает — и не знает, что имеется в виду, конечно, один из церковных праздников. Он-то думает про что-нибудь вроде Первого мая.
Но в этой сказке дело происходит не при советской власти, при которой родился и живет Егорка, а задолго, задолго до нее. И праздники — то есть выходные, были, во-первых, церковные: Рождество, Пасха, а во-вторых, казенные, или табельные (внесенные в табель выходных дней) — тезоименитства, то есть именины, «дни ангела» царя, царицы, наследника престола…
«В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На топчане, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно.
Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:
— Это у вас Григорьева-то подарёнка?
Хозяйка отвечает:
— Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее!
Кокованя и говорит:
— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет.
Потом и спрашивает у сиротки:
— Ну, как, подарёнушка, пойдешь ко мне жить?
Девчоночка удивилась:
— Ты, дедо, как узнал, что меня Дарёнкой зовут?
— Да так, — отвечает, — само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.
— Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка.
— Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю да все увидеть не могу».
Егор опять потихоньку вздыхает. Он даже не очень обратил внимание на странность занятия Коковани — бегать за козлом. Дело в том, что он тоже хотел бы говорить — «Дедо!». Дедушка Бажов смотрит на него с портрета. Егорке нравится его борода — такой сейчас нигде не найти. Среди друзей отца — ни одного бородатого. Все гладко-гладко выбриты.
А девчоночка между тем уже соглашается идти к Коковане в дом: «Пойду. Только ты эту кошку Муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая».
Егор слушает жадно. Конечно, взять Муренку!
«Про это, — отвечает Кокованя, — что и говорить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет».
Тут чтение дедушкиной книжки прерывается, потому что пора обедать. Но мама предупреждает, что дальше самое интересное — про этого самого козлика, за которым гоняется Кокованя. И чтобы Егор не забывал, что дело происходит на Урале, где раньше немало было золота и драгоценных камней…
После обеда мама сказала, что сейчас ей читать некогда. И она предлагает на выбор — или откладываем чтение на завтра, или Егорка читает дальше сам.
Егор молча взял книжку и уселся на диван.
Дальше описывалось, как они жили уже втроем:
«Кокованя с утра на работу выходил. Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту ходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им».
«Как нам, — думал Егорка, — когда папа возвращается из плавания. Только надо бы еще Муренку завести».
Кокованя здорово рассказывал сказки. А Даренка после каждой сказки просила рассказать, наконец, про козла.
«Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:
— Тот козел особенный. У него на правой ноге серебряное копытце…»
Вот! Наконец-то! Вот почему сказка называется «Серебряное копытце»! Егор впился в страницу.
«…В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — три камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.
Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле».
«Не рад»! А он что хотел? Чтоб она сказала: «А, подумаешь — ничего особенного…» Так, что ли?..
Егор уже начинал сердиться на этого деда.
«— Дедо, а он большой?
Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает:
— Дедо, а рожки у него есть?
— Рожки-то, — отвечает, — у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток».
В сказке дальше масса интересного про их жизнь втроем в лесной избушке.
Как-то раз Даренка осталась вечером в избушке одна — только с Муренкой.
«Как темнеть стало — запобаивалась. Только глядит — Муренка лежит спокойнехонько. Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела — это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек».
А когда Даренка выбежала поглядеть — никакого козла нет. И после многих обманок пропала и кошка. Даренка выбежала ее искать: «Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел».
Ложок, Егорка уже знал, это такой маленький лог, ложбина то есть — пологое место среди пригорков. Такое, где можно травы накосить для скота.
«…Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.
Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давай копытцем бить...»
А дальше — вот оно! Вот к чему все шло!..
«Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые — всякие».
Егорка спрашивал у мамы, замирая:
— У вас на Урале правда есть всякие разноцветные камешки?..
— Правда, Егорушка, правда! — улыбалась мама, вспоминая свое детство в предгорьях Урала.
А дальше вот что — Кокованя, вернувшись, не узнал своего домика: «Весь он как ворох драгоценных камней стал. Так и горит-переливается разными огнями. Наверху козел стоит — и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытца не стало.
Кокованя сразу полшапки камней нагреб…»
А остальные Даренка не дала ему собрать подчистую: «Не тронь, дедо, завтра днем еще на это поглядим».
Егорка почему-то сразу почувствовал, что завтра вряд ли что у них получится. Сказочные дела каждый день не повторяются!
И точно — к утру выпал большой снег, все завалил, и сколько ни разгребали — ничего больше не нашли. «Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб». Вот это правильно. Это справедливо. Но больше уж никогда не видели они ни Муренки, ни Серебряного копытца… А там, где скакал козел, люди стали находить зелененькие камешки — хризолиты…
Ночью Егорка долго не мог заснуть, ворочался в постели. То ему мерещился козлик Серебряное копытце — ножки тоненькие, головка легонькая. То кошечка Муренка мурчала ему прямо в ухо, и очень жалко было, что она пропала. Егорка понимал — вернулась в свой Сказочный Мир, откуда на время только забрела к людям…
И еще он не мог заснуть, не решив точно — хорошо это или нет, что Кокованя с Даренкой уже не смогли утром собрать все камни до последнего камешка. И когда сон стал его одолевать, — показалось, что это все-таки правильно. Если б нагребли они драгоценных камней половину, скажем, пóдпола, — может, стали бы с этих пор другими какими-то людьми. Только и думали бы о том, как это богатство употребить. И может, вообще ничего и никого больше вокруг себя и не видели бы — только эти камни и пересыпали из ладони в ладонь. Ведь бывает же, наверно, и так, правда?..