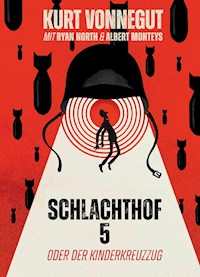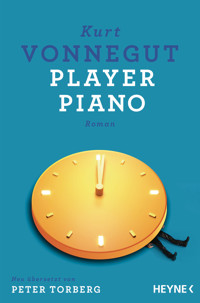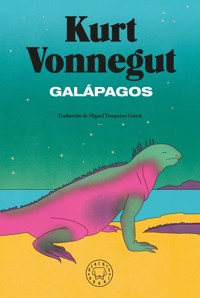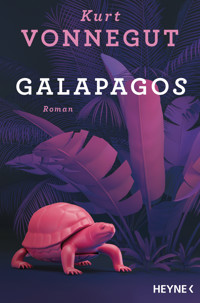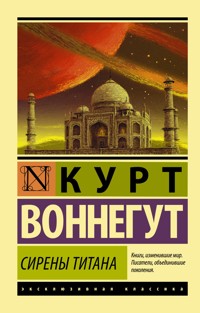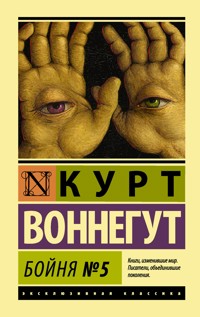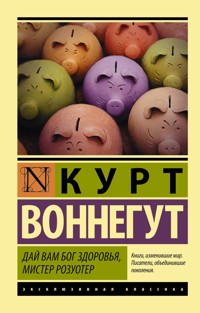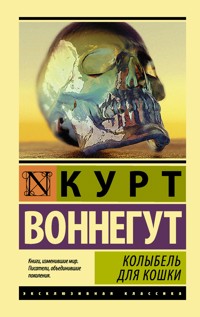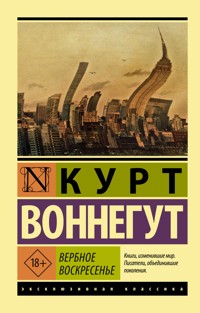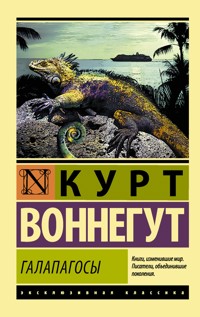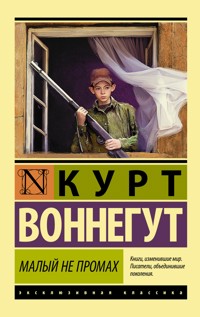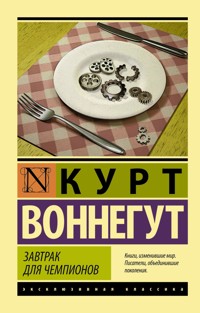6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Библиотека классики
- Sprache: Russisch
Курт Воннегут – культовая фигура в литературе двадцатого века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого прошел чуть ли не весь двадцатый век. Автор знаменитых на весь мир романов «Колыбель для кошки» и «Бойня номер пять». В творческой манере Воннегута сочетаются едкая сатира, философия, фантастика, гротеск и черный юмор. Галапагосы Небольшой островок Галапагосского архипелага стал пристанищем для людей, чудом уцелевших после всемирной катастрофы. Выжили лишь немногие – и как назло, не самые лучшие представители человечества… Синяя Борода Один из самых причудливых и загадочных романов Курта Воннегута, в котором он обыгрывает не только «мифологию искусства» ХХ века, но и архетипы «военной прозы» и мотивы древнегреческой мифологии. Автобиография вымышленного художника Рабо Карабекяна, карьера которого потерпела крах из-за некачественной краски, и история таинственной Цирцеи Берман, пытающейся изменить не только его жизнь, но и взгляды на искусство и свое место в нем, служат лишь обрамлением для притчи, по-новому трактующей известный сюжет творца, его Музы и поисков Вдохновения.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Курт Воннегут Галапагосы. Синяя Борода
Kurt Vonnegut
Galapagos
Bluebeard
© Kurt Vonnegut, Jr, 1985, 1987
Copyright renewed © 2004 by Kurt Vonnegut, Jr.
© Перевод. Ю. Здоровов, 2017
© Перевод. Л. Дубинская, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
* * *
Галапагосы
Несмотря ни на что, я все-таки верю, что люди в глубине души действительно добры.
Посвящается памяти Хиллиса Л. Хоуи (1903–1982), натуралиста-любителя – хорошего человека, который вывез меня, моего лучшего друга Бена Хитца и еще нескольких ребят на американский Дикий Запад из Индианаполиса, штат Индиана, летом 1938 года.
Мистер Хоуи познакомил нас с настоящими индейцами, заставлял нас каждую ночь спать под открытым небом и зарывать в землю свой навоз, и учил нас ездить на лошадях, и поведал нам названия множества растений и животных, и рассказал о том, что им приходится делать для сохранения жизни и размножения.
Как-то ночью мистер Хоуи напугал нас до полусмерти – намеренно, воя, как дикий кот, близ нашего лагеря.
И настоящий дикий кот откликался ему.
Книга первая. Так было
1
Было так.
Миллион лет тому назад, в 1986 году нашей эры, Гуаякиль являлся главным морским портом небольшой южноамериканской республики Эквадор, столица которой, Кито, располагалась высоко в Андах. Гуаякиль лежал на два градуса южнее экватора – воображаемого пояса планеты, давшего название самой стране. Царила там неизменная жара, да и влажность, так как город построен был в безветренной экваториальной зоне, на пружинящем болоте, которое образовывали, сливаясь, несколько сбегавших с гор рек.
Открытое море начиналось в нескольких километрах от этого морского порта. Нередко месиво водорослей заполоняло воды дельты, делая их студенистыми, облепляя сваи причалов и якорные цепи.
В те времена мозг у людей был значительно больших размеров, чем сегодня, и потому его могли занимать разного рода загадки. В 1986 году они, например, не могли разгадать, как множество тварей, не способных вплавь покрывать большие расстояния, сумело достичь Галапагосских островов – архипелага вулканических скал к западу от Гуаякиля, который был отделен от материка тысячекилометровой полосой глубокой, холоднейшей воды, прямиком из Антарктики. К моменту открытия этих островов людьми там уже обитали гекко и игуаны, рисовые крысы и лавовые ящерицы, пауки и муравьи, жуки и кузнечики, клещи и иные паразиты, не говоря уже о гигантских сухопутных черепахах.
Каким образом все они туда добрались?
Чересчур крупный мозг многих людей той поры довольствовался следующим ответом: на природных «плотах».
Другие возражали, говоря, что подобные «плоты» быстро пропитываются водой и распадаются на части – и никому еще не доводилось встречать их вне видимости берега; к тому же течение, господствующее между островами и материком, отнесло бы такое утлое суденышко на север, а не в западном направлении.
Либо утверждали, будто все эти сухопутные обитатели перешли, не замочив ног, по некоему естественному мосту или перебрались вплавь короткими бросками от одного выступающего над водой утеса до другого, после чего некоторые из этих перевалочных пунктов успели исчезнуть под водой. Однако ученые при помощи своих крупных мозгов и хитроумных инструментов составили к 1986 году карты океанского дна. Там, как они заявили, не было обнаружено ни малейшего следа сильно возвышающихся частей ландшафта.
Третьи в ту эпоху непомерно больших мозгов и прихотливого мышления настаивали, что некогда острова являлись частью материка и откололись от него вследствие какой-то крупной природной катастрофы.
Но, судя по виду самих островов, не похоже было, чтобы они откололись от чего бы то ни было. Это явно были еще молодые вулканы, исторгнутые из недр земли в том самом месте, где они теперь находились. Многие из них, еще совершенно новорожденные, могли в любой момент снова начать извергаться. Тогда, в 1986 году, они еще не слишком обросли кораллами и потому не могли похвастать голубыми лагунами и белоснежными песчаными пляжами (каковые в глазах многих являли собой прообраз идеальной загробной жизни).
Ныне, миллион лет спустя, острова обзавелись уже и белоснежными пляжами, и голубыми лагунами. Однако к началу этой истории они еще представляли собой безобразное нагромождение складок, куполов, конусов и пиков, образованных лавой – хрупкой и шероховатой, чьи трещины, выемки, шурфы и провалы были богаты запасами не плодородной почвы или питьевой воды, а тончайшего, высушенного до предела вулканического пепла.
Еще одна бытовавшая в те времена теория гласила, что Всемогущий Господь сотворил всю эту живность именно там, где ее и обнаружили исследователи, так что ей не было вообще никакой надобности добираться до островов.
Наконец, согласно последней теории, все эти твари сошли на берег парочками с трапа Ноева ковчега.
Если Ноев ковчег существовал в действительности – что вполне возможно, – то повествование свое я мог бы озаглавить «Второй Ноев ковчег».
2
Не составляло, напротив, никакой загадки миллион лет назад то, каким образом намеревался попасть с южноамериканского континента на Галапагосские острова тридцатипятилетний американец по имени Джеймс Уэйт, который абсолютно не умел плавать. Само собой разумеется, он не собирался оседлывать созданный природой плавучий островок из растений, в надежде на счастливый исход. Только что он приобрел в своем отеле, располагавшемся в центре Гуаякиля, билет на новый, с иголочки пассажирский корабль «Bahia de Darwin» (что в переводе с испанского означает «Бухта Дарвина»), который должен был отправиться в свое первое плавание – двухнедельный круиз на Галапагосы. Премьеру, предстоявшую судну, на чьей мачте развевался эквадорский флаг, еще за год до отплытия анонсировали и разрекламировали как «Естествоиспытательский круиз века».
Уэйт путешествовал один. Это был преждевременно облысевший пухлый коротышка с лицом цвета непропеченного пирога из дешевого кафетерия и в очках – так что на вид, будь ему в том выгода, он вполне мог выдавать себя за пятидесятилетнего. Главным его стремлением было выглядеть безобидным и робким.
В данный момент он был единственным посетителем коктейль-бара в отеле «Эльдорадо», расположенном на широкой улице Дьес де Агосто, где он снимал номер. Бармен, двадцатилетний потомок гордых инкских аристократов, имя которого было Хесус Ортис, не мог отделаться от ощущения, что дух этого бесцветного и недружелюбного человечка, назвавшегося канадцем, сломлен некой ужасной несправедливостью или трагедией. Уэйт хотел, чтобы любой, кто его увидит, чувствовал то же самое.
Хесус Ортис, один из приятнейших персонажей моего повествования, испытывал в отношении этого одинокого туриста скорее жалость, чем презрение. Ему было грустно – как на то и рассчитывал Уэйт – от мысли, что постоялец только что израсходовал кучу денег в магазинчике при отеле на соломенную шляпу, веревочные сандалии, желтые шорты и сине-бело-лиловую хлопчатобумажную рубашку, в которые тот сейчас и был выряжен. Ортис припомнил, что, прибыв из аэропорта в деловом костюме, Уэйт выглядел весьма достойно. А теперь, ценою больших затрат, приобрел вид клоуна, карикатуры на американского туриста в тропиках.
К новой, хрустящей рубахе Уэйта еще был приторочен ценник, и Ортис вежливо и на хорошем английском сказал ему об этом.
«Разве?..» – проронил Уэйт. Он знал, что ценник болтается на нем, и хотел, чтобы тот продолжал болтаться. Однако разыграл небольшой спектакль, изобразив замешательство и даже словно бы намереваясь оторвать злосчастный клочок картона. Но затем, словно переполненный вновь некой печалью, от которой он старался бежать, как бы забыл о своем намерении.
Уэйт был рыбаком, а ценник на рубашке – его наживкой, способом подтолкнуть незнакомых людей к тому, чтобы те заговорили с ним и в той или иной форме сказали ему то, что произнес Ортис: «Извините меня, сеньор, но не мог не заметить…»
В отеле Уэйт был зарегистрирован под именем, которое значилось в его фальшивом канадском паспорте: Уиллард Флемминг. Он был чрезвычайно удачливым мошенником.
Самому Ортису ничто не угрожало, однако для женщины без спутника – зажиточной наружности, незамужней и уже рожавшей – Уэйт представлял бы определенную опасность. До сего момента он успел обольстить и заставить выйти за себя замуж семнадцать подобных жертв, после чего, очистив их шкатулки с драгоценностями, сейфы и банковские счета, исчезал.
Везение его было столь велико, что ему удалось стать миллионером и открыть под разными вымышленными именами процентные счета в банках по всей территории Северной Америки, ни разу при этом ни на чем не попавшись. Насколько ему было известно, никто даже и не помышлял о том, чтобы поймать его. Что касается полиции, то для нее, рассуждал наш герой, он был лишь одним из семнадцати сбежавших от жены мужей, которые носили соответственно семнадцать разных имен, а не одним и тем же преступником по имени Джеймс Уэйт.
Ныне трудно поверить, что люди когда-то могли являть столь блестящий образец двуличия, как Джеймс Уэйт, – если только не помнить, что в те давние времена почти у всякого индивида мозг весил порядка трех килограммов! Не было предела злым козням, которые столь непомерно разросшийся мыслительный аппарат мог задумать и осуществить.
И потому я задаю вопрос (хотя поблизости нет никого, кто бы на него ответил): можно ли сомневаться, что трехкилограммовый мозг некогда представлял собой почти роковой дефект с точки зрения эволюции человеческого рода?
И еще: какой, помимо нашей переусложненной нервной системы, источник злодеяний, творившихся практически повсеместно, существовал в ту эпоху?
Мой ответ: никакого. Если бы не эти невероятно гипертрофированные мозги, Земля была бы совершенно невинной планетой.
3
Отель «Эльдорадо» представлял собой только что отстроенное пятиэтажное пристанище для туристов – сооружение из простых, без затей цементных блоков. Пропорциями он напоминал застекленную книжную полку, высокую, широкую и не слишком вместительную. Сквозь стекло, заменявшее во всех спальнях гостиницы западную стену, от пола до потолка, открывался вид на причал для океанских кораблей, который был расположен в углубленной части дельты, на удалении трех километров от города.
В прошлом причал этот бурлил коммерцией. Суда со всех концов земли доставляли сюда мясо и зерно, овощи и фрукты, машины и одежду, оборудование и бытовую технику и еще многое и многое – и увозили взамен в своих трюмах эквадорские кофе и какао, сахар и нефть, золото и предметы индейского искусства, и поделки, включая панамы, которые испокон века изготавливались в Эквадоре, а не в Панаме.
Однако в тот день, когда Джеймс Уэйт, глядя на рейд, потягивал в баре отеля ром с кока-колой, против причала стояла на приколе лишь пара кораблей. Пьянчугой на самом деле он не был, так как зарабатывал на жизнь изобретательностью ума и не мог позволить, чтобы тонкие соединения помещавшегося в его черепе компьютера были выведены из строя алкогольным замыканием. Стоявшая перед ним выпивка служила театральным реквизитом – как и несрезанный ценник, болтавшийся на его шутовской рубахе.
Он не имел возможности судить, было ли нынешнее состояние дел на причале нормальным или нет. Еще пару дней назад он слыхом не слыхивал о Гуаякиле и сейчас впервые за всю свою жизнь находился южнее экватора. Что касается отеля, то «Эльдорадо», на взгляд нашего героя, ничем не отличался от массы других безликих гостиниц, под крышей которых ему доводилось находить приют во время своих прошлых эскапад – в Мус-Джо, штат Саскачеван, в мексиканском городке Сан-Игнасио, в Уотервлаете, штат Нью-Йорк, и так далее.
Название города, где он сейчас пребывал, Уэйт выбрал на табло прилетов и отлетов в нью-йоркском Международном аэропорту имени Кеннеди. Накануне он обобрал до нитки и бросил свою семнадцатую жену – семидесятилетнюю вдову из города Скокки, что под Чикаго. И Гуаякиль показался ему местом, в котором та менее всего догадается разыскивать его.
Женщина эта была столь уродлива и глупа, что лучше бы ей вовсе не рождаться на свет Божий. Тем не менее Уэйт стал вторым, кто взял ее себе в жены.
Но и в «Эльдорадо» он слишком долго задерживаться не собирался, поскольку приобрел у агента бюро путешествий, чья конторка располагалась в вестибюле отеля, билет на «Естествоиспытательский круиз века». В этот послеобеденный час город был раскаленнее адской печи. Снаружи не веяло ни ветерка, но нашего героя это заботило мало, ибо он находился внутри, в кондиционированном баре отеля, и все равно вскоре собирался в путь. Его корабль, «Bahia de Darwin», должен был отплыть ровно в полдень назавтра, в пятницу, 28 ноября 1986 года – миллион лет тому назад.
Бухта, в честь которой названо было пассажирское судно Уэйта, вдавалась с юга в остров Хеновеса, относящийся к Галапагосскому архипелагу. Уэйту никогда прежде не доводилось слышать о Галапагосах. Он полагал, что они должны походить на Гавайи, где он однажды проводил медовый месяц, или Гуам, куда его раз занесло во время очередных бегов, – с бесконечными белоснежными пляжами, голубыми лагунами, раскачивающимися на ветру пальмами и смуглокожими девушками-туземками.
Агент бюро путешествий вручил ему проспект, в котором рассказывалось о предстоящем круизе, однако Уэйт до сих пор не удосужился в него заглянуть. В данную минуту тот лежал перед ним на стойке бара. Проспект правдиво описывал негостеприимность островов и предупреждал желающих принять участие в круизе – чего не сделал агент бюро путешествий, – что те должны находиться в хорошей физической форме и иметь при себе прочные ботинки и походную одежду, так как им придется часто высаживаться на берег, карабкаясь по его скалистым склонам, как морская пехота.
* * *
Бухта Дарвина была названа так в честь великого английского ученого Чарльза Дарвина, который посетил Хеновесу и ряд соседних островов и провел там пять недель в 1835 году, когда он был еще двадцатишестилетним молодым человеком, на девять лет моложе Уэйта. Дарвин в качестве внештатного натуралиста находился на борту корабля Ее Величества «Бигль», участвуя в картографической экспедиции, которая позволила ему совершить полное кругосветное путешествие и длилась пять лет.
В проспекте, предназначенном скорее для любителей природы, нежели искателей удовольствий, приводилось сделанное Дарвином описание типичного ландшафта Галапагосов из его первой книги «Путешествие на «Бигле»:
«На первый взгляд трудно представить себе что-либо более непривлекательное. Изломанное поле черной базальтовой лавы, брошенное посреди бушующих волн и изборожденное глубокими расщелинами, сплошь покрыто чахлой, выжженной солнцем порослью, почти не подает признаков какой-либо жизни. Сухая и раскаленная каменная поверхность, разогреваемая полуденным солнцем, придавала воздуху ощущение спертости и духоты, точно из печи; нам чудилось даже, будто от кустов исходил неприятный запах».
Далее Дарвин продолжал: «Вся поверхность… казалось, пропускала, словно сито, подземные испарения: то здесь, то там лава, будучи еще мягкой, образовала огромные пузыри; в других местах своды сформировавшихся подобным образом пещер обрушились, оставив вместо себя круглые кратеры с отвесными стенами». Это зрелище, писал он, живо напомнило ему «… те места Стаффордшира, где больше всего расположено литейных печей».
В баре «Эльдорадо», в обрамлении полок и бутылок, висел напротив стойки портрет Дарвина – увеличенная репродукция стальной гравюры, где он был изображен не молодым человеком во время экспедиции на острова, а дородным отцом семейства, уже по возвращении в Англию, с бородою, пышной, словно рождественская елка. Тот же самый портрет красовался на футболках, выставленных на продажу в гостиничном магазинчике, и Уэйт купил себе пару. Так выглядел Дарвин в то время, когда друзья и родственники наконец уговорили его изложить на бумаге свои познания о том, как различные формы жизни повсюду, включая его самого, его друзей и родственников и даже его королеву, приобрели вид, какой они имели в девятнадцатом веке. В результате тот настрочил самый широкий по общественному воздействию – за всю эпоху великих больших мозгов – научный труд. Трактат этот, более чем любой другой, способствовал стабилизации изменчивых человеческих представлений о том, как можно определить успех или неудачу. Только вообразите! И заглавие книги отражало ее безжалостное содержание: «О происхождении видов путем естественного отбора, или Сохранение избранных пород в борьбе за выживание».
Уэйт сроду не читал этой книги, и имя Дарвина было для него пустым звуком – несмотря на то, что время от времени он удачно сходил за образованного человека. Вот и сейчас он подумывал о том, чтобы назваться, на время «Естествоиспытательского круиза века», инженером-механиком из Мус-Джо, штат Саскачеван, недавно овдовевшим, после того как жену его унес рак.
В действительности его официальное образование прервалось после двух лет обучения на автомеханика в ремесленном училище его родного города Мидлэнд-Сити, в штате Огайо. В то время он жил в уже пятой по счету приемной семье, будучи от рождения сиротой – плодом кровосмесительной связи между отцом и дочерью, которые вместе навсегда бежали из города вскоре после его рождения.
Когда он сам достаточно повзрослел, чтобы сбежать, Уэйт автостопом добрался до острова Манхэттен, в Нью-Йорке. Там он познакомился с сутенером, который научил его успешно зарабатывать проституцией среди гомосексуалистов, оставлять несрезанными ценники на одежде, срывать любовные удовольствия где только возможно и так далее. Некогда Уэйт был вполне хорош собою.
Когда юношеская красота его поувяла, он стал преподавать в студии бальных танцев. Уэйт был танцором от природы, и еще в детские годы в Мидлэнд-Сити слышал, что и родители его отлично умели танцевать. Чувство ритма он, вероятно, унаследовал от них. Именно в танцклассе он встретил и принялся обхаживать первую из семнадцати его будущих жен.
На протяжении всего его детства приемные родители сурово наказывали Уэйта за любой пустяк, без разбора. Они полагали, что по причине дурной наследственности из него должен получиться моральный урод.
И вот этот самый урод восседал теперь в отеле «Эльдорадо» – довольный, богатый, благополучный (насколько он мог сам судить) и с готовностью ожидающий нового испытания на выживание.
Как и Джеймс Уэйт, я, кстати, подростком тоже сбежал из дома.
4
Англосакс Чарльз Дарвин, тихоголосый и благовоспитанный, безликий и бесполый, безучастно наблюдательный в своих сочинениях, почитался героем в буйном, страстном, многоязыком Гуаякиле в силу того, что имя его служило возбудителем туристского бума. Если бы не Дарвин, не было бы никакого отеля «Эльдорадо» или корабля «Bahia de Darwin», готовых приютить Джеймса Уэйта. Ни, наконец, магазинчика, где последний бы смог столь комично вырядиться.
Не объяви Чарльз Дарвин Галапагосские острова крайне поучительным местом, Гуаякилю суждено было бы остаться просто одним из множества раскаленных и грязных морских портов, а острова представляли бы для Эквадора не большую ценность, чем шлаковые отвалы где-нибудь в Стаффордшире.
Благодаря Дарвину острова эти преобразились не сами по себе, но в глазах людей. Вот какое значение имели мнения в эпоху великолепных больших мозгов.
Более того, какие-то мнения могли руководить поступками людей не меньше, чем реальные факты, – будучи при этом подвержены таким внезапным изменениям, которых факты претерпевать не в состоянии. Так, Галапагосские острова могли быть объявлены адом, а всего мгновение спустя – раем, а Юлий Цезарь почитаться то государственным деятелем, то, чуть погодя, мясником, равно как эквадорскими бумажными деньгами, лишь миг тому назад шедшими в уплату за пищу, кров и одежду, вдруг начинали выстилать птичьи клетки, а мироздание, еще вчера считавшееся творением Господа Бога, внезапно признавалось продуктом огромного космического взрыва – и так далее, и так далее.
Ныне, благодаря пониженным умственным способностям, чертенята мнений больше не отвлекают людей от главного дела их жизни.
Белый человек открыл Галапагосские острова в 1535 году, когда на них наткнулся испанский корабль, сбившись с курса во время шторма. Острова оказались необитаемы, и никаких признаков человеческого поселения там обнаружить не удалось.
Несчастное судно должно было всего лишь, не теряя из виду южноамериканского побережья, доставить в Перу панамского епископа. Однако разразившийся шторм бесцеремонно отнес его далеко на запад, где, согласно общепринятому мнению, не могло находиться ничего, кроме океана и еще раз океана.
Но когда шторм утих, испанцы обнаружили, что доставили своего епископа в кошмарный сон любого моряка – к клочкам суши, являвшим собой дьявольскую издевку: ни надежного места для стоянки, где можно было бы бросить якорь, ни тени, ни пресной воды, ни плодоносящих растений и ни единого человеческого существа. Там они застряли в мертвом штиле, приканчивая остатки воды и продовольствия. Поверхность океана была глаже зеркала. Они спустили на воду шлюп и кое-как, налегая на весла, отбуксировали беспомощный корабль и своего духовного пастыря прочь из гиблого места.
Испания сочла за благо не заявлять прав на владение островами, как не стала бы претендовать на обладание преисподней. И целых три столетия – покуда изменившееся общественное мнение не позволило архипелагу появиться на географических картах – ни одна страна не изъявляла желания присвоить его себе. Наконец в 1832 году одно из самых маленьких и бедных государств планеты, каковым являлся Эквадор, обратилось к народам мира, прося их согласиться с тем, чтобы острова считались частью эквадорской территории.
Никто не возражал. В то время это казалось безобидным и даже комичным. Как если бы Эквадор в приступе империалистического помешательства решил присоединить к своей территории пролетающее мимо Земли астероидное облако.
Но затем, всего через три года, молодой Чарльз Дарвин принялся всех уверять, что те зачастую причудливые растения и животные, которые ухитрились каким-то образом выжить на пустынных островах, придают последним чрезвычайную ценность – если только взглянуть на них как он, с научной точки зрения.
Лишь одним словом можно верно охарактеризовать мгновенно пережитое островами превращение из ничего не стоящих в бесценные: волшебство.
Да, и к моменту появления в Гуаякиле Джеймса Уэйта там уже успело побывать, по пути к островам, такое множество интересующихся естественной историей, желающих увидеть то, что видел Дарвин, и ощутить то, что чувствовал он, что к порту было приписано целых три прогулочных судна, самым новым из которых была «Bahia de Darwin». В городе имелось несколько современных туристских отелей, новейшим среди которых был «Эльдорадо», а также сувенирные магазины, модные лавки и рестораны для туристов, усеивавшие от начала до конца улицу Дьес де Агосто.
Однако вот какая штука: к приезду туда Джеймса Уэйта мировой финансовый кризис, внезапный пересмотр людских представлений о ценности денег, фондов, акций, закладных векселей и тому подобных бумажек подорвал туристический бизнес не только в Эквадоре, но и практически повсеместно. Так что «Эльдорадо» оставался единственным еще открытым отелем на весь Гуаякиль, a «Bahia de Darwin» – единственным прогулочным судном, которое было на плаву.
«Эльдорадо» был открыт лишь как место сбора для купивших билеты на «Естествоиспытательский круиз века», поскольку владельцем его была та же эквадорская фирма, которой принадлежал и корабль. Но в данный момент, менее чем за сутки до отплытия, на весь двухсотместный отель насчитывалось всего шесть постояльцев, включая Джеймса Уэйта. Вот кто были остальные пятеро:
*Зенджи Хирогуши, двадцати девяти лет, японский компьютерный гений;
Хисако Хирогуши, двадцати шести лет, его глубоко беременная жена, преподаватель икебаны – японского искусства составлять букеты;
*Эндрю Макинтош, пятидесяти пяти лет, американский финансист и искатель приключений, обладатель огромного унаследованного им состояния, вдовец;
Селена Макинтош, восемнадцати лет, его слепая от рождения дочь; и, наконец, Мэри Хепберн, пятидесяти одного года, вдовая американка из Илиума, штат Нью-Йорк, которую в отеле еще никто практически не видел, так как, прибыв накануне вечером без сопровождения, она не выходила из своего номера на пятом этаже, куда ей доставляли еду.
Те двое, чьи имена отмечены звездочкой, еще до захода солнца окажутся мертвы. Это условное обозначение в дальнейшем будет не раз повторяться на протяжении моего рассказа, давая читателю понять, что тому или иному персонажу вскорости предстоит решающее дарвиновское испытание на силу и живучесть.
Я тоже там присутствовал – но совершенно незримо.
5
«Bahia de Darwin» был тоже обречен, но еще не настолько, чтобы против его названия можно было ставить звездочку. Лишь через пять суток его машинам предстояло смолкнуть навеки, и должно было минуть еще десять лет, прежде чем он окажется на океанском дне. Это было не только самое новое, большое и быстроходное прогулочное судно, приписанное к порту Гуаякиль. Корабль специально предназначался для туристических круизов на Галапагосы, и, с того самого момента, как был заложен его киль, предполагалось, что он будет постоянно курсировать взад-вперед между портом и островами.
Судно было построено в Мальмё, в Швеции, при моем собственноручном участии. Смешанная команда из шведов и эквадорцев, доставившая его из Мальмё в Гуаякиль, полагала, что шторм, который им довелось перенести по пути в Северной Атлантике, был первым и последним испытанием бурными водами и ледяным ветром, выпавшим на долю этого корабля.
Это был одновременно и плавучий ресторан, и лекторий, и ночной клуб, и отель на сотню посадочных мест. Судно оснащено было радаром и сонаром, а также электронным навигатором, который непрестанно фиксировал место его нахождения на поверхности земного шара с точностью до ста метров. Оно было настолько автоматизировано, что один человек, стоя на мостике, без чьей-либо помощи в машинном отделении или на палубе был в состоянии запустить машины, поднять якорь, лечь на курс и управлять кораблем, словно легковым автомобилем. Прибавьте к этому восемьдесят пять сточных туалетов, двенадцать биде и телефоны в каютах и на мостике, по которым через спутник можно было связаться с любой точкой мира.
И еще телевизионную связь, так что пассажиры могли быть в курсе текущих событий.
Владельцы судна, двое престарелых братьев-немцев, живущих в Кито, с гордостью заявляли, что ему ни на мгновение не грозит оказаться отрезанным от остального мира. Не много же они знали.
Длина корабля была семьдесят метров.
Тогда как «Бигль», на котором в качестве внештатного натуралиста путешествовал Чарльз Дарвин, насчитывал всего двадцать восемь.
При спуске «Bahia de Darwin» со стапелей в Мальмё тысяче ста метрическим тоннам морской воды пришлось потесниться, уступив место корпусу судна. Меня к тому времени уже не было в живых.
«Бигль», спущенный в свое время на воду в Фэлмете, в Англии, вытеснил лишь двести пятнадцать метрических тонн.
«Bahia de Darwin» был теплоходом с металлическим корпусом.
«Бигль» же – парусником, построенным из дерева и оснащенным десятью пушками для защиты от пиратов и дикарей.
Два более старых прогулочных судна, с которыми должно было конкурировать «Bahia de Darwin», вышли из игры еще до начала соревнования. Места на обоих были забронированы под завязку на много месяцев вперед, но затем, из-за разразившегося финансового кризиса, посыпался поток отказов. И вот теперь они стояли на приколе в одной из заводей дельты, вне видимости со стороны города, вдали от дорог и человеческого жилья. Владельцы – в предвосхищении их долгого бездействия – счистили с них всю электронику и прочую ценную оснастку.
В конечном счете Эквадор, как и Галапагосские острова, сложен был главным образом из лавы и пепла и не мог самостоятельно прокормить девять миллионов своего населения. Обанкротившись, он больше не имел возможности закупать продовольствие у стран, в изобилии наделенных почвой, поэтому порт Гуаякиль стоял в запустении и люди начали умирать там голодной смертью.
Ничего не поделаешь – бизнес есть бизнес.
* * *
Соседние Перу и Колумбия также были банкроты. Помимо «Bahia de Darwin» на рейде Гуаякиля находился только ржавый колумбийский сухогруз «San Mateo», застрявший там из-за отсутствия средств на покупку провианта и топлива. Он стоял на удалении от берега и уже очень долгое время, так что на его якорной цепи успел нарасти изрядный островок водорослей. Такой величины, что слоненок вполне мог бы добраться на нем до Галапагосских островов.
Мексика, Чили, Бразилия и Аргентина тоже были объявлены банкротами – равно как Индонезия, Филиппины, Пакистан, Индия, Таиланд, Италия, Ирландия, Бельгия, Турция. Целые нации оказались внезапно в том же положении, что и «San Mateo», – не в состоянии приобрести ни на свои бумажные или металлические деньги, ни под долговые обязательства даже предметы первой необходимости. Те, кто обладал какими-либо необходимыми для жизнеподдержания товарами, отказывались уступать их за деньги – все равно, соотечественникам или иностранцам. Они вдруг получили возможность сказать людям, чье состояние имело лишь бумажное выражение: «Эй, вы, идиоты, очнитесь. С чего вы решили, что бумага может иметь какую-то ценность?»
На земном шаре оставалось еще достаточно пищи, горючего и прочих запасов для всех его обитателей, сколь многочисленны они ни были, однако все новые и новые миллионы их начинали приближаться к голодной смерти. Даже самые здоровые из них могли обходиться без еды не более сорока дней, после чего им наступал конец.
И голод этот был столь же очевидно продуктом переразвитости человеческого мозга, как и Девятая симфония Бетховена.
Все дело заключалось в головах людей. Они просто изменили свой взгляд на бумажное богатство, но по практическим своим последствиям перемена эта могла сравниться с прямым попаданием в Землю метеорита размером с Люксембург, от которого планета сошла бы с орбиты.
6
Этот финансовый кризис, какой ни за что не может разразиться в наши дни, был последней в ряду гибельных катастроф двадцатого века, зародившихся исключительно в человеческом мозгу. При виде того насилия, которое люди творили над собою самими, друг над другом и над всем живым вообще, пришелец с другой планеты имел бы основание предположить, что в самой окружающей среде что-то пошло наперекосяк и человечество обезумело перед лицом Природы, которая собирается истребить его.
Однако в действительности Земля тогда, миллион лет назад, была столь же богата влагой и плодоносна, как и сегодня, и в этом отношении ей не было равных на всем протяжении Млечного Пути. Изменилось лишь представление людей о ней.
К чести человечества, каким оно было в ту пору, следует сказать: все большее число людей признавало свои мозги безответственным, ненадежным, страшно опасным и совершенно непрактичным инструментом – словом, никуда не годными.
В микрокосме отеля «Эльдорадо», к примеру, вдова Хепберн, завтракавшая, обедавшая и ужинавшая в своем номере, в тот день вполголоса проклинала собственный мозг за совет, который тот ей подбрасывал: совершить самоубийство.
«Ты мой враг, – шептала она. – С какой стати я должна носить в себе такого страшного недруга?» Она четверть века преподавала биологию в государственной средней школе города Илиум, штат Нью-Йорк (ныне не существующий), и потому ей была известна странная легенда об эволюции вымершего к тому времени существа, которое люди назвали «ирландским лосем». «Будь у меня возможность выбирать между таким мозгом, как ты, и рогами ирландского лося, – обратилась она к своей центральной нервной системе, – я бы предпочла рога».
Рога же этих животных зачастую бывали размером с люстру в банкетном зале. Они были потрясающим примером того – любила она повторять своим ученикам, – как терпима может быть природа по отношению к очевидно нелепым ошибкам эволюции. Ирландский лось просуществовал два с половиной миллиона лет, несмотря на то, что рога его были чересчур неуклюжи для орудия самообороны и мешали их владельцам искать корм в гуще леса и зарослях кустарника.
Мэри также учила школьников, что человеческий мозг – самое восхитительное устройство для выживания, созданное эволюцией. И вот теперь ее собственный большой мозг внушал ей снять полиэтиленовый чехол с красного вечернего платья, висящего в шкафу ее гостиничного номера в Гуаякиле, и плотно обмотать его себе вокруг головы, дабы перекрыть поступление кислорода в клетки.
Накануне, в аэропорту, ее замечательный мозг надоумил ее препоручить чемодан со всеми туалетными принадлежностями и одеждой, которые так пригодились бы ей в гостинице, носильщику, оказавшемуся на поверку вором. То была ее ручная кладь, прибывшая вместе с нею рейсом Кито – Гуаякиль. К счастью, в ее распоряжении оставалось содержимое второго чемодана, который она предпочла не брать с собою, а сдать в багаж, – в том числе вечернее платье, висевшее теперь в шкафу и предназначавшееся для выходов в свет во время плавания на «Bahia de Darwin». Кроме него, в чемодане находились водолазный костюм, ласты и маска для подводного плавания, два купальника, пара грубых туристских ботинок и комплект полевой формы морских пехотинцев США – из числа оставшихся с войны излишков – для вылазок на берег, который в данный момент и был на ней. Что до брючного костюма, бывшего на ней по прилете из Кито, то она, под влиянием опять-таки своего увесистого мозга, отдала его в чистку, доверившись печальноокому управляющему отеля, который пообещал, что костюм будет возвращен ей чистым наутро, к завтраку. Однако, к вящему замешательству управляющего, костюм также исчез.
Но самый большой подвох, устроенный ей ее мозгом – не считая совета покончить самоубийством, – заключался в том, что ему удалось убедить ее приехать в Гуаякиль вопреки всем известиям о разразившемся мировом финансовом кризисе и почти полной уверенности, что «Естествоиспытательский круиз века», билеты на который всего лишь месяц назад были полностью раскуплены, будет отменен за отсутствием пассажиров.
Ее колоссальный мыслительный аппарат способен был проявлять и мелочность. В данный момент он не разрешал ей спуститься вниз в десантной форме на том основании, что все – хотя отель был практически безлюден – станут потешаться, увидя ее в таком одеянии. Рассудок твердил ей: «Они будут покатываться со смеху за твоей спиной и считать тебя сумасшедшей и жалкой. Жизнь твоя все равно кончена. Ты потеряла мужа и свою преподавательскую работу, и у тебя нет ни детей, ни кого бы то ни было еще, ради кого стоило бы жить. Так что давай-ка избавься от своего унизительного положения с помощью чехла от платья. Что может быть легче? Что может быть безболезненнее? Что может быть разумнее?»
Отдадим должное ее мозгу: не его вина, что 1986 год обернулся для нее так отвратительно. А начинался год так многообещающе, муж Мэри, Рой, казалось, находился в добром здравии и прочно занимал свою должность техника-смотрителя на «ДЖЕФФКо», главной фабрике Илиума; директор устроил в ее честь банкет и вручил медаль «За выдающийся 25-летний вклад в преподавание», а школьники в двенадцатый раз подряд избрали ее самым популярным учителем года.
Помнится, встречая Новый год, она произнесла: «Ах, Рой! Нам есть за что быть благодарными судьбе: мы так счастливы по сравнению с большинством других людей. Я готова заплакать от счастья!»
А он, сжав ее в объятиях, ответил: «Что ж, давай поплачь…» Ей был пятьдесят один год, а ему – пятьдесят девять. Оба были большими любителями отдыха на свежем воздухе: туризма, лыжного спорта, альпинизма, гребли на каноэ, бега, велосипедных прогулок, плавания, поэтому фигуры их были по-юношески стройными. Ни та, ни другой не курили и не пили; питались преимущественно свежими фруктами и овощами, разнообразя время от времени свое меню рыбой.
С деньгами они обращались умело, обеспечивая своим сбережениям такое же – в финансовом смысле – здоровое питание и упражнения, как и себе самим.
Рассказ Мэри о ее и Роя мудрости в денежных делах, безусловно, глубоко взволновал бы Джеймса Уэйта.
И действительно, Уэйт, сей обиратель вдов, сидя в баре «Эльдорадо», размышлял о Мэри Хепберн, хотя еще ни разу не успел с ней встретиться и выяснить наверняка, насколько та обеспеченна. Ее имя он увидел в журнале регистрации и не преминул расспросить о ней молодого управляющего отелем. То немногое, что управляющий сумел ему поведать, пришлось Уэйту по душе. Этой не спускавшейся со своего этажа учительнице, робкой и одинокой – хотя она и была моложе всех тех, кого он окручивал и пускал по миру до сих пор, – похоже, самой природой назначено было пасть его жертвой. Он застигнет ее врасплох во время «Естествоиспытательского круиза века».
Здесь я позволю себе вставить личное наблюдение: еще будучи в живых, я сам часто получал от своего увесистого мозга советы, которые, с точки зрения моего благополучия – да если уж на то пошло, и благополучия всего рода человеческого, – можно было охарактеризовать как, мягко выражаясь, сомнительные. Вот вам пример: он толкнул меня пойти служить в морскую пехоту и отправиться воевать во Вьетнам.
Спасибо ему за это большое.
7
Национальные валюты всех шести постояльцев «Эльдорадо» – четверых американцев, одного якобы канадца и двоих японцев – пока еще ценились по всему миру наравне с золотом. Но, повторяю, ценность их денег была воображаемой. Как и сама природа мироздания, желанность их долларов и иен существовала исключительно в головах людей.
И если бы Уэйт, который понятия не имел о разразившемся финансовом кризисе, был в своем маскараде до конца последователен и привез с собою в Эквадор канадские доллары, его бы не приняли там со столь распростертыми объятиями. Ибо, хотя Канада еще не обанкротилась, воображение жителей все большего числа стран, включая самих канадцев, вынуждало их все менее охотно продавать что-либо действительно полезное за канадские доллары.
Аналогичное падение своей воображаемой ценности переживали английский фунт стерлингов, французский и швейцарский франки и немецкая марка. А эквадорский сукре, обязанный своим названием национальному герою Антонио Хосе де Сукре (1795–1830), стал цениться не более шкурки от банана.
* * *
Наверху, в своем номере, Мэри Хепберн мучилась вопросом, нет ли у нее мозговой опухоли и не потому ли мозг ее неизменно дает ей один совет хуже другого. Подозрения ее были вполне естественны, учитывая, что именно от опухоли в мозгу скончался всего три месяца назад ее муж Рой. Причем опухоли этой недостаточно оказалось просто лишить его жизни: прежде она исказила его память и помутила рассудок.
Мэри даже подумалось – когда это с ним началось, – уж не действие ли той же опухоли заставило его забронировать билеты на «Естествоиспытательский круиз века» в том многообещающем январе этого, оказавшегося впоследствии столь ужасным года.
Вот как ей довелось узнать о том, что он забронировал места для участия в круизе. Как-то днем она пришла домой с работы, полагая, что Рой еще у себя в «ДЖЕФФКо». Он заканчивал на час позже ее. Однако Рой, на удивление, был уже дома: оказалось, он в тот день уволился по собственному желанию. И это сделал он – человек, обожавший свою возню с техникой и не поступившийся за двадцать девять лет службы ни часом рабочего времени, даже по болезни (поскольку он никогда не болел) или какой-либо иной уважительной причине.
Она спросила, уж не заболел ли он, – и услышала в ответ, что никогда в жизни он не чувствовал себя лучше. Он, показалось ей, был горд своим поступком – подобно юнцу, уставшему ходить все время в пай-мальчиках, Рой был человеком немногословным и не привыкшим зря бросаться словами, не позволявшим себе ни малейшего проявления легкомыслия и незрелости. Но на сей раз он, что было невероятно, произнес с неподражаемо глупым выражением, словно она была его рассерженной матерью: «Я прогулял».
Должно быть, это сказал не он, а его опухоль – думалось Мэри теперь, в Гуаякиле. Худший день для манкирования службой трудно было выбрать: накануне ночью шел град, а в тот день с самого утра зарядил дождь со снегом, усугублявшийся порывистым ветром. А Рой фланировал взад-вперед по Клинтон-стрит, центральной улице Илиума, заходя в каждый встречавшийся ему на пути магазин и рассказывая продавцам о том, что он прогуливает.
Мэри попыталась изобразить полное понимание и, стараясь, чтобы это звучало искренне, посоветовала ему и впрямь расслабиться и развлечься – хотя они и без того замечательно отдыхали в выходные и во время отпуска, да и на работе, коль уж на то пошло, заняты были приятным делом. Тем не менее от всей этой неожиданной эскапады исходил некий душок. Рой и сам за ранним ужином в тот день, казалось, был озадачен происшедшим. Но не более того. Он не думал, что подобное может повториться, так что они могли забыть этот инцидент – разве что время от времени посмеяться, вспомнив о случившемся.
Но чуть позже, когда они, перед тем как отойти ко сну, глядели на мерцавшие угли камина, который Рой сам соорудил своими мозолистыми руками, он вдруг произнес:
– Это не все…
– Что не все? – спросила Мэри.
– Насчет сегодняшнего, – отозвался он. – Среди прочих мест я зашел и в бюро путешествий.
(В Илиуме было всего одно подобное заведение, отнюдь не процветавшее.)
– И что? – снова спросила она.
– Я заказал билеты… – продолжал он, точно вспоминая посетивший его сон. – За все уплачено. Все оформлено. Дело сделано: в ноябре мы с тобой летим в Эквадор и примем участие в «Естествоиспытательском круизе века».
Рой и Мэри Хепберн были первыми, кто откликнулся на рекламно-пропагандистскую кампанию, призванную собрать пассажиров для первого плавания «Bahia de Darwin», в то время как судно еще представляло собой едва заложенный киль и стопку чертежей где-то в шведском городе Мальмё. Агент бюро путешествий в Илиуме, когда Рой Хепберн вошел в его офис, как раз прикреплял скотчем к стене только что полученный плакат с рекламой круиза.
Да позволено мне будет вставить замечание личного порядка: я сам с год проработал сварщиком на верфи в Мальмё, однако к тому времени «Bahia de Darwin» еще не материализовалось настолько, чтобы ему потребовались мои услуги. И лишь когда наступила весна, я буквально потерял голову при виде этой стальной красотки. Вопрос: кому не приходилось терять голову по весне?
Однако продолжим.
На рекламном плакате, вывешенном в бюро путешествий в Илиуме, изображена была весьма странная птица, которая, сидя на прибрежном утесе вулканического острова, наблюдала за великолепным белым теплоходом, рассекающим волны. Птица была черной и, судя по всему, размером должна была быть с крупную утку, однако шея ее была длинной и гибкой, как змея. Но самым странным было то, что крыльев у нее, похоже, не было (что почти отражало истинное положение вещей). Эта порода птиц представляла собой эндемик Галапагосских островов – то есть водилась только там и больше нигде на земном шаре. Крылья у нее имелись, но крохотные и плотно прижатые к телу – чтобы она могла плавать быстро и глубоко, как рыба. Это позволяло ей заниматься рыболовством гораздо успешнее многих других птиц, вынужденных дожидаться, покуда рыба всплывет на поверхность, чтобы затем поразить добычу клювом. Эта уникальная порода названа была людьми «нелетающим бакланом». Птицы эти могли сами выслеживать добычу, а не дожидаться, пока рыба совершит роковую оплошность.
Должно быть, на каком-то этапе эволюции предки этой птицы усомнились в ценности своих крыльев – подобно тому, как люди в 1986 году начали всерьез сомневаться в пользе своих огромных мозгов.
Если Дарвин был прав в отношении закона естественного отбора – тогда, стало быть, короткокрылые бакланы, которых хватало лишь на то, чтобы отправляться на ловлю вплавь с берега, словно рыбацкие лодки, должны были добывать рыбы больше, чем лучшие из их соплеменников, охотившихся с воздуха. Затем они скрещивались с себе подобными – и самые короткокрылые из их потомства становились лучшими рыбаками, и так далее.
* * *
То же самое происходило и с людьми, но, разумеется, не в смысле крыльев – поскольку таковых у них никогда не имелось, – а в отношении их рук и мозгов. И теперь им не приходится больше ждать, пока рыба заглотит крючок с наживкой или заплывет в раскинутые ими сети. Тот, кто желает рыбы, ныне просто отправляется за ней прямиком в синие морские глубины, подобно акуле.
Теперь это стало так легко.
8
Даже тогда, в январе, уже имелось бессчетное количество причин, по которым Рою Хепберну не стоило бы бронировать билеты на этот круиз. В то время еще не было столь очевидно, что приближается мировой экономический кризис и к назначенному дню отплытия на Эквадор обрушится голод. Но существовала, к примеру, проблема с работой Мэри. Она еще не предполагала, что ее сократят, заставив досрочно уйти на пенсию, и потому не видела для себя никакой возможности выкроить три недели в конце ноября – начале декабря, в разгар учебного года.
Кроме того, хоть она там и ни разу не была, ей до смерти успели наскучить Галапагосские острова. Она пересмотрела такое несметное множество фильмов, слайдов, книг и статей об архипелаге, вновь и вновь используя их в читавшемся ею курсе, что ей трудно было представить, чтобы там ее могло ждать что-то новое. И совершенно зря.
За все годы совместной жизни они с Роем никогда не выезжали за пределы Соединенных Штатов. Коль уж, тряхнув стариной, совершать действительно сногсшибательное путешествие, думалось ей, то она гораздо охотнее побывала бы в Африке, где дикая природа намного богаче, а выживание обусловлено столькими опасностями. Ведь по большому счету живность, населяющая Галапагосы, представлялась бледной и бедной в сравнении с африканскими носорогами, львами, слонами, жирафами и тому подобным.
Перспектива отправиться в подобный вояж даже заставила ее признаться своей близкой подруге: «Меня вдруг охватило чувство, что я не желаю больше в жизни видеть синелапую олушу!»
Не много же ей было известно…
В разговоре Мэри заглушала дурные предчувствия, которые порождала в ней эта поездка, – в уверенности, что муж сам осознает случившееся с ним помрачение рассудка. Но к марту Рой все так же был без работы, а она уже знала, что ее уволят в июне. Как бы там ни было, возможность поездки в назначенный срок стала вполне реальной. И круиз этот приобретал в больном воображении Роя все большую значимость, как «единственно приятное, о чем стоит мечтать».
А с работой их произошло следующее: руководство «ДЖЕФФКо» распустило почти всех своих служащих, как рабочих, так и инженерный состав, чтобы модернизировать производство в Илиуме. Сделать это подрядилась японская компания «Матсумото». Та самая, что оснащала автоматикой «Bahia de Darwin». В ней же служил *Зенджи Хирогуши, молодой компьютерный гений, остановившийся со своей женой в отеле «Эльдорадо» в то самое время, когда там жила Мэри.
После завершения установки компьютеров и роботов всем производством, по замыслу «Матсумото корпорейшн», смогли бы управлять всего двенадцать человек. Поэтому те, кто был помоложе, не обремененный детьми или по крайней мере не питавший честолюбивых надежд на будущее в этом царстве автоматики, толпами покидали город. Как скажет позже Мэри Хепберн в свой восемьдесят первый день рождения – за две недели до того, как ее съест громадная белая акула: «Точно Крысолов со своей дудкой прошел по городу». Внезапно вокруг не осталось детей, которых можно было бы учить, и городская казна лопнула за неимением налогоплательщиков. Так что в июне того года илиумская средняя школа в последний раз прощалась с выпускниками.
В апреле Рою поставили диагноз: безнадежный случай мозговой опухоли. С этого момента «Естествоиспытательский круиз века» стал единственным, ради чего он еще хотел жить.
– Столько-то я еще протяну, Мэри. Ноябрь – это ведь скоро, да? – говорил он.
– Да, – отвечала она.
– Столько я смогу протянуть…
– Ты протянешь еще не один год, Рой, – ободряла она его.
– Мне бы только дожить до круиза. Лишь бы увидеть пингвинов там, на экваторе, – говорил он. – С меня и того будет довольно.
* * *
Хотя Рой все больше путался в разных вещах, в отношении пингвинов на Галапагосах он был прав. То были костлявые существа, маскировавшие худобу под своими метрдотелевскими одеяниями. Они просто вынуждены были иметь такую конституцию. Будь они столь же заплывшими жиром, как их родственники, живущие в антарктических льдах далеко на юге, за полсвета от экватора, – они бы изжарились до смерти, выходя на лавовый берег откладывать яйца и выхаживать птенцов.
Их предки, как и предки бескрылых бакланов, в свое время также отказались от волшебства полета, предпочтя вместо этого умение ловить больше рыбы.
Относительно таинственного энтузиазма, с которым люди миллион лет назад стремились препоручить технике как можно больше областей человеческой деятельности: что это, как не еще одно признание того, что мозги их в те времена не годились ни к черту?
9
Пока длилось умирание Роя Хепберна – а заодно с ним и всего Илиума, – пока и он, и город погибали под воздействием процессов, губительных для здоровья и счастья людей, крупный мозг Роя внушил ему, будто он служил в американском флоте на атолле Бикини (расположенном, как и Гуаякиль, на экваторе) во время испытаний атомной бомбы в 1946 году. Он заявил, что собирается предъявить собственному правительству иск на миллионы долларов, поскольку якобы полученная им там доза радиации сначала не позволила им с Мэри иметь детей, а теперь вот вызвала у него рак мозга.
Рой действительно прослужил некоторое время на флоте – в остальном же его претензии к правительству Соединенных Штатов Америки были безосновательны, ибо он родился в 1932 году, и американским юристам не составило бы труда это доказать. А значит, к моменту произошедшего с ним, как он утверждал, облучения ему должно было исполниться всего четырнадцать лет.
Это явное несовпадение во времени тем не менее не помешало ему живейшим образом помнить те ужасные вещи, которые правительство заставляло его делать в отношении так называемых «низших животных». По его рассказам, он, действуя практически в одиночку, развозил и устанавливал по всему атоллу столбы, а затем привязывал к ним различную живность.
– Думаю, выбор пал на меня потому, – говорил он, – что звери мне всегда доверяли.
Что касается последнего, то это была истинная правда: животные неизменно относились к Рою с доверием. Несмотря на то что Рой по окончании средней школы не получил никакого специального образования – не считая программы профессионального обучения в «ДЖЕФФКо», – он гораздо лучше находил общий язык с животными, чем Мэри, получившая степень магистра зоологии в Индианском университете. Он умел, например, разговаривать с птицами на их наречии – чего не дано было ей, чьи предки по обеим линиям были абсолютно лишены слуха. Не было такого домашнего животного, включая сторожевых собак в «ДЖЕФФКо» и опоросившихся свиноматок, которое, сколь бы злобно оно ни было, через каких-нибудь пять минут общения с Роем не превратилось бы в его лучшего друга.
Поэтому можно понять слезы Роя во время рассказа о том, как ему приходилось привязывать зверей к этим проклятым столбам. Эти жестокие эксперименты и впрямь проводились на животных – овцах и свиньях, коровах и лошадях, обезьянах и утках, курах и гусях, – но отнюдь не на том зоопарке, что представал в описаниях Роя. Если верить последнему, он привязывал к столбам павлинов, снежных леопардов, горилл, крокодилов, альбатросов. В его разросшемся мозгу атолл Бикини превратился в прямую противоположность Ноева ковчега: всякой твари по паре было привезено туда, чтобы сбросить на них атомную бомбу.
Самой дикой несообразностью в рассказе Роя (который сам не видел в этом ничего дикого) была, конечно, следующая:
– Дональд тоже был среди них…
Дональдом звали кобеля, золотистого ретривера четырех лет от роду, обитавшего в окрестностях Илиума и, может статься, как раз в эту минуту пробегавшего мимо их дома.
– Мне и без того было так тяжело… – вновь и вновь рассказывал Рой. – Но тяжелее всего оказалось привязывать Дональда. Я все оттягивал этот момент до тех пор, пока оттягивать больше уже было нельзя. Непривязанным оставался один Дональд. Он безропотно позволил привязать себя, а когда я покончил с этим, лизнул мою руку и помахал хвостом. Не стыжусь признаться, что я расплакался и произнес сквозь слезы: «Прощай, старина. Тебе предстоит отправиться в иной мир. И наверняка в лучший, потому что никакой другой мир не может быть хуже, чем этот».
В то время, как Рой начал устраивать подобные спектакли, Мэри еще продолжала ежедневно преподавать, по-прежнему убеждая горстку учеников, которые у нее остались, что те должны благодарить Бога, наделившего их столь великолепными большими мозгами. «Неужели вы предпочли бы иметь вместо этого шею, как у жирафа, или способность менять окраску, как у хамелеона, или шкуру, как у носорога, или рога, как у ирландского лося?» – спрашивала она их, продолжая нести все ту же околесицу.
А затем она отправлялась домой – к Рою, ставшему наглядной демонстрацией того, как ненадежен человеческий мозг. Рой согласился лечь в больницу лишь ненадолго, для обследования. Но в остальном вел себя послушно. Водить машину ему было противопоказано, и он, сознавая это, не протестовал, когда Мэри припрятала подальше ключи от его джипа с автоприцепом. И даже сам предложил продать его, сказав, что вряд ли им еще когда доведется заниматься автотуризмом. Так что Мэри не надо было нанимать сиделку для присмотра за Роем, пока она на работе. Соседи-пенсионеры рады были заработать лишних несколько долларов, составляя ему компанию и следя, чтобы он как-нибудь не нанес себе увечья.
Он был для них совершенно безопасен. Подолгу смотрел телевизор и мог часами с удовольствием играть, не выходя со двора, с Дональдом – тем самым золотистым ретривером, погибшим якобы на атолле Бикини.
* * *
В ходе своего последнего урока, посвященного Галапагосским островам, Мэри то и дело останавливалась на полуслове и умолкала на несколько секунд под воздействием охватывавшего ее сомнения, которое можно было бы сформулировать примерно следующим образом: «А вдруг я просто сумасшедшая, явившаяся с улицы в этот класс и принявшаяся объяснять этим подросткам тайны жизни? И они поверили мне, хотя все мои рассуждения в корне ошибочны».
И невольно ей приходили на ум все педагоги прошлого, почитавшиеся великими несмотря на то, что, будучи наделены даже здоровым мозгом, они, как выяснилось впоследствии, не меньше Роя заблуждались относительно истинной сути происходящего.
10
Сколько островов насчитывалось в Галапагосском архипелаге миллион лет тому назад? Тринадцать больших, семнадцать поменьше и триста восемнадцать совсем крошечных, представлявших собою не более чем отдельно стоящие скалы, возвышающиеся над водой на пару метров.
Ныне там четырнадцать крупных, семь мелких и триста двадцать шесть мизерных. Вулканическая активность в значительной мере еще сохраняется. Вот вам шутка: боги все еще гневаются.
И по-прежнему севернее всех, одиноко, на отшибе от других островов лежит Санта-Росалия.
* * *
Да, так, стало быть, миллион лет назад, 3 августа 1986 года, человек по имени *Рой Хепберн лежал на смертном одре в своем уютном славном домишке в Илиуме, что в штате Нью-Йорк. О чем он больше всего сожалел перед самым концом – так это о том, что у них с его женой Мэри не было детей. А настаивать, чтобы та после его кончины родила от кого-нибудь еще, он не мог, так как организм ее к тому времени потерял способность оплодотворяться.
– Теперь мы, Хепберны, исчезнем с лица земли, как дронты, – произносил он и продолжал сыпать названиями существ, оказавшихся бесплодными, сухими ответвлениями на древе эволюции. – Как ирландский лось… как бивнеклювый дятел… как tyrannosaurus rex[1]…
И он продолжал перечислять до бесконечности. Однако вплоть до последней минуты свойственное ему сухое чувство юмора не покидало его, и он делал к этому списку два шутливых добавления. В обоих случаях действительно вымершие не оставили по себе потомства:
– Как оспа… – говорил он, – как Джордж Вашингтон.
До последнего вздоха он всем сердцем верил, что его подвергло облучению собственное правительство. Мэри, врачу и сиделке, неотлучно находившимся при нем, поскольку смерть теперь могла наступить в любой момент, он посетовал:
– Пусть бы это еще была кара Божья!
Мэри эта фраза показалась финальной репликой пьесы. Вымолвив ее, он и впрямь стал подобен мертвецу.
Однако десять секунд спустя его посиневшие губы зашевелились вновь. Мэри приникла ухом, пытаясь разобрать слетавшие с них слова. И до конца своей жизни затем благодарила себя, что не упустила их.
– Знаешь, Мэри, что такое человеческая душа? – прошептал он с закрытыми глазами. – У животных нет души. Она – та часть человека, которой становится известно, когда с мозгом его что-то неладно. Лично я всегда это чувствовал, Мэри. Ничего не мог поделать, но чувствовал.
А затем, испугав Мэри и всех присутствующих до потери сознания, сел на кровати – прямой, с широко раскрытыми горящими глазами – и громовым голосом, разнесшимся по всему дому, приказал:
– Библию!
Это было первое за все время его болезни упоминание о чем-то связанном с официальной религией. Они с Мэри были не любители ходить в церковь или молиться – даже в самые тяжелые времена, – но Библия у них где-то имелась. Только Мэри плохо представляла где.
– Библию! – снова прогремел умирающий. – Женщина, найди Библию!
Никогда прежде он не называл ее «женщиной».
Мэри отправилась за Библией. И сумела отыскать ее в запасной спальне, между «Плаванием на «Бигле» Дарвина и «Повестью о двух городах» Чарльза Диккенса.
*Рой, все так же сидя в постели, обратился к Мэри, опять назвав ее «женщиной».
– Женщина, – велел он ей, – положи руку на Библию и повторяй за мной: «Я, Мэри Хепберн, даю у смертного одра моего возлюбленного мужа два торжественных обета».
Она повторила, ожидая – даже в глубине души надеясь, – что обеты эти окажутся столь фантастическими (например, возбудить иск против правительства), что выполнить их ей не представится ни малейшей возможности. Но подобной удачи ей не выпало.
Первый обет заключался в том, что она должна была, не тратя времени на пустое уныние и жалость к себе самой, вторично выйти замуж.
Второй обязывал ее отправиться в ноябре одной, за них двоих, в Гуаякиль и принять участие в «Естествоиспытательском круизе века».
– Дух мой будет сопровождать тебя на всем протяжении этого пути, – проговорил он. И умер.
И вот теперь она сидела в Гуаякиле, подозревая, что у нее самой рак мозга. В данную минуту, поддавшись уговорам своего мозга, она копалась в гардеробе, снимая чехол со своего красного вечернего платья, которое называла «платьем для Джекки». Прозвище это было дано ему потому, что одной из ее предполагаемых спутниц в том круизе должна была стать Жаклин Кеннеди-Онассис, и Мэри хотела получше одеться для такого случая.
Но теперь Мэри уже сознавала, что вдова Онассиса не настолько сумасшедшая, чтобы приехать в Гуаякиль, улицы и крыши которого охранялись солдатами, а в парках рылись окопы и пулеметные гнезда.
Стягивая чехол с платья, она нечаянно сорвала его с вешалки, и оно упало на пол, образовав алую лужу.
Она не стала его подбирать, ибо полагала, что все эти земные вещи ей больше не пригодятся. Но время ставить перед ее именем звездочку еще не пришло. Больше того: ей предстояло еще прожить тридцать лет. И даже найти некоторым жизненно важным материалам, существующим на планете, такое применение, благодаря которому она в итоге, неоспоримо, стала самым выдающимся экспериментатором в истории рода человеческого.
11
Будь Мэри Хепберн в настроении, более склонном к любопытству, чем к самоубийству, она могла бы, приникнув ухом к задней стенке встроенного шкафа, расслышать шумы, доносившиеся из соседнего номера. Она не имела ни малейшего представления, кто ее соседи, так как накануне, к моменту ее прибытия, других постояльцев в отеле не было, а с тех пор она не покидала своего номера.
Источником же шумов за стеной были *Зенджи Хирогуши, компьютерный гений, и его беременная жена Хисако, преподававшая икебану, японское национальное искусство составления букетов.
Соседями Мэри по другую сторону были Селена Макинтош, слепая дочь-подросток *Эндрю Макинтоша, и Казах, ее зрячая собака, тоже самка. Лая Мэри до сих пор слышать не приходилось в силу того, что Казах никогда не лаяла.
Казах вообще не лаяла, не играла с другими собаками, не занималась вынюхиванием любопытных запахов и не гонялась за живностью, бывшей естественной добычей ее предков, ибо, когда она была еще щенком, большемозглые люди срывали на ней злость и лишали пищи всякий раз, как она позволяла себе одно из этих занятий. С самого начала они дали ей понять, в каком мире она живет: в том, где все виды нормальной собачьей жизнедеятельности объявлены вне закона.
Ей удалили половые органы, чтобы она никогда не смогла поддаться зову природы. Я было собирался сказать, что числу действующих лиц моего рассказа предстоит вскоре свестись к одному-единственному самцу и массе особей женского пола, включая самку собаки. Однако Казах благодаря вмешательству хирургии к особям женского пола уже отнести было нельзя. Подобно Мэри Хепберн, она оказалась выключенной из игры эволюции. Ей не суждено было никому передать свои гены.
За комнатой Селены и Казаха, соединенная с предыдущей незапирающейся дверью, располагалась комната здоровяка отца Селены – финансиста и искателя приключений *Эндрю Макинтоша. Последний был вдовцом. Он мог бы замечательно сойтись с также овдовевшей Мэри Хепберн, так как оба были рьяными поклонниками отдыха на свежем воздухе. Но им не суждено было встретиться. Как уже говорилось ранее, *Эндрю Макинтошу и *Зенджи Хирогуши назначено было умереть до захода солнца.
Что касается Джеймса Уэйта, то ему был выделен номер на совершенно незаселенном третьем этаже, подальше от остальных постояльцев. Его могучий мозг тешил Уэйта лестью, как удачно тому удается прикидываться безобидным простаком. Но он заблуждался. Управляющий отелем сразу распознал в этом субъекте мошенника.
Управляющий этот, по имени *Зигфрид фон Кляйст, был мрачным мужчиной средних лет и принадлежал к преуспевающей немецкой общине, обосновавшейся в Эквадоре. Двое его дядьев по отцовской линии, жившие в Кито и владевшие как отелем, так и судном «Bahia de Darwin», поручили ему руководство отелем всего на две недели, которые уже подходили к концу, – для приема участников «Естествоиспытательского круиза века». Получив значительное наследство, он вел по преимуществу праздный образ жизни, однако, застыженный дядьями, вынужден был «вложить силы» в это семейное предприятие.
Он был не женат и не имел потомства, так что с эволюционной точки зрения не представлял никакого интереса. Он тоже мог бы быть кандидатом в мужья Мэри Хепберн. Но и он был обречен. *Зигфрид фон Кляйст должен был пережить заход солнца, однако тремя часами позже ему предстояло утонуть в волнах прибоя.
Было четыре часа дня. Вид у этого эквадорского гунна, с водянисто-голубыми глазами и длинными свисающими усами, был и впрямь такой, будто он ожидал в тот вечер своей кончины – хотя он мог предсказать будущее не лучше, чем я. Оба мы чувствовали в тот день, как планета вибрирует на своей оси, и ощущали, что в следующий момент может произойти все что угодно.
В частности, *Зенджи Хирогуши и *Эндрю Макинтошу предстояло умереть от огнестрельных ран.
* * *
*Зигфрид фон Кляйст не играет существенной роли в моем рассказе – в отличие от его единственного брата, Адольфа, который был на три года младше первого и также не женат. Более того: Адольфу фон Кляйсту, капитану «Bahia de Darwin», суждено было стать прародителем всего рода человеческого, обитающего ныне на поверхности Земли.
При содействии Мэри Хепберн ему, так сказать, назначено было стать Адамом нового времени. Сама же преподавательница биологии из Илиума, ввиду того, что она утратила дар зачатия, не должна, не могла стать его Евой. Вместо этого ей предстояло выступить скорее в роли Господа Бога.
Этот-то в высшей степени значительный брат ничего не значащего управляющего отелем прибывал в Гуаякильский международный аэропорт рейсом из Нью-Йорка, где он занимался рекламой «Естествоиспытательского круиза века».
Если бы Мэри прислушалась к разговору супругов Хирогуши, доносившемуся из-за перегородки встроенного шкафа, то она не поняла бы ни слова из того, что их волновало, поскольку те беседовали по-японски. Это был единственный язык, на котором они оба умели бегло разговаривать. *Зенджи знал немного английский и русский, а Хисако – китайский. Ни тот, ни другая не владели испанским, кечуа, немецким или португальским – языками, наиболее распространенными в Эквадоре.
Между тем эти двое тоже, оказывается, раскаивались в шутке, которую сыграли с ними их якобы замечательные мозги. В особенности сожалели они, что сваляли дурака, позволив заманить себя в этот кошмар, – ибо *Зенджи считался одним из самых сообразительных людей в мире. И именно по его, а не по ее вине они оказались пленниками энергичного *Эндрю Макинтоша.
Случилось это так: *Макинтош со своей слепой дочерью и ее собакой посетил годом раньше Японию, где познакомился с *Зенджи и чудесными плодами его работы в качестве служащего «Матсумото». В технологическом смысле *Зенджи, будучи всего двадцати девяти лет от роду, ухитрился стать дедушкой. Несколько раньше он произвел на свет карманный компьютер, способный мгновенно осуществлять устный перевод со многих языков и названный им «Гокуби». Затем, уже во время визита Макинтоша в Японию, *Зенджи разработал опытную модель нового поколения синхронных речевых компьютеров-переводчиков, которому дал имя «Мандаракс».
Тогда-то *Эндрю Макинтош, чья инвестиционная банковская фирма добывала средства на развитие различных производств и собственное существование посредством продажи фондов и акций, отвел молодого *Зенджи в сторонку и сказал, что для такого специалиста работать за жалованье просто идиотизм и что он немедленно принесет тому миллиардное состояние в долларах – или триллионное в иенах.
*Зенджи отвечал, что должен подумать.
Разговор этот проходил в токийском ресторане, где подавали суши – рулеты из сырой рыбы, начиненные холодным рисом, – популярное блюдо миллион лет тому назад. В то время никто еще и представить себе не мог, что очень скоро все население Земли будет питаться практически одной сырой рыбой.
Цветущий, шумный американский предприниматель и сдержанный, почти кукольный японский изобретатель общались через «Гокуби», так как ни тот, ни другой не могли связать двух слов на языке собеседника. К тому времени в мире насчитывались уже тысячи и тысячи подобных «Гокуби». «Мандараксом» же они воспользоваться не могли, ибо единственный действующий образец новой модели находился под усиленной охраной в кабинете *Зенджи в «Матсумото». И переразвитый мозг изобретателя начал рисовать перспективы его превращения в самого богатого человека страны – столь же богатого, как сам японский император.
Несколько месяцев спустя, в январе – том самом январе, когда Мэри и Рой Хепберн размышляли, сколь они должны быть благодарны судьбе, – *Зенджи получил от *Макинтоша письмо, где тот заранее, за целых десять месяцев, приглашал его погостить в своем имении под Меридой, на полуострове Юкатан, в Мексике, а затем совершить с ним вояж на отправляющемся в первое плавание эквадорском суперлайнере «Bahia de Darwin», к финансированию которого *Макинтош приложил руку.
В своем послании, написанном по-английски и требовавшем перевода для *Зенджи, *Макинтош писал: «Давайте используем эту возможность, чтобы по-настоящему узнать друг друга».
Чего тот действительно рассчитывал добиться – не в Юкатане, так во время «Естествоиспытательского круиза века» – это подписи *Зенджи на договоре о назначении японца главой новой корпорации, фондами которой *Макинтош намеревался торговать.
Подобно Джеймсу Уэйту, *Макинтош был в своем роде рыбак. Он думал ловить инвесторов, используя в качестве наживки, в отличие от первого, не ценник на рубашке, а гениального японского компьютерщика.
И здесь мне представляется, что начало моего повествования, действие которого охватывает миллион лет, не слишком отличается от его финала. В начале, как и в конце, я обнаруживаю, что говорю о людях – независимо от размеров их головного мозга – как о рыболовах.