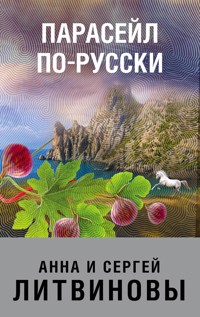Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Krimi
- Serie: Звездный тандем Российского детектива
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
«Многие знания — многие печали» Лидия… Художник Кирилл Баринов давно забыл о ней, ведь их короткий роман закончился, когда они были студентами. Но странные пугающие события заставили его вспомнить о временах своей юности: Баринов случайно узнал, что все его институтские друзья не так давно умерли… Опасаясь за свою жизнь, Кирилл обратился к экстрасенсу Алексею Данилову. Выслушав сбивчивый рассказ клиента, Данилов сразу догадался: потусторонние силы тут не при чем. Есть человек, который не просто пожелал зла старым товарищам Баринова — он убил их, пусть и не своими руками. Рядом с каждым из них незадолго до гибели оказывалась женщина, и Алексей понял: он должен отыскать бывшую возлюбленную художника… «Вне времени, вне игры» Игорь Сырцов считал себя баловнем судьбы. В восемнадцать лет стать центрфорвардом футбольной сборной! Пареньку, еще совсем недавно гонявшему мяч на стадионе провинциального городка, и не снилось столь высоко взлететь! И так быстро упасть с Олимпа… Неизвестные избили его прямо в центре Москвы, Сырцов чудом остался жив… Варвара Кононова неохотно взялась за это дело — футбол она никогда не любила. Ясно было одно: нападение было тщательно спланировано. Но кому помешала восходящая звезда и надежда российского футбола? Придется Варваре отправляться в городок, откуда приехал Игорь — именно туда ведут следы этого непонятного и совершенно нелогичного преступления. А напарником Вари стал столичный журналист Андрей Тверской, юный и горячий…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Анна и Сергей Литвиновы Многие знания – многие печали. Вне времени, вне игры (сборник)
© Литвинов С.В., Литвинова А.В., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Многие знания – многие печали
Алексей Данилов
Сименс меня предупредил, что этот клиент будет сложным. Или особо сложным. Только чтоб выслушать его, понадобится несколько сеансов. Если, конечно, я возьмусь за него.
И вот он передо мною. Зовут Кирилл Павлович Баринов. Как явствует из визитной карточки, художник. Больше никаких данных, кроме телефона, на визитке не указано. Никаких регалий, на которые горазды иные: «Член союза художников, союза дизайнеров, академик такой-то академии, лауреат сякой-то премии». Тоже гордыня своего рода: считать, что он настолько хорошо известен, что его станут узнавать только по имени. Но я, к примеру, слышал его фамилию первый раз. Надо будет почитать о господине Баринове в Интернете. Если я, разумеется, буду заниматься его делом.
На вид Кириллу Павловичу лет сорок с небольшим. Впрочем, реально наверняка больше. Просто следит за собой. О, это большая редкость в нашем обществе: мужик, следящий за собой. (Я имею в виду: настоящий мужик, не гомосексуалист.) Лишнего веса нет. Стройный, как юноша. Длинные, почти до плеч, тронутые сединой, стильно постриженные волосы. Бородка. Джинсовая куртка. Моя бабушка сказала бы в его адрес с осуждением: «Молодится». Однако бабушки нет на свете, а отношение к представителям сильного пола, которые следят за собой, в обществе потихоньку становится другим. Они по-прежнему белые вороны, но кое у кого вызывают уважение. У меня, к примеру, вызывают.
Внешне мой гость напоминает мушкетера. Но, разумеется, не из первой части трилогии Дюма. Скорее, одного из героев «Двадцати лет спустя». Или даже «Виконта де Бражелона». А вот кого конкретно? Не д’Артаньяна, понятно. Тот слишком для моего визитера сексуален, сангвиничен и прямолинеен. Портос – тоже другой, он чрезмерно толст и флегматичен. Значит, либо Арамис, либо Атос. А кто из них – посмотрим дальше.
– Что вас привело ко мне? – участливо спросил я.
Хороший доктор первым делом обычно спрашивает: «На что жалуетесь?» Я начинаю по-другому. Мой стиль отличен от врачебного. Я ведь не лекарь. Не колдун-шарлатан. И не гадалка. Не астролог. И не частный детектив. Однако я людям помогаю. Иначе бы они не стояли ко мне в очереди по несколько месяцев. И не интриговали в поиске знакомых и связей, чтобы обойти хвост. «Что вас привело ко мне?» – подходящий вопрос для столь востребованного специалиста, как я.
– Мне страшно, – ответствовал на первый вопрос визитер.
«Вероятно, – подумал я, – он пришел не по адресу, надо направить его к знакомому психотерапевту. Ну, и слава богу».
Я люблю свою работу, но, как и все, не люблю начинать новое дело. Мое подсознание вечно всячески от него отлынивает, цепляется за увертки и отмазки.
– Люди обычно боятся чего-то. Или кого-то, – произнес я. Свои тугрики за визит я все равно отработать должен. Да так, чтобы клиент почувствовал пользу.
– Я не очень понимаю, чего конкретно боюсь. С одной стороны, вроде бы ясно чего: смерти. Вы скажете, не мудрено, годы-то какие: пятьдесят с хвостиком. В Средние века, да и во времена Мунка с Ван Гогом это считалось глубокой старостью. Пора убираться.
– Выглядите вы прекрасно, – развел я руками. Легкая лесть входит в комплекс моих услуг. Клиент должен выйти от меня с лучшим настроением, нежели то, с каким пришел. Иначе он не расскажет своим друзьям и знакомым обо мне ничего хорошего. Несмотря на разгул рекламы и пиара, у нас в обществе до сих пор правит бал общественное мнение. Иначе говоря, все решает репутация. А она создается слухами.
– Да, пожить еще хотелось бы… Но тут, знаете ли, такая ситуация… С одной стороны, забавно рассказывать… А с другой – реально непонятно, что происходит.
– Не волнуйтесь. Уверен, что бы вы мне ни поведали – эти стены еще и не такое слышали. И, замечу, за их пределы ничего из сказанного здесь никогда не выходило.
– Понимаете, когда-то, много лет назад, я был в одной компании… Впрочем, компанией это назвать трудно. Мы тогда работали в одной бригаде стройотряда. Вы знаете, что такое стройотряд?
– В общих чертах.
Он все-таки пояснил:
– В советские времена это была распространенная форма организации студентов. Летом стройотряды обычно выезжали в Сибирь, на Урал, на БАМ. Иногда в Астрахань, собирать арбузы. Или в Нечерноземье – коровники строить. Кое-кто и в Москве, Подмосковье трудился. Стройотряды, вопреки распространенному сейчас мнению, не были обязаловкой. Хочешь – езжай. Нет – отправляйся в студенческий лагерь в Крым, купаться, лопать абрикосы, пить портвейн. Или – на деревню к бабушке. Однако платили в стройотряде круто. Поэтому туда многие стремились. Я в том отряде, о котором пойдет речь, заработал больше тысячи рублей. За два с небольшим месяца. Столько в Советском Союзе получали только академики. Ну, еще генералы. И генералы от искусства, – он хмыкнул. – Художники, писатели, скульпторы – из официально признанных, разумеется. Те, кто имел постоянные заказы.
Мне самому немногим за тридцать, и советские времена я практически не застал. Однако растили меня люди из тех времен. Точнее, все насквозь пропитанные теми временами. Поэтому своим предисловием посетитель мне Америки не открыл. Помнится, и отец покойный что-то про стройотрядную юность рассказывал.
– Я свою рабочую биографию начал после первого курса, – продолжал визитер. – То был совершенно особый год. Одна тысяча девятьсот восьмидесятый. Особенное лето.
– Олимпиада, – понимающе кивнул я.
– Да! Московская Олимпиада! Столицу тогда прихорашивали-принаряживали. А в рамках подготовки к играм – отправляли за тридевять земель, на практику и в стройотряды, всех иногородних студентов. Тогда нам даже экзамены перенесли: летнюю сессию сдавали в мае. И вступительные экзамены в столичные вузы передвинули – с июля на конец августа. Все для того, чтобы как можно меньше непроверенного молодого контингента шлялось по Белокаменной. А места в общагах заняли специально подготовленные люди из провинции: туристы из всех уголков СССР (как нам говорили). Но, главным образом, думаю я, в общаги селили провинциальных кагэбэшников, мильтонов, дружинников, оперотрядовцев. Огромные массы перемещались по стране, все пришло в движение, чтобы обеспечить Москве олимпийской тишь да гладь, да божию благодать. Надежные – в столицу, сомнительные – прочь из города. Я тоже из Первопрестольной в то лето смотался. Хоть и был коренным москвичом, а не каким-то понаехавшим… Извините! – вдруг спохватился он. – Слишком долгое предисловие. Это непроизвольно. Наверно, оттого, что мне не слишком приятно рассказывать суть дела.
Вы знаете, – он вдруг перескочил на другую тему, – компании, которые складывались в стройотрядах, обычно были не структурированы. Они быстро разваливались, о них скоро забывали. С теми, с кем учился – в одном классе, в одной группе, на одном курсе, – обычно не так. С ними и подружиться легче – когда ты учишься бок о бок пять или шесть лет, экзамены сдаешь, лабораторки спихиваешь. Потом, во взрослой жизни, студенческое содружество сохраняется. И встречи выпускников бывают через десять лет, двадцать, двадцать пять. Я хоть подобные посиделки не слишком люблю, но все равно, когда начинается подготовка сбора, на тебя обязательно выходят какие-нибудь девушки – вы замечали, что организуют встречи выпускников обычно девушки? Это оттого, что у них чаще, чем у нас, личная жизнь не складывается. А также энергии в запасе больше – для того, чтобы совершить новую попытку эту жизнь наладить… И даже если не придешь сам на вечер встречи, все равно по ходу дела можно расспросить о тех, кто тебя интересует: а где такой-то? А такая-то?
Он говорил и на глазах успокаивался – это было заметно. Скорее, из мушкетерской четверки – он нервный меланхолик Арамис. Да и профессия этому характеру соответствует.
– Со стройотрядными друзьями все иначе. Там обычно ребята-девчонки с разных курсов сходятся. Поработаешь с ними одно лето, и до свиданья. Потом только в коридорах руки пожимаешь. Или они совсем пропадают. И не видишь их, и не знаешь о них ничего… Так вот, приступаю, наконец, к главному. Недавно я узнал о бригаде, с которой работал в то олимпийское лето на стройке в Сибири. И знаете что? – Он сделал паузу, тяжело вздохнул и безнадежно махнул рукой. – Их, кроме меня, было шестеро. И все они – умерли. Причем все по-разному. За последние два-три года. Я остался последний, седьмой. Поэтому у меня сразу два вопроса возникло. Не знаю: к вам, не к вам? Может, к самому себе. Или, скорее, к судьбе. Вопрос первый: почему – они? Чем эти шестеро связаны, кроме того лета? И второй: почему ребята скончались вдруг сейчас?
– А вы за эти годы встречались с ними?
– В том-то и дело, что нет! За эти тридцать с небольшим лет – ни разу, кроме как с одним. Впрочем, с ним, последним, тоже нехорошо вышло…
Кирилл БариновМесяцем ранее
Я был рад видеть Антошу, он нашел меня и позвонил спустя тридцать лет, как мы виделись последний раз. Мы договорились встретиться в кафе, и я ждал его, честно признаюсь, с определенным внутренним содроганием. Я помнил молодого, веселого, сильного, куражливого человека, явно не дурака выпить. Кем-то он предстанет передо мной сейчас? Как прошлась по нему затейница-жизнь, какими своими колесами и гусеницами?
– Привет, старичок! – Слава богу, Антон был узнаваем. Да, поредели и поседели волосы, мешочки появились под глазами, лицо прорезали морщины, природную плотность сменил очевидный животик – но это был он, Антоха Марцевич, и, столкнись я с ним без подготовки на улице – я бы его узнал.
– Ты совсем не переменился, – молвил он, облапив меня своим медвежьим объятием.
– Хватит врать! – воскликнул я. По совести, я употребил другой, мало приличный синоним слова «обманывать» – вообще-то я не люблю бытового мата, но тут, при встрече с другом из стройотрядной юности, он вырвался у меня сам собой.
– Ладно, ты не девочка, чтоб говорить тебе комплименты, – сказал Марцевич, усаживаясь за столик. – Да, старичок, ты сильно похужал, хе-хе, но возмудел, – повторил он шутку из нашей юности, – точнее, похудел, но возмужал. Как тебе удается держать форму?
– Будем обсуждать мою диету? Или закажем что-нибудь? Что выпьем за встречу? Коньячка? Или ты по нынешним капиталистическим временам предпочитаешь виски? Кальвадос? Джин?
– Ничего, – погрустнел Антоша.
– Как скажешь, я тоже не большой любитель. Может, чисто символически, за встречу, по пятьдесят граммов?
– Нет, старичок, ты не понял. Я ничего не буду. Я в строгой завязке.
– Ладно. Дело хозяйское.
– Зато много ем, – через силу улыбнулся Марцевич, – а как покушаю – добрею и веселею. Если разобраться, в свиной отбивной с картошечкой содержатся те же самые эндорфины, что в вине.
– И давно ты постишься? – спросил я сочувственно.
– В этот раз уже год и семь месяцев, – сказал он с оттенком гордости. «Значит, были и другие разы», – жалея друга, подумал я.
Потом начался довольно сумбурный разговор – как ты, как я? Он сказал, что следит за моими успехами и даже один раз приходил на мою выставку. А его жизнь в кратком пересказе напоминала синусоиду, восходящие участки которой приходились на времена, когда он бывал в «жесткой завязке», а нисходящие, когда срывался. Я позавидовал его упорству в борьбе с самим собой: подумать только, в третий или в четвертый раз в жизни снова вскарабкиваться на вершину! О том, что участок был восходящий, свидетельствовало то, что Антон был полон самых радужных планов, кипел энергией: «В меня сам Раенко поверил, снова взял к себе! Офис на Ордынке, кабинет отдельный! Кстати, послушай, а давай твою выставку у нас в офисе устроим? Денег не обещаю, но слава! К нам, знаешь, и члены правительства приходят, и из Думы депутаты бывают, и из Совета Федерации! Не говоря уже о бизнюках! Закажут тебе свои портреты!» – «Да я портретов не пишу». – «А что пишешь?» – «Натюрморты, пейзажи, иллюстрации книжные». – «Ничего, напишешь пейзаж на заказ». Он был напорист, и я дал неопределенное согласие.
Я спросил его – но не потому, что очень хотелось знать, а скорее для поддержания разговора – количество общих тем катастрофически таяло:
– Как там наши?
И вот тут он погрустнел, посуровел и проговорил:
– Вот за этим я с тобой и хотел встретиться. Если под «нашими» ты имеешь в виду ребят, с которыми мы в стройотряде «Зурбаган-восемьдесят» работали, то они – все умерли.
Я вздрогнул:
– Как – все?
– Не весь отряд, конечно. Всего нас, если помнишь, там человек сто двадцать было. А вот из бригады, где мы с тобой, старичок, работали, – скончались все. Кроме меня и тебя. – И он поскучневшим голосом начал перечислять: – Пойдем по порядку. Бригадир, Петр Горланин, по кличке Пит. Самое смешное, что он Питом в конце концов стал. Ну, или Питером. Еще в восемьдесят девятом Горланин эмигрировал в США. Долго там пробивался, начинал с посудомойщика, но пробился, и давно, лет пятнадцать как. В последнее время преподавал в нью-йоркском Королевском университете, постепенно дослужился до профессора. Полный фарш, как теперь говорят: вторая жена красавица, две дочки, свой дом в штате Коннектикут. Он оттуда на работу в Нью-Йорк ездил – сорок минут. Чаще на электричке, но порой и на авто. Да не каждый день, счастливчик! Но вот однажды возвращался он почему-то поздно вечером и сильно выпивши. И зачем-то сам сел за руль. И прямо в Нью-Йорке, чуть не на самом Манхэттене, попал в ДТП. Машина всмятку, Пит погиб на месте. Даже до госпиталя не довезли. Полгода назад дело было. Пятьдесят шесть лет мужику, двое детей-школьников от второго брака.
– Да, невезуха, – прокомментировал я. А что еще скажешь? Я Петра Горланина никогда не любил – с тех самых времен, как мы в одной бригаде ломами орудовали. Были на то причины.
– Поехали дальше? – Антоха помрачнел еще больше. – Александр Кутайсов, помнишь его?
Конечно, я помнил Кутайсова. В нашем стройотряде восьмидесятого года он был звездой: Сашка пел. Он любил и умел это делать – и в качестве лидера стройотрядной рок-группы, и соло. Репертуар у него был самым модным по тем временам. Группа «Смоки», Градский, «Дип Перпл», «Юрайя Хип», «Роллинги». «Отель Калифорнию» на танцах обязательно пропевал два раза, один ближе к началу, второй – на бис: «Welcome to the Hotel California! Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face!» Помню, под кутайсовское исполнение «Отеля» я как раз пригласил Лидию и спросил то, что спросил. Н-да, ладно, проехали. Разговор сейчас у нас не про Лиду, а про Саню. Что с ним-то стало?
– Саня работал на Чернокопской АЭС. Жил в местном городке, Весенний называется. Если помнишь, атомные города с советских времен называются иначе, чем сама атомная станция – чтоб запутать вероятного противника. Санька женат был, двое детей, дочери, уже взрослые. Мы с ним время от времени переписывались. Сначала, после того, как вуз закончили, открытками к праздникам обменивались – к Седьмому ноября, Первому мая, Новому году. Потом, когда электронная почта появилась, соцсети, совсем просто общаться стало. Санька рыбалку любил, охоту, часто ездил в лес… Карьеры, как я понимаю, не сделал. Так и сидел сменным инженером. А сгорел от рака. Меньше, чем за полгода. Довольно редкий вид – рак брыжейки. Очень поздно диагностировали, когда поделать ничего было нельзя. Четвертая стадия. Скончался, как потом оказалось, через пару месяцев после Пита.
Сашку Кутайсова мне вдруг стало невыносимо жалко. Я хорошо помнил его. У меня даже фото сохранилось: мы рядом в стройотрядной столовке, у него в руках гитара, он поет. Оба – до ошеломления молодые. А рядом с нами сидит Пит, как всегда, снисходительно, чуть скептически улыбается. И еще один парень около – а кто таков, я и не помню. Кажется, после отряда мы с Кутайсовым так ни разу и не видались. Вот и осталось в памяти: да, Шура Кутайсов, тот самый, что когда-то делал «Смоки» один в один.
Мне захотелось выпить – помянуть Саню, да и просто захотелось, но я не знал, можно ли это делать при Антохе, и потому решил пока не начинать.
– Юрку Пильгуя, помнишь? – Марцевич продолжал свой скорбный перечень. Юрку я тоже помнил. Он играл в группе вместе с Кутайсовым. На бас-гитаре.
У нас ведь тогда, в восьмидесятом, была блатная бригада. В нее (за одним исключением, но об этом позже) входили те, кто помогал комиссару отряда вести культурно-массовую работу. За это днем, когда мы трудились на основной, физической работе, нас не столь сильно нагружали, как прочих бойцов. (Да-да, все мы тогда назывались бойцы, милитаристская лексика вообще была чрезвычайно распространена при социализме.) Я свои дневные льготы – чуть полегче работа, чуть вольготней дисциплина – отрабатывал по вечерам и ночам как художник: рисовал для отряда стенгазеты, плакаты и боевые листки.
– Юрка у нас в институте был по целевому набору, с Бараблинской атомной. Потом он туда, в Тверскую область, город Пискуново, и вернулся. Сделал хорошую карьеру, дорос до главного инженера станции. И тоже очень быстро сгорел в последнее время. Лейкемия – рак крови. Пятьдесят пять лет ему было, ровно как мне. Ты-то еще молодой.
– Угу, мне пятьдесят два, – покивал я.
– Да, возраст у нас у всех наступил рисковый, но не настолько же, чтоб в одночасье помирать. А умер Юрка через два месяца после Сани.
– Слушай, – перебил я его, – как ты посмотришь, если я закажу себе сто граммов? Помянуть, да и вообще. Тебя это не сильно покоробит?
– Как говорят земляки нашего Пита, – улыбнулся он широко, но, как мне показалось, через силу, – do as you please[1]. – И я поманил официантку. – Ладно, давай я об остальных расскажу – коротким конспектом. Мне и без того тошненько. Тебе, как я вижу, тоже. А помнишь ли ты, к примеру, Семена Харченко?
Этого я помнил смутно. Да, осталось в памяти: был в нашей бригаде какой-то один, блеклый и ленивый, а вот как его звали… В любом мужском коллективе обязательно бывает свой козел отпущения. Человечек, стоящий на самой нижней ступеньке в социальной иерархии. Обычно на это место «назначают» самого молодого, неопытного, неумелого, новичка. Самым молодым в бригаде был я – да и все мы были тогда новичками в том, что касалось тяжелой физической работы: с лопатой, ломом, мастерком, отбойным молотком. Но я был хоть и юн, зато усерден и ухватист. Другие парни тоже – кроме него. А этот остался в памяти как недотепа, растяпа и к тому же лентяй. Значит, Семен Харченко – вот как его звали. Я недоумевал, как он в нашу блатную артистическую бригаду попал: вроде никаких за ним талантов не водилось, и никакими культурно-массовыми делами он не занимался. Конечно, методы воспитания у нас были более гуманные, чем в армии или на зоне – студенты все-таки. Никто Харченко не бил и даже не оскорблял. Но бывало, что стыдили или посмеивались. Бригадир Пит и скорый на расправу Марцевич могли и матерком запулить.
Антон продолжал свой рассказ:
– Харченко из всех из нас сделал, можешь себе представить, самую впечатляющую карьеру… – Тут мне принесли водки. Если поминать товарищей, пусть полузабытых, делать это следует старой доброй русской водкой. Я махнул одним присестом, закусил хлебушком. Может, я слишком мнителен, но мне показалось, что Антон проводил огненную жидкость, отправляющуюся в мой желудок, с долей зависти. – Семен, – продолжал Марцевич, – стал в нашем родном концерне «Госэнергоатом» начальником отдела. Большой человек. Собственный дом в четыреста квадратов на Новой Риге. Наверно, и поворовывал потихоньку. Откаты, то-се. Жена, сыночек, дочка взрослая… Погиб он глупо. Поехал на Мальдивы – что характерно, с товарищем по работе, сиречь с любовницей. Полез плавать, да на жаре после пары стаканчиков. Не знаю, что конкретно послужило фатальной причиной: сильное течение (а оно в том месте и впрямь, говорят, было сильное) или сердечко прихватило – короче, не выплыл Сема. Бедная любовница (все-таки есть женщины в русских селеньях!) не бросила тело, возилась неделю, формальности улаживала, а потом везла с Индийского океана цинковый гроб. Ей, как рассказывают, родная жена покойного за все хорошее на похоронах попыталась когтями лицо порвать. Жуткое, говорят, было зрелище. Харченко умер позапрошлой зимой – аккурат седьмого января, на Рождество. Поэтому мой тебе совет, Кирюха: не меняй резко климат, не меняй женщину – особенно на молодуху, побереги себя!
Слегка глумливый тон Антона объяснялся и извинялся тем, что никто из нас тогда, в восьмидесятом, покойника не любил – да и сейчас не слишком много уважительного Марцевич о нем поведал.
– И, наконец, наш последний герой. Селиверстов Виталий. Про него ты, наверно, слышал?
– Нет. – Я и вправду не знал.
– Как? Он ведь артист. Действующий. В театре имени Тургенева играл. Снимался много, в основном в сериалах.
– Так он, значит, как и я, тоже изменил своей основной профессии?
– Да, двое вас таких, ренегатов, среди доблестных инженеров-физиков оказалось.
– Извини, я за его творчеством не следил.
– Не слишком много потерял – хотя плохого ничего про Витальку как актера сказать не могу. Играл он нормально. Добротно, как сейчас говорят.
Селиверстова Виталика я помнил хорошо. Он был у нас руководителем агитбригады. Это подразделение только так называлось: агит-. Наверное, старичкам из тогдашнего ЦК, что курировали комсомол, виделось при этом слове, как молодые артисты поднимают стихами, музыкой, песней своих однокорытников – бойцов! – на ратный труд. На самом деле большинство агитбригад Союза (наша так точно) ничего идейно-политического и пропагандистского не представляли – блистали в жанре комедии. Развлекали бойцов сценками из институтской жизни и скетчами на злобу дня из жизни стройотрядной.
Сам Марцевич тоже проходил по артистическому ведомству и был у Витальки вторым номером. Особого таланта за ним не водилось, но что-то в его медвежьей, разлапистой внешности производило комическое впечатление, да и подыгрывать более мастеровитому Виталику он умел. Он блистал в ролях тупых профессоров и полковников с военных кафедр.
Сочиняли и репетировали ребята по ночам, а днем – вспомнилось – Антоха Марцевич и Виталька Селиверстов все норовили забиться в тихий уголок и покемарить. Вдруг нахлынуло воспоминание: мы работаем на улицах Зурбагана, канавы роем, а наш Виталик сбежал, забился в подъезд жилого дома и уснул под лестницей, прямо на бетоне. Тогда мы, молодые идиоты, обложили его, по периметру тела, рейками, валявшимися там же, – Селиверстов не проснулся, даже не пошевелился. Получилось, будто лежит человек под лестницей в гробу. Жильцы, входившие в подъезд, очень пугались.
– У Витальки с сердцем стало плохо. Он временно один жил, снимал квартиру. Однажды не пришел в театр на репетицию, там подняли тревогу, супруга помчалась к нему – а он мертвый лежит на полу, рядом с телефоном. С сердцем стало плохо, даже «Скорую» вызвать не успел.
– Черт! – воскликнул я. – А я и не знал, что Виталик умер, вот стыдоба.
– Я тоже узнал случайно и на похоронах не был. А ведь он на моем курсе учился, не на твоем.
От этой концентрации смертей в горле у меня встал комок, и захотелось еще засандалить водочки – но я не рискнул, видел воочию, как Тоха мою выпивку переживает, хотя виду не подает. Но он будто мысли мои прочел:
– Да чего ты менжуешься, на меня равняешься! Не гляди на старого, прими стольничек на помин их душ! Мне тоже будет приятно, будто сам помянул.
– Не буду. Может, когда приду домой – но не сейчас.
Мы с ним еще немного посидели. Антоха заказал десерт, с огромным удовольствием умял огромный кусок тирамису. Говорить нам, в сущности, кроме нашей стройотрядной юности, было не о чем. Разве что попытаться построить закономерность: почему друзья ушли именно сейчас, и все столь быстро, один за одним? Впрочем, беседа шла вяло. Никакой логики в смертях парней не нащупывалось.
– Может, виновата наша специальность? – неуверенно вопросил я. – И то, что ребята на атомных станциях работали?
– Как это связано? Двое на АЭС трудились, еще один, Харченко, по ним ездил – и что? Поэтому Сема утонул? А почему Пит в аварию попал? Это какое отношение к делению ядра имеет?
И я с ним согласился, что никакого, а что оставалось делать? Мы еще поговорили – но как по обязанности, словно через силу – про мою выставку, которую Антоха загорелся устроить в своем офисе, а потом разошлись. Разумеется, обменялись всеми возможными телефонами. Марцевич клятвенно пообещал позвонить денька через три, когда разузнает, сколько и каких полотен можно будет у него в офисе повесить.
Через три денька он не позвонил. Не позвонил и через четыре. И спустя неделю тоже. И бог бы с ней, с той выставкой, не очень-то я в нее верил, да и нужна она была мне не слишком – но что-то меня, когда я вспоминал об Антохе, глодало. Очень уж он завистливо глянул на меня в тот момент, когда я попросил официантку принести мне водочки. И хоть совсем мне не хотелось, деньков через десять набрал я его мобильный номер. Телефон не отвечал. Длинные гудки. Я нажимал на кнопку повтора раз десять в разное время, утром и вечером – безуспешно. На следующий день, скрепя сердце, позвонил Антону на домашний. Мне ответил бесцветный, безжизненный женский голос.
– Антона? А кто его спрашивает?
Предчувствуя неладное, я представился: Баринов Кирилл, бывший коллега – когда-то учились вместе в институте.
– Ах, это с вами он встречался такого-то в ресторане, – констатируя, проговорила дама. И как обухом ударила: – Антоши больше нет.
У меня вырвалось: «Как?!»
– Вы знаете, наверное, о его слабости, – очень спокойно продолжила дама. – Вскоре после вашей встречи Антон, к сожалению, запил. Мы его пытались затормозить, но, как вы понимаете, в его случае это совершенно бесполезно. На третий день он вырвался, отправился среди ночи за добавкой. – Она сделала паузу, вероятно, подыскивала слова. Я так и не знал, кто моя собеседница: мама, жена или сожительница Антона. И по голосу не определишь, и спросить неудобно. В любом случае, ей досталось. – А потом его нашли. На лавочке в парке. Сердце остановилось. Говорят, он не мучился.
Я рассыпался в извинениях и соболезнованиях. А что мне, спрашивается, еще оставалось делать? Итак, Антоха тоже погиб. Довольно долго в моих ушах звучал женский голос: «Антоши больше нет». Чтобы сей неприятный звук заглушить, пришлось принять самому. Сначала я допил оставшуюся от майских шашлыков бутылку виски, потом перешел на водку.
Короче, когда я наутро проснулся, одетый, поперек кровати, чувство вины не то чтобы сгладилось, но стало не таким острым. Зато появилась явственно выраженная тревога: значит, шестеро из нашей бригады погибли – и я остался последним, седьмым.
* * *
Для кого-то восьмидесятый – год московской Олимпиады, для иных – время смерти Высоцкого (или Леннона, или Дассена), но для меня он – год Лидии. Хотя если сложить все наши встречи – вряд ли даже целые сутки наберутся. Если рассматривать в масштабе всей жизни, получается и вовсе микроскопический отрезок. Но раз помнится до сих пор – значит, в мыслях тогда она занимала большое место. Несообразно большое.
Второй раз мы встретились с Лидой на похоронах Высоцкого. Тогда все удивительно сложилось: смерть, и любовь, и вдохновение, и печаль, и слезы. Назавтра я написал свою первую в жизни картину – ту самую, которая положила начало, как потом утверждали критики, новому направлению – соцреалистическому реализму, в главные представители которого записали меня.
Из стройотряда в Москву я прилетел раньше времени. Если честно, осточертела работа. Подъем в шесть и линейка в семь тридцать. А потом – восемь, а то и двенадцать часов с ломом, лопатой или отбойным молотком. У нас хоть и была блатная бригада, все равно на смену мы выходили, как положено, а если ты попадался на глаза начальнику штаба или командиру отряда филонившим – следовал разнос, невзирая ни на какие заслуги. Рисовать шаржи на начальство и карикатуры на рядовой состав, не говоря о писании лозунгов – тоже опостылело.
И еще хотелось посмотреть Олимпиаду – хотя бы одним глазком. Игры открывали, как сейчас помню, девятнадцатого июля, в субботу. Но я так упахался за неделю, что даже не пошел в красный уголок смотреть церемонию по телевизору – после бани улегся в палатке и проспал все шоу.
Когда я звонил из Сибири родителям в Москву, они говорили, что смогут достать билеты: их продавали и даже раздавали по предприятиям и организациям, отдавая предпочтение партийным и активистам. На самое вкусненькое, вроде открытия-закрытия, финалов бокса или футбола, билеты до рядовых сотрудников не доходили. На дефицитные зрелища, испокон веку так повелось, попадали в Союзе сплошь начальники, а также их портные, завмаги, врачи и автомобильные мастера. Но мама и отец все равно заманивали меня в Москву, обещая мероприятия второго ряда: легкую атлетику, плавание, дзюдо. И олимпийская столица тоже манила: родители по телефону рассказывали удивительные вещи – в магазинах все есть, даже сырокопченая колбаса, и никого народу. А в киосках, сказывали, продавали импортные сигареты, включая «Кэмел» и «Мальборо». И, главное, я ведь был москвич, и меня, в отличие от соратников по отряду, уехать из столицы мира и социализма никто не заставлял. Меня погнали в Сибирь продажная девка романтика и длинный рубль – но я всегда мог вернуться.
Даже самолет из Зурбагана после двух месяцев в глуши произвел на меня ошеломляющее воздействие. Подумать только, в туалете висело зеркало, из кранов текла горячая и холодная вода, имелся ватерклозет. В отряде мы обходились еженедельной баней и дырками в полу. Носки я стирал в общих рукомойниках холодной водой.
В аэропорту Домодедово меня встречали родители – ввиду того, что я отсутствовал долго и вернулся издалека, сразу вдвоем: и отец, и мама. Мы погрузили мой рюкзак в багажник личных отцовских «Жигулей» и понеслись по пустынной трассе со скоростью сто километров в час. Столица налетела на меня быстро и сразу ошеломила своими многоэтажными зданиями и невиданной ранее пустотой и отмытостью. Всюду полоскались разноцветные флаги, отовсюду глядели символы игр: олимпийский медведь и стилизованная высотка (или башня Кремля?), увенчанная звездой.
Мы заехали на улицу Горького в Елисеевский гастроном. Я вышел из машины вместе с родителями – было интересно. В магазине народу оказалось непривычно мало, зато продавалась колбасная нарезка в вакуумной упаковке (я ничего подобного раньше в жизни не видел) и маленькие брусочки масла на один бутерброд. Свободно стоявший в витрине армянский пятизвездный коньяк тоже был из разряда чуда: родители взяли бутылку – как я сейчас понимаю, хотели отметить не просто мое возвращение, но мою взрослость: восемнадцатилетний сын вернулся с ударной стройки пятилетки, поздоровевший, возмужавший, загорелый. На глазах материализовывался штамп советской пропаганды, которым всем нам долбили голову, начиная с детского садика: высшая человеческая доблесть – это подвиг (и смерть) во имя Родины; или, на худой конец, тяжкий труд во славу ее, лучше где-нибудь в Сибири, в самых нечеловеческих условиях.
Когда сели в машину и тронулись, и ветер снова засвистел в распахнутых окнах, отец сказал: «Говорят, в ЦК обсуждают идею – закрыть Москву навсегда. Просто не открывать ее после Олимпиады. Все москвичи «за», много писем в партийные органы приходит». – «Было бы неплохо, да все равно ведь не сделают, – ответила мама. – Испугаются: что скажут борцы за права человека и всякие радиоголоса». А я ничего не говорил, лишь таращился в изумлении по сторонам, разглядывая столь красивую Москву – наверное, более красивой она никогда не была (и уже, вероятно, никогда больше не будет). Город достиг высшей точки своего имперского, социалистического развития и дальше становился только хуже – хотя никто из нас троих об этом не подозревал. А тут еще папа в машине рассказал анекдот (возможно, ставший пророческим): «Знаете, какая теперь периодизация истории СССР?» Периодизацией нас всех мучили на истории партии, лекциях по марксизму-ленинизму и школах комсорга (парторга, профорга). Вот и сейчас отец провозгласил: «Доолимпийский период, олимпийский и восстановление разрушенного хозяйства». Мама охотно рассмеялась, а потом укоризненно сказала: «Что ты разговорился, Павел Викторович, – при ребенке». Я возмутился: «Ребенок-то уже восемнадцатилетний. У нас в вузе и не такие анекдоты рассказывают». – «Кошмар! – воскликнула мама и добавила (тоже, как мне кажется теперь) пророчески: – Куда мы катимся!»
Бедные мои родители! Всю жизнь – точнее, всю советскую жизнь – боялись они, как бы ребенок (то есть я) не услышал чего, для его ушей не предназначенного. И ладно бы речь шла о животворных тайнах секса! Нет, табу считались: их работа, потому что оба трудились на оборонку; любые тайны кремлевского двора, ставшие им известными из слухов или закрытых лекций; все, связанное с диссидентами; нехватка продуктов и промтоваров; сталинские репрессии… О чем могли свободно разговаривать советские родители с детьми – если, конечно, желали добра своим отпрыскам? Только о погоде, природе да школьных успехах. Впрочем, я самостоятельно лет с тринадцати крутил мощный дедушкин приемник – в поисках «АББы», «Лед Зеппелин», битлов и рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». По странной прихоти начальства передавали их только по волнам «Голоса Америки» и Би-би-си, где попутно просвещали меня о Солженицыне, альманахе «Метрополь», Марченко, Павле Литвинове и Ларисе Богораз.
С Садового кольца мы съехали на улицу Радищевская (ту самую, которая тянется от Таганки к высотке на Котельнической). У театра меня поразило большое скопление народа. Люди толпились группками у входа, иные шли от метро к театру. А на самом здании театра (похожем на провинциальную киношку), на витринах с афишами были налеплены десятки рукописных и машинописных листочков. Кто-то, окруженный друзьями, читал стихи. «Что такое? – в недоумении воскликнул я. – Что случилось?» – «А ты не знаешь? – удивленно переспросила мама. – Высоцкий умер». Еще не понимая огромности и трагичности происшедшего, я воскликнул: «Как?! Правда?!» – «Да, – покивал головой папа за рулем, – в газете писали». В те времена то был козырный аргумент: если о чем-то написали в газете, точно правда. Я потом увидел этот некролог: его напечатали в одной только «Вечерней Москве», пять строчек на последней полосе – скоропостижно скончался артист театра и кино В. С. Высоцкий. Мы тогда привыкли, что в некрологах обычно с десяток строк отводилось перечню титулов и достижений покойного: лауреат, Герой труда, профессор, депутат… Тут все оказалось наоборот: об утрате певца извещало множество организаций: министерство культуры, и госкино, и управление культуры Моссовета, однако ни единого звания у покойного не было: скончался просто артист театра и кино.
Я сидел на заднем сиденье «Жигулей» и пытался осмыслить произошедшее, но был не в состоянии. Машина уносила нас все дальше от центра Москвы, в наш спальный микрорайон. «В народе говорят: здорово Высоцкий советской власти подгадил, – усмехнулся отец. – Не только жизнью своей, но и смертью». Мама возмутилась: «Павел, что ты такое несешь!» – «А что? Он сыграл в ящик посреди Олимпиады, как специально». – «Не надо о покойном в таком тоне, да еще при ребенке!» – Так они могли переругиваться (и переругивались) всю дорогу домой, что заняла по воскресному времени не более пятнадцати минут.
Никто тогда не знал ни о каких наркотиках в рационе Высоцкого. Да, знали, пил – но кто сейчас не пьет. Напротив, для многих, даже и для восемнадцатилетнего меня, это было оправданием: да, пью, а кто не пьет, все вокруг! Вон, и Высоцкий пьет, и Даль, и остальные. Мы просто не всех поименно знаем, потому что прочие известны меньше; а рестораны полны – и Дом актера, и Дом художников, и ЦДЛ, и Домжур – все властители дум сидят под газом!
Отношение к покойному у меня было сложное. Сказать, что я его обожал – нельзя; сказать, что не любил – тоже. В свои восемнадцать я успел его раз пять увидеть в театре; смотрел все фильмы с его участием; это давало мне право рассуждать, что Высоцкий-де актер классный (маленький зал Таганки рокот его голоса прямо-таки завораживал), однако как поэта я его нигилистически отрицал: романсеро, блатняк, юморист. Мне нравились его веселые песни – а, впрочем, я другие не особенно и слушал, негде было их слушать, сначала требовалось добыть. А добыть означало волевое усилие со стороны читателя-слушателя. Чтобы попасть в театр на Таганке, я его предпринимал, чтобы отыскать тексты или записи Высоцкого – нет.
И ни на какие похороны, ни на какое прощание я идти не собирался.
А вот поди ж ты! Друзей моих в городе не оказалось: кто в стройотрядах, кто с родителями на море, кто у бабушки на даче. Девушки у меня в ту пору не было; сексуального опыта тоже, знакомиться с ними на улице или в автобусе я не умел. Следовательно, делать в Москве мне было ровно нечего. Родители наутро ушли на работу – понедельник. Первые олимпийские билеты были на вторник. Поэтому не помню, как и почему, но на следующий день я оказался в районе Таганки.
Движение по дублеру Садового кольца перегораживала цепь олимпийских дружинников, замаскированных под волонтеров, в форменных голубых рубашках. Стояли они почти плечом к плечу, на расстоянии полуметра друг от друга, я подошел к одному из них и, сделав морду кирпичом, спросил: «А что случилось?» Тот осмотрел меня с головы до ног колючим взором – нет, совсем он не волонтер, явный мильтон или даже чекист, хоть и молодой – потом выдавил: «Высоцкого хоронят». Следуя вдоль цепи синерубашечников, я добрался почти до театра. Из-за спин дружинников увидел: посреди улицы Радищевской, перекрытой сегодня для движения, стоит небольшая группка. В ней седовласый Любимов с черной повязкой на руке. Рядом еще пара артистов Таганки. Против них – милицейский генерал со звездами, они что-то обсуждают на повышенных тонах, слов не слышно, однако видно, что Любимов чувствует себя хозяином положения, высокопоставленный мильтон перед ним будто даже оправдывается.
Скажу, забегая вперед, что эту сценку я сделал сюжетом своей самой первой картины. Зритель видит группу высокопоставленных спорщиков с совершенно другого ракурса, невозможного – сверху: как если бы художник взмыл над площадью и завис метрах в пяти-шести над асфальтом, людей я запечатлел со всей возможной, почти фактографической точностью – Любимов, артисты, генерал. Однако рядом с наблюдателем в левом верхнем углу вдруг проявляется из небес, словно лик ангела, лицо девушки. Моделью для девушки мне послужила Лидия, впрочем, к тому моменту, когда я понял, что она должна появиться на холсте, мы уже расстались, и я рисовал ее по памяти. Лицо Лидии на ватмане возникло еще и потому, что там, на похоронах, – или, точнее, около похорон – я снова встретил ее.
В Советском Союзе все привыкли к очередям разного рода – однако ничего подобного проводам Высоцкого я не видывал. Чтобы проникнуть в здание театра, где продолжалась гражданская панихида и был выставлен гроб, люди тянулись вдоль Верхней Радищевской – начало очереди уходило вдаль, к высотке. Очередь ограждали железные барьеры и не дружинники в синем, а простые милиционеры в белой парадной форме. Первое впечатление было, что служители порядка приоделись по случаю похорон поэта, – и только потом я понял: ах да, парадная форма из-за Олимпиады! Я быстро пошел вдоль очереди, надеясь найти ее исток. Но даже спустя тысячу человек – а может, две тысячи – конца не увидел и замедлил шаги. Многие из стоявших в хвосте держали на плечах переносные магнитофоны, оттуда неслись песни покойного; практически все как одна были трагическими. И вот только теперь – как никогда ранее! – эта скрытая в них трагедия показалась мне, наконец, совершенно уместной.
И тут я почти лицом к лицу столкнулся с Лидией. Она в растерянности стояла на обочине Верхней Радищевской, ставшей на день пешеходной, покусывала губы, и в глазах ее блестели слезы.
– Лида! – воскликнул я. – Ты здесь?!
– Вот решила, что надо прийти сюда, а тут столько народу, – заговорила она, словно мы прервались на полуслове. – Как ты думаешь, где эта очередь начинается?
– Где бы ни начиналась, вряд ли мы успеем пройти. Я слышал, скоро панихида, потом похороны.
– Ты не будешь стоять?
– Нет. И тебе не советую. Пойдем лучше его помянем.
Смерть поэта нас объединила. Теперь я уже готов был признать, что он поэт. Почему-то эта толпа людей, собравшихся на похороны, сделала его поэтом. А мы с Лидой разговаривали, как сообщники. Я взял ее под руку и повлек – дальше от очереди, вниз к Котельникам. Мне показалось, что она покоряется мне с облегчением: больше ей не надо мучиться, что делать, достаточно подчиниться мужчине, он знает.
Алексей Данилов
Я выслушивал откровения Кирилла Павловича значительно дольше, чем обычного посетителя. До самого вечера. Мой помощник Сименс знал свое дело, когда не записал никого из клиентов после него.
Выговорившись и выдохшись, художник умолк. Потом взглянул на меня с надеждой. Но я не знал, что сказать. Информации не хватало.
– Я не знаю, что делать, – развел я руками.
– Хороший ответ. – Баринов усмехнулся: – Мне-то порекомендовали вас как специалиста.
– Разгадка может быть любой.
– А именно?
– Ситуация многовариантна. Шестеро погибших из семи. Может ли происшедшее в результате оказаться случайностью, несчастливым стечением обстоятельств? Да, может. Может быть чьей-то злой волей? Да, конечно.
– Как?! – воскликнул он. – Вы считаете, что кто-то мог убить всех этих шестерых человек?!
– Конечно! – я ни секунды не сомневался в том, что говорю.
– Но двое умерли от рака, двое от сердечной недостаточности, пятый утонул, шестой погиб в автокатастрофе!
– Ну и что? Самое лучшее убийство – не то, что не раскрывается, а то, которое даже не выглядит убийством.
– Бросьте! Шесть человек умерло – и никто не понял, что их убили?!
– Именно. Поэтому я исхожу из того, что нам противостоит исключительное зло. Чем бы оно ни являлось.
– Вы сказали – нам противостоит? Так вы беретесь за это дело?
– Конечно. Я за него взялся, когда согласился принять вас.
– Вы говорите – противостоит зло. Значит, оно, это зло, персонифицировано?
– Может быть. Я не знаю. Надо думать, разбираться, искать. Пока невозможно сказать, кто виноват: живой человек? Или сверхъестественные «они»? И если да, то кто? Дьявол, провидение, судьба, мировой гомеостазис? И что распоясало эти силы? И чем на деле являлись смерти ваших шестерых друзей? Следствием чьей-то ошибки, греха? И лежит ли причина в прошлом? А может, в настоящем? Я не знаю! Дорогой, зверски уважаемый Кирилл Павлович! Не знаю. Нужны дальнейшие исследования. И их должны проводить вы.
– Я?! – неприкрыто изумился художник.
– А кто же? Чье еще сознание (и подсознание) хранит – или может хранить – все тайны? Кто может вспомнить все – и догадаться обо всем? Прежде всего – вы.
– Но как?
– Вспоминайте. Кто или что всплывает чаще всего, когда вы обращаетесь в памяти к тому лету? Какие события в вашей жизни – и жизни ваших друзей? Записывайте, что вспомнится. Или – вы ведь художник – зарисовывайте. Что вам снится? Вызывайте сны. Заказывайте их у своего подсознания.
– Это как? – слабо улыбнулся он.
– Настраивайтесь каждый вечер на свою загадку, на то, как будете ее отгадывать. Не пейте ничего перед сном. Ни алкоголя, ни снотворного. Играйте в ассоциации. Хотя бы сам с собой. К примеру, я говорю вам: лето восьмидесятого, Москва, Олимпиада – что вам, прежде всего, приходит в голову?
– Лидия.
– Лидия? Прекрасно! Значит, в следующий раз вы расскажете мне о Лидии.
Кирилл Баринов
Познакомились мы с Лидией в стройотряде «Зурбаган-80», где трудилась та самая наша бригада. Впрочем, я замечал ее и раньше, в институте – пробегая по коридорам с лекции на лекцию. Она училась на втором или на третьем курсе, а может, даже на четвертом, а я – на первом. Страшная пропасть в молодом возрасте. Она мне понравилась – впрочем, тогда, во времена юношеской гиперсексуальности, это вряд ли что значило. Мне одновременно нравилось сорок (а может, тридцать или пятьдесят) встреченных в институте девчонок. Практически каждая. Или каждая вторая.
А потом я вдруг увидел ее в нашей стройотрядной столовой.
Девушек в дальние стройотряды брали неохотно, и там всегда существовал дефицит женского пола. Трудились девчонки в основном на кухне – кстати, кормили они всегда отлично. Из одного и того же набора продуктов свои повара ухитрялись приготовить в десять раз вкуснее, сытнее, больше, с изыском, нежели в советских столовках, где обретались чужие – омерзительно разбухшие тетки. Кстати, в ту юношескую пору я оплошно считал, что задача социализма как раз и состоит в том, чтобы все в стране стали своими –