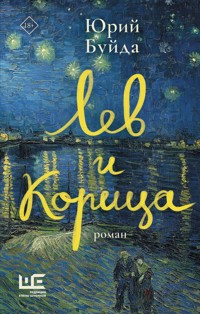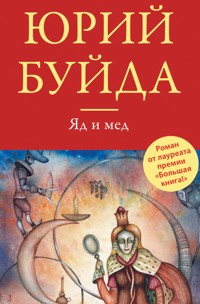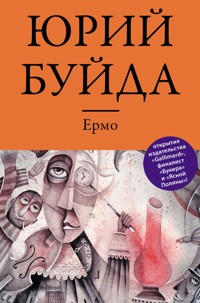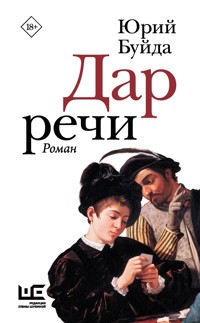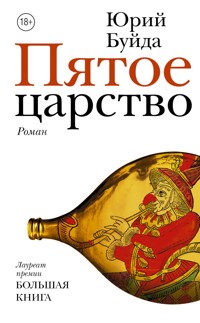
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Новая русская классика
- Sprache: Russisch
Юрий Буйда — прозаик, автор романов «Вор, шпион и убийца» (премия «Большая книга»), «Синяя кровь», «Ермо», «Прусская невеста» (шорт-лист премии «Русский Букер») и др. Его книги выходят во Франции, Великобритании, Эстонии, Польше, Венгрии, Словакии, Норвегии и других странах. «Пятое царство» — захватывающая, душеполезная, поучительная и забавная история в двенадцати главах — по числу врат Града Небесного, — в которой участвуют тайные агенты Кремля, шотландские гвардейцы, ожившие мертвецы, иностранные шпионы, прекрасные женщины, наемные убийцы, алхимики, вольнодумцы, цари, монахи, вампиры, бояре, бастарды, воздухоплаватели, пьяные ведьмы, а также одна мраморная Венера и одно великое дерево.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Юрий Буйда Пятое царство
© Юрий Буйда
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Пятое царство
Захватывающая, душеполезная, поучительная и забавная история в двенадцати главах – по числу врат Града Небесного – о борьбе добра со злом, о любви и ненависти, о магии и астрологии, о желтой крови, загадочных монетах и мертвой царевне, в которой участвуют тайные агенты Кремля, шотландские гвардейцы, призраки, ожившие мертвецы, иностранные шпионы, алхимики, прекрасные женщины, чудовища, гомункулы, вольнодумцы, цари, монахи, вампиры, наемные убийцы, бояре, бастарды, воздухоплаватели, пьяные ведьмы, а также одна мраморная Венера, одна голая свинья в юбочке и одно великое дерево
Пролог о младенце, палаче и слоне
Ребенка повесили в понедельник, палача – в четверг, а слона казнили в субботу.
Была метель, начинало темнеть, и, когда слон появился из Серпуховских ворот, зрители не сразу поняли, что это за чудовище движется к ним, огромное и темное, в окружении всадников с факелами и пеших солдат с копьями и алебардами. Когда слон приблизился, стало видно, что спина и уши его облеплены снегом, в складках под глазами замерзли слёзы, а левый бивень сломан. Его хобот покорно лежал на плече араба, который вел зверя к загону, выстроенному посреди пустыря, неподалеку от кладбища, где хоронили безымянных пьяниц.
Артиллеристы зажгли фитили и опустились на колено у пушек, выставленных на тот случай, если зверь вздумает напасть на людей, сгрудившихся у загона. Но слон проследовал в загон спокойно, не глядя по сторонам, и замер, уткнувшись в стену.
– Элефант, – пробормотал кто-то из голландских купцов.
Когда-то его кормили рисом, медом и печеным хлебом, и каждый день давали ему ведро водки. Когда-то его каждый день скребли и мыли, чтобы слоновья кожа оставалась белоснежной. Вечерами араб услаждал слух элефанта игрой на свирели, а летом выводил его к реке на прогулку. Слон плыл сквозь толпу, мальчишки свистели, старухи крестились, юродивые завывали, показывали кукиш и корчились в пыли, а элефант величественно шествовал, положив хобот на плечо араба и помаргивая детскими глазами, и всем хотелось, чтобы он встал на задние ноги, поднял хобот к небесам и вострубил, вострубил, и стало бы страшно и сладко…
Но слон не обращал внимания на москвичей, на их крики и ужимки. И лишь иногда он вдруг придерживал шаг и наваливал кучу, вокруг которой тотчас собирались торговцы, колдуны и бродячие монахи. Одни утверждали, что дерьмо элефанта по своим целительным свойствам не уступает навозу единорога, тогда как другие выше всего ставили помет Левиафана, зверя из бездны. Ржали лошади, ревели верблюды, скоморохи били в бубны, цирюльники люто щелкали ножницами, у Свибловой башни вороны наперебой клевали трупы разбойников, а слон величественно шествовал дальше, невозмутимый, белоснежный, несравненный, как Бог или царь…
Слонов было два, черный и белый. Их подарил Ивану Грозному персидский шах Тахмасп. Но черный слон отказался преклонять колени перед московским государем, и был за это изрублен в лохмотья мясницким топором – это сделал немец-опричник Штаден. Белый же оказался послушнее – и остался в живых. Он пережил грозного царя, его сына Федора, Бориса Годунова, Лжедмитрия, Василия Шуйского – великие бунты и великие пожары, заговоры и смерти – и дотянул до царствования Михаила, первого государя из рода Романовых. Теперь он был стар, болен и тощ, и смерть была бы для него милосердным избавлением от страданий.
Люди забыли о белом элефанте, хотя всего восемь лет назад он был героем и любимцем толпы. Мало кто помнил день его славы.
А слава его случилась весной, 3 мая 1606 года, когда в Москву въехала Марина Мнишек, невеста царя и самодержца всея Руси Дмитрия, императора и самозванца.
Третий Рим встретил ее звоном тысячи колоколов, пушечными залпами, грохотом барабанов, ревом труб и лязганьем литавр… карета с золочеными колесами… князья, бояре, ханы, мурзы, патриарх со свитой, дворяне и монахи, купцы и воры… французские копейщики в бархатных плащах с золотыми позументами, шотландские алебардщики в фиолетовых кафтанах, немецкие артиллеристы в зеленом и красном, польские гусары в сверкающей стали, русские стрельцы в лазоревом, алом и травчатом, казаки и гайдуки, татары и кабардинцы… знамена и хоругви… мушкеты и пики… соболя, сукна, шелк, рогожа, сурьма и румяна, серебряные гербы и медные серьги… тысячи голубей в небе, львы и тигры, ревущие во рвах…
Праздничное возбуждение достигло высшей точки, когда процессия миновала Никитские ворота и приблизилась к Львиному мосту… люди уже начинали задыхаться… некоторые не могли сдержать слез… молодая женщина в ярко-желтом платке упала в обморок, и ее вынесли на руках из толпы… напряжение усиливалось, нарастало, становилось невыносимым, и если бы вдруг разразилась гроза, никто не удивился бы… гром, молния, ливень, крики ужаса и радости… но вместо этого налетел ветер… вихрь… он взметнул пыль и сор, ударил в лица, понес песок и пыль вдоль улицы… стало темно… мрак проник в сердца людей, вдруг вспомнивших о том, что точно такой же вихрь пал на Москву, когда в прошлом году в город вступил Дмитрий Самозванец… это был malum omen, дурной знак…
И вдруг, так же внезапно как налетел, ветер стих, наступила тишина, и посреди опустевшей улицы возник белоснежный слон… люди не верили своим глазам… это было как во сне… элефант как будто выпал из вихря… он поднялся на задних ногах, вскинул хобот и вострубил, вострубил, и этот звук показался людям гласом Божьим, голосом, призывавшим к радости и любви… а потом слон грациозно опустился на колени и поднес Марине Мнишек кубок с вином, держа его хоботом как рукой…
Маленькая, безгрудая, с хищным и черствым лисьим лицом, тонкогубая и мелкозубая, с голубоватой детской шеей, едва выдерживающей тяжесть высокой прически из конского волоса, закованная в стальной испанский корсет, испуганная, растерянная и злая, Марина с ужасом смотрела на белоснежного зверя, стоявшего на коленях и взиравшего на нее детскими глазами.
А рядом с нею замер царь Дмитрий – низкорослый, широкоплечий, безбородый и безусый, с двумя чудовищными бородавками на лице, с маленькими глазами, без шеи, с руками как медвежьи лапы.
Все ждали.
Пауза затягивалась.
И вдруг Дмитрий встряхнулся, с облегчением выдохнул, взял у элефанта кубок и воскликнул высоким срывающимся голосом:
– Слава! Слава!
Внезапно ударила пушка, другая, закричали рожки, прорезалась флейта, зарокотали турецкие барабаны… и тут вдруг слон пустился в пляс… он вскидывал хобот, сворачивал его кольцом и фыркал… он вставал на задние ноги и трубил… он переминался с ноги на ногу и широко разевал свою поросячью пасть, словно улыбаясь… снова поднимался на задние ноги и кружился, кружился… люди очнулись, перевели дух, зашевелились, загомонили…
– Слава! – снова крикнул Дмитрий.
– Слава! – откликнулся кто-то из стрельцов.
– Слава! – радостно закричала толпа. – Слава!
И снова запылала небесная синь, и снова залились малиновым звоном колокола, и снова Марина была первой красавицей на свете, румяной и пышной, как само счастье, а Дмитрий – великаном, красавцем, могучим государем, рыцарем, владыкой и повелителем языков и сердец…
Подбежавший араб что-то крикнул, слон взмахнул ушами и направился к Львиному мосту, и за ним под звуки колоколов и варварской музыки двинулись кареты, конница, пехота, потянулся народ…
Тем вечером люди чествовали слона.
Они поили его медом и водкой, кричали: «Слава!», и белоснежный элефант вставал на задние ноги и радостно трубил, и все его любили…
Это случилось восемь лет назад. Через пять дней, 8 мая 1606 года, Дмитрий и Марина обвенчались. Спустя еще девять дней Самозванца убили и выстрелили его прахом из пушки, щуплая же Марина чудом спаслась, спрятавшись под широкой юбкой своей фрейлины.
А хмельной слон той ночью крепко спал в царской конюшне.
Он знал, что утром его будет ждать сытный завтрак – корзина калачей, рис, патока и водка. После этого араб отведет его к реке, чтобы элефант мог искупаться.
Слон улыбался во сне.
Он не слышал ни набата, ни криков, ни выстрелов, и не видел, как заговорщики убили Дмитрия, а потом выволокли его нагое тело на площадь и оставили на поругание толпы.
Близился рассвет.
Элефант спал.
Утром араб не нашел ни свежих калачей, ни риса, ни водки. Слону пришлось довольствоваться овсом и зелеными березовыми ветками. А через неделю прожорливого гиганта выгнали из царских конюшен, и начались его скитания по России, охваченной войной.
Восемь лет лишений и страданий превратили белоснежного красавца в тощего горбатого урода, побирающегося у церквей и богатых домов. Араб был счастлив, когда удавалось раздобыть немного репы или брюквы для элефанта. Зимой они воровали солому с крыш, а летом питались лесными орехами. Несколько месяцев слону пришлось таскать осадные пушки, а однажды он принял участие в кавалерийской атаке. Шведские пули, польская шрапнель, русские копья и казацкие сабли оставили следы на его шкуре. Несколько раз его пытались съесть. Он потерял бивень и оброс серым грубым волосом. Его мучила одышка, а зимой донимал кашель.
Наверное, он так и умер бы где-нибудь под забором… снег, черные будылья бурьяна, вороны… и весной кто-нибудь обнаружил бы кучу огромных костей, череп со сломанным бивнем, обрывки грязной шкуры… все к тому и шло… но он дотянул до лета 1614 года, и судьба его неожиданно оказалась вновь связана с большой политикой…
Летом 1614 года правительственные войска захватили в плен Марину Мнишек, ее сына Ивана и ее любовника атамана Заруцкого. Их имена были символами Смуты, этого ядовитого облака, которое все еще висело над Россией, сулило новые бунты, новые страдания. Память и мысли русских людей были захвачены жуткими видениями, мрачными пророчествами. Имена Марины, Заруцкого и маленького Ивана, которого называли Воренком, были адским паролем, разбойничьим кличем, заклинанием, зовущим демонов смерти…
Марина Мнишек была венчана на царство, поэтому казнить ее, во всяком случае публично, было невозможно, а вот ее любовник и сын были обречены.
Атамана Заруцкого посадили на кол в конце июля 1614 года, вскоре после того, как его в цепях доставили в Москву.
Спустя два с половиной месяца, 13 октября 1614 года, в понедельник, на пустыре за Серпуховской заставой был казнен Воренок, Маринкин сын, мальчик, не достигший четырех лет.
Вот как описывает эту казнь Элиас Геркман, голландский купец и поэт, опиравшийся на свидетельства очевидцев:
«Многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место казни]. Так как в это время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: “Куда вы несете меня?” Эти слова напоминают слова, которые поэт Эврипид заставляет произнести своего Астианакса: “Мать, сжалься надо мною!” Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из мочал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел, и полуживого ребенка оставили умирать на виселице. В этом случае действия русских можно всего лучше сравнить с действиями греческого флота после падения Трои, ибо то зло, которое греки терпели от сына Гектора, русские терпели от сына Димитрия, опасаясь, чтобы он не достиг зрелых лет. Доказательством этого могут служить стихи Эврипида, которые произносит Улисс по поводу тоски Андромахи, при похищении ребенка Астианакса:
Однако все было не совсем так, как пишет Элиас Геркман.
Князь Репнин, который по долгу службы присутствовал на казни, рассказывал, что все произошло быстро, и народ на площади безмолвствовал: «Воренок заслуживал сострадания, но не снисхождения».
Что же касается душераздирающей сцены с полуживым ребенком, которого «оставили умирать на виселице», то голландский поэт проявил чрезмерную доверчивость, приняв слова потрясенных очевидцев за чистую монету.
На самом деле все было гораздо будничнее и страшнее.
Понимая, что ребенок слишком легок для смерти, палач посадил несчастного Ивашку в мешок с камнями, а уж только после этого надел на его шею петлю. Смерть его была болезненной, но скорой.
Узнав о смерти сына, Марина Мнишек заболела и вскоре умерла.
Возможно, она была убита, хотя вряд ли: она была венчанной, законной царицей, и ни у кого не возникало возражений, когда она ставила на бумагах подпись «Марина всея Руси».
В четверг, 17 октября 1614 года, был казнен палач, повесивший Воренка.
Палач был безмозглым преступником, приговоренным к казни за жестокое убийство двоих детей. Его схватили на месте преступления – он спал, положив голову на живот девятилетней девочки, которую незадолго до того изнасиловал и задушил. Вторая девочка, шести лет, лежала поблизости с перерезанным горлом.
У него был широкий приплюснутый нос, толстые выпяченные губы и маленькие глаза. На допросе он не отпирался, рассказывая об убийстве так, словно речь шла об ужине: взял, насытился, вытер руки. Он убил, потому что убил. Смертная казнь его не пугала. Он непрестанно тер глаза и зевал. Похоже, спать ему хотелось сильнее, чем жить.
Князь Репнин, который руководил допросом, сказал про этого убийцу так: «Слишком легок, чтобы называться человеком». То есть он был существом, лишенным тяжести, которая присуща человеку, крещенному во имя Господа нашего Иисуса Христа. Проще говоря, этот убийца был лишен бессмертной души. Половицы под ним не прогибались и не трещали даже там, где откликались на поступь кошки.
Его бросили в подвал Свибловой башни. В этом месте между зубцами кремлевской стены торчали толстые бревна – на них обычно висели два-три разбойника, которых вскоре после казни сбрасывали к подножию башни на страх народу и поживу воронам. А огромные московские вороны злы и прожорливы – уже к вечеру они оставляли на месте казни одни грязные кости.
Но этот душегуб избежал свибловой виселицы. Ему, можно сказать, повезло: московские палачи все как один, даже Ахмет Свиная Голова, славившийся склонностью к труположеству, отказались вешать ребенка. Не помогли ни угрозы, ни посулы.
И тогда палачом предложили стать человеку, которому все равно предстояло отвечать перед Богом и людьми за погубленные детские души.
Вопреки обыкновению, ему не обещали прощения за исполнение палаческих обязанностей, но прямо сказали, что вскоре после этого он будет казнен.
Он поковырял в зубах и согласился, потребовав, однако, в качестве платы кусок говядины.
– Говядины? – с ужасом переспросил дьяк.
– Говядины, – подтвердил урод. – Фунт вперед и фунт после.
На следующий день он недрогнувшей рукой затянул петлю на шее ребенка, посаженного в мешок с камнями, а когда тот забился в предсмертных судорогах, вдруг склонился к его лицу. Люди, стоявшие у эшафота, замерли. Такого никто не ожидал. Обычно на людях даже самые жестокие палачи предпочитают не смотреть жертвам в глаза. Этот же не сводил взгляда с лица мальчика, искаженного смертной мукой, словно хотел получше его запомнить. Запомнить каждую черточку, каждую деталь.
Убедившись в смерти Воренка, палач передал мешок с его телом приставам.
Через два дня, в четверг, бритоголовый гигант Ахмет Свиная Голова вошел в камеру, где содержался палач, и размозжил ему голову ударом кузнечного молота. Труп безумца бросили у подножия Свибловой башни, и не прошло и часа, как московские вороны раздели тело до костей.
А в субботу, 19 октября 1614 года, был подвергнут казни элефант.
Слон вошел в загон, построенный специально для него, и замер, уткнувшись в стену. Загон был узким, тесным – не повернуться. Ворота за слоном закрыли и заложили тяжелыми дубовыми запорами.
Стрельцы подтащили к загону лестницы и вскарабкались на стены.
Снегопад усиливался, и при мятущемся свете нескольких фонарей и факелов нельзя было понять, что происходит на пустыре. Стрельцы наверху энергично двигались, взмахивая руками, но из-за бревенчатых стен не доносилось ни звука – ни всхлипа, ни хрипа.
– А вдруг он сейчас затрубит? – проговорил кто-то в толпе купцов.
Но ему никто не ответил.
Стрельцы били элефанта копьями и алебардами, пытаясь достать до сердца. Слон вздрагивал при каждом ударе так, что сотрясались бревенчатые стены загона. В темном тесном закуте, под снегом, продрогший и обессилевший от болезней, покрытый язвами и струпьями, полуослепший и полуглухой, он был легкой добычей, но прошло не меньше двух часов, пока наконец одному из стрельцов удалось пробить элефантово измученное сердце. Слон упал на колени, уткнулся бивнем в землю и обмяк.
Снег вокруг загона стал быстро темнеть, и иностранцы бросились к Серпуховским воротам, за которыми их ждали кучера с санями и возками, а кровь шла за ними по пятам, стремительно черня снег, пока не добралась до городской стены…
До самого утра мясники разделывали слоновью тушу, чтобы продать ее по кускам в тюрьмы, на псарни и в зверинцы, а араб потерянно бродил между людьми и тихонько выл, и выл, и выл, пока кто-то не увел его в лавку, чтобы напоить допьяна, до забвенья.
Казнь элефанта была событием скорее поэтическим, нежели политическим, скорее необходимым, чем неизбежным, но без таких событий, которые часто кажутся бессмысленными, книга истории была бы если и не лживой, то неполной.
Казнью ребенка, казнью безумца и казнью слона, как тогда казалось, и завершилась Смута…
Врата первые,из которых появляются вампиры, злокозненная форма жизни, суровые шотландцы, трезвые стрельцы, царские доктора, ядовитые коты, загадочная девушка, милая попка и шифрограммы
Матвей Звонарев,
тайный агент, записал в своих Commentarii ultima homini[1]:
Человек пишущий вызывает подозрение и страх, особенно если он пишет не по приказу свыше, а по собственному желанию и разумению. Писателю не под силу добавить что-либо к Священному Писанию, которое содержит в себе альфу и омегу истории – всё, что следует знать человеку о Боге и людях, а вот вызвать демонов – по неосторожности, небрежности или по злому умыслу – он может вполне: ошибка в Имени калечит судьбы и отворяет источники зла. Это-то и пугает малых сих – людей обыкновенных, неученых, которые в каждом слове пытаются расслышать Слово.
Я понимал, чем рискую, когда однажды утром открыл эту тетрадь, сшитую из листов лучшей испанской бумаги, и приступил к труду, который не нужен ни Господу, знающему всё, ни людям, не желающим знать ничего. В те мгновения я пережил приступ отчаяния, и сердце мое наполнилось черной желчью одиночества. Что ж, я знал, на что шел. Но болезненное, почти невыносимое чувство неполноты жизни, острое нежелание и впредь оставаться безъязыкой тенью истории, разрушительное стремление к истине толкали меня к продолжению моего труда. И, как ни странно, именно обреченность этого труда пьянит и придает сил, заставляя двигаться к цели, собирая из осколков целое, исцеляя и исцеляясь.
* * *
Суздаль – Крепости:
шифр «решетка от Марка»
Инокиня Ольга умерла.
* * *
Крепость – Суздалю:
шифр «решетка от Марка»
Держите тело на льду до особых указаний.
* * *
Алексей Перелешин,
галицкий губной староста, Ефиму Злобину, дьяку Патриаршего приказа, главному следователю по преступлениям против крови и веры, докладывает:
За последнюю неделю в городе Галиче и окрестных лесах найдены 14 трупов детей, из которых высосана вся кровь.
Допрошены все зарегистрированные галицкие ведьмы и колдуны, но они как один поклялись на Святом Евангелии, что к этим преступлениям непричастны, после чего были отпущены под подписку о смирении.
* * *
Ангус Крепкий Щит Маккензи,
начальник шотландской дворцовой стражи, князю Афанасию Лобанову-Ростовскому, боярину, судье Стрелецкого приказа, доносит следующее:
Вчера, 3 сентября 7131 года от сотворения мира – 13 сентября 1622 года от Рождества Христова, – в царский дворец пыталось проникнуть некое существо, которое было остановлено на Постельном крыльце и убито до смерти бдительными, верными и безжалостными шотландцами из ближней стражи Его Величества Государя Московского и всея Руси.
Попытка опознания этого существа оказалась бесплодной. Оно похоже на крупную черную свинью с волчьими зубами, человеческими руками и козлиными ногами.
По моему приказу труп был завернут в рогожу и помещен в яму со льдом у Свибловой башни. У ямы выставлен усиленный караул из шотландских стрелков и стрельцов.
Копия – боярину Федору Шереметеву.
* * *
Анисим Громыкин,
сотник, начальник стрелецкого караула у Никольской башни, князю Афанасию Лобанову-Ростовскому, судье Стрелецкого приказа, доносит следующее:
Эта злокозненная тварь проникла в Кремль невидимой. Это происки дьявола. Караульные были трезвы. О чем готов свидетельствовать перед дыбой, царем и Богом.
* * *
Князь Афанасий Лобанов-Ростовский,
боярин, судья Стрелецкого приказа, Великому Государю и Царю всея Руси Михаилу Федоровичу и Великому Государю и Патриарху всея Руси Филарету Никитичу доносит следующее:
Гриф «Слово и дело Государево»
Вчера, 3 сентября 131 года, за полчаса до полуночи в государев дворец через Постельное крыльцо пытался проникнуть некий враг, который был остановлен и убит стражей.
Труп врага осмотрен комиссией в составе князя Афанасия Лобанова-Ростовского, дьяка Патриаршего приказа Ефима Злобина, дьяков Стрелецкого приказа Анпилова и Мерцалова, государевых докторов Валентина Бильса и Артемия Дия, а также лекаря Арнольда Кнопфа.
При вскрытии хирург Арнольд Кнопф не обнаружил в этом существе ни сердца, ни иного вместилища бессмертной души, каковое бывает даже у котов и медведей.
Государевы доктора Валентин Бильс и Артемий Дий утверждают, что подобия этого явления нет ни у Аристотеля, ни у Плиния, ни у Фомы Контипратанского, ни у Конрада Геснера, ни у Улисса Альдрованда, ни в многочисленных Bestiarium vocabu-larum.
По зрелом размышлении и рассуждении мы пришли к согласию в том, что перед нами – злокозненная форма жизни, не имеющая ничего общего ни с человеческой, ни с животной природой.
Следовательно, эта бестия есть порождение самого зла, угодное лишь врагам трона и веры, а дело подлежит рассмотрению как покушение на жизнь Великих Государей.
* * *
Виссарион,
личный секретарь Великого Государя и Патриарха Московского и всея Руси Филарета, записал в рабочем дневнике:
Сегодня Великому Государю Филарету доложено:
О попытке проникновения некоей злокозненной бестии в государев дворец;
О доносе агента Швивого, готового свидетельствовать в суде, что князь Иван Хворостинин тайно и многократно дрочил penis на икону Пресвятой Богородицы;
О посылке в Тобольск книг, напечатанных в царской типографии, с требованием оплатить веревочки, которыми те книги перевязаны;
О женском истукане дворянина Истомина;
О пожаре в Егуповской улице;
О делах в Галиче Мерьском, кровопийстве и князе Шутовском;
О польских делах;
О шведских делах;
О турецком султане Мустафе;
О состоянии здоровья тайного агента Матвея Звонарева, убитого до полусмерти после поездки в Суздаль по известному делу;
О кончине окольничего Никиты Годунова-Асанова;
Об одноногом ангеле и мартышке.
Великий Государь и Патриарх решил и приказал:
Тайно поднять по тревоге полк черных стрельцов, а кремлевских пушкарей перевести на круглосуточное дежурство;
Стрельцов, стороживших ночью у Никольской башни и проспавших врага, наказать, но без страсти;
Шотландских стрелков с разумной щедростью наградить серебром, изъятым у князя Ивана Хворостинина;
Князя Хворостинина арестовать без огласки, объявить ему Государеву опалу и поместить в Чудов монастырь под присмотр игумена;
Женский истукан взять под стражу;
Удвоить караул у домов Матвея Звонарева и Конрада Бистрома в Толмачах;
Ангелу оставаться с одной ногой, мартышку удалить.
Кроме того, Великий Государь и Патриарх потребовал доставить ему книги, касающиеся шифровального дела, а именно «Полиграфию» Третемия, «Шифр сеньора Беллазо», «О тайной переписке» Джованни де ла Порта и «Трактат о шифрах» де Виженера.
* * *
Окольничий Иван Грамотин,
думный дьяк, глава Посольского приказа, агентам в Варшаве, Кракове и Гнезно:
шифр «решетка от Матфея»
Гриф «Слово и дело Государево»
Что известно о новом Лжедмитрии?
* * *
Птенец
Гнезду сообщает:
Голубка умерла. Обстоятельства смерти выясняем.
Русские говорят, что она завещала похоронить ее рядом с отцом в Троицкой лавре.
Пытаемся также установить, правда ли, что у нее был сын, и какова его судьба.
* * *
Виссарион
дорогому другу Осленочку написал:
Вчера кто-то пытался проникнуть в государев дворец. Это был не человек, но и не животное, а некое чудовище. Оно было убито. Это событие встревожило и Отца, и Сына. Гарнизон крепости усилен, по тревоге подняты войска, секретные службы действуют в режиме «Слова и дела Государева».
Наш милый Хвостик по своему легкомыслию влип в глупую историю: наверху стало известно, что он мастурбирует на образ Богородицы и произносит имя государя, будучи голым.
Отец, как ты знаешь, полагает себя воинствующим Христофором – крестоносцем, атлетом Иисусовым, подвижником Господа ради – и заставляет перекрещивать не только католиков и протестантов, но даже православных выходцев из Польши и Великого княжества Литовского, которых он считает зараженными латинской ересью. Он сражается за чистоту веры, поскольку только она обеспечивает единство нации и государства, столь важные для России, которая с огромным трудом преодолевает хаос Смуты. Он объявил войну пьянству, разврату и язычеству, возродил книгопечатание, развернул строительство новых храмов и школ, занялся сочинением наставлений для священнослужителей и редактированием богослужебных книг. Подогреваемый монашески-развращенным воображением, всю чудовищную совокупную мощь государства, Церкви и общества он обрушил на чужебесие, подрывающее целостность русского духа.
Это общеизвестно, и пишу я все это лишь затем, чтобы было понятно, что в таких условиях поступки Хвостика, его любовь к иностранным книгам и картинам, его вольные толкования Священного Писания, его животное пьянство и его склонность к пухленьким putti могут быть расценены как покушение на веру, и тогда князюшке несдобровать. Ему наверняка припомнят все прошлые грехи, прежде всего – любовную связь с Самозванцем.
Нам остается молиться, чтобы неуравновешенный Хвостик не выдал своих друзей.
Итак, дорогой Осленочек, ты должен принять как неизбежное отказ от поездок в веселое село Ваганьково, от встреч в доме Птички Божией и других местах, а возможно, и от переписки, которая может быть перехвачена шпионами Отца или сыщиками Сына.
Надеюсь, ты с пониманием примешь мое нежелание лишиться доверия Отца, которым я дорожу не меньше, чем твоей милой попкой.
Αντίο, αγαπητέ φίλε[2], и пусть вынужденное расставание послужит укреплению нашей любви.
* * *
Конрад Бистром,
доктор, Великому Государю и Патриарху всея Руси Филарету Никитичу сообщает следующее:
Ваше Святейшество, спешу довести до вашего сведения, что Всадник пошел на поправку и вскоре предстанет перед вами. Он уже самостоятельно передвигается по дому. Благодаря помету аиста, положенному на темя, к пострадавшему вернулась память. Однако правый его кулак так и не разжался.
Позвольте поблагодарить вас за двойную охрану наших домов, бочонок мальвазии и шелковый отрез.
* * *
Окольничий Степан Проестев,
глава Земского приказа, Великому Государю и Царю всея Руси Михаилу Федоровичу, Великому Государю и Патриарху всея Руси Филарету Никитичу сообщает следующее:
Из скудельницы Варсонофьевского монастыря на Большой Лубянке, где в яме на льду дожидаются захоронения трупы самоубийц, пьяниц, утопленников, некрещеных детей и ведьм, пропали семь тел.
Отец Михаил, монах, присматривающий за скудельницей, поклялся на Святом Евангелии, что эти тела были оживлены неким колдуном – коротышкой в немецкой шляпе, после чего покинули яму на своих ногах и скрылись. Колдун тоже исчез неведомо каким образом.
* * *
Максим Старостин-Злоба,
сын боярский, губной староста, Степану Проестеву, окольничему, главе Земского приказа, доносит следующее:
Вчера на пожаре в Егуповской улице был обнаружен труп отца Михаила, монаха, присматривавшего за скудельницей Варсонофьевского монастыря. Тело расчленено, язык вырезан, глаза выжжены. Делом занимается губной сыщик Охота Иванов.
* * *
Матвей Звонарев,
тайный агент, записал в своих Commentarii ultima hominis:
Русские и поляки бьют от всей души, французы и итальянцы – от всего сердца, немцы и шведы – изо всей силы, и только мертвые бьют наверняка.
Меня били мертвые.
Я сражался с флорентийскими брави, богемскими колдунами и псоглавыми убийцами в Карпатах. В Лондоне мне пришлось с мешком золота в руках пересечь Темзу по дну, чтобы спастись от безжалостных киллеров герцога Норфолкского. В Праге я едва уцелел в схватке с глиняным монстром, в Саксонии меня пытались затоптать свиньи-людоеды, а оспина на моей левой щеке – это след ядовитой слюны каркассонской ведьмы. В Кенигсберге я голыми руками задушил женщину-змею, которая пыталась сожрать мои testiculus, в Кракове в меня стреляли на ночной улице – пулю остановил нательный крест, а в битве на Девичьем поле я чудом выжил, когда меч венгерского наемника пробил мою грудь в дюйме от сердца…
Я должен был умереть тридцать четыре раза, но тридцать четыре раза избегал смерти.
Яд и нож, меч и стрела, пуля и черная магия оставили на моем теле неизгладимые следы, научив полагаться только на Бога и радоваться рассветам больше, чем закатам.
Я не жалуюсь: давным-давно я сделал выбор в пользу судьбы, оставив другим беспокойство о душе.
Но мне никогда не доводилось сталкиваться с призраками.
Они напали, когда я спрыгнул с коня у ворот своего дома в Толмачах.
Пять теней, едва различимых во тьме.
Я всегда готов к отпору, но этих не брали ни сталь, ни свинец. Выстрел из пистолета в голову не остановил первого противника, а мой кинжал не встретил сопротивления, когда я попытался вонзить его в грудь второго. Больше я ничего не видел и не слышал – меня оглушили ударом по затылку.
Очнувшись, я увидел над собой лицо моего друга Конрада Бистрома.
– Давно? – спросил я, трогая языком обломки зубов.
– Разожми кулак, – сказал Конрад.
Я попытался разжать кулак, но безрезультатно.
– Давно я здесь?
– Нет, но смерть отступила…
Он рассказал, что произошло той ночью у ворот моего дома, и я в который раз возблагодарил Бога за удачный выбор соседа.
Заслышав шум, Конрад поднялся на стену, окружавшую его дом, и увидел, как разбойники пытаются добить лежавшего на земле человека. Узнав моего коня, Конрад выстрелил в негодяев из мушкета, убив одного и задев дробью еще парочку, а потом открыл ворота и вместе с вооруженными слугами бросился мне на помощь. Разбойники тотчас скрылись, прихватив убитого и раненых.
Меня внесли в дом, где Конрад, осмотрев меня, обнаружил множество ушибов, колотых и резаных ран, из которых, впрочем, ни одна не была смертельно опасной. Больше всего его беспокоила шишка на моем темени.
Три дня я был без сознания, и все это время Конрад и его ученик ухаживали за мной, поили целебными отварами и молились.
Мне повезло в тридцать пятый раз.
– Я должен быть в Кремле, – сказал я. – Меня ждут.
– Ты еще слишком слаб, – сказал Конрад. – И у тебя выбиты все передние зубы. Я с трудом понимаю, что ты говоришь. Но мой ученик попытается тебе помочь…
– Сколько это займет времени?
– Неделю. Может, чуть больше. Смирись.
Он поднес к моему лицу зеркало, и я смирился: с такой физиономией меня не то что в Кремль – в распоследний ваганьковский притон не пустили бы.
Заплывшие глаза не позволяли хорошенько разглядеть ученика, но пальцы у него были мягкими и тонкими, как у девушки.
Ученик удалил выбитые зубы, напоив меня предварительно горячим голландским ромом, а когда раны поджили, заставил прикусить шмат вязкой глины, после чего занялся изготовлением моих новых зубов.
После нескольких примерок у меня во рту оказались две скобы, выкованные из дамасской стали и закрепленные на коренных зубах петлями, а вместо выбитых резцов, клыков и левого премоляра я получил стальные же, припаянные к скобам и покрытые чем-то вроде фарфора.
Не потребовалось много времени, чтобы понять, почему ближе к вечеру ученик покидал мужскую половину дома, и, когда новые зубы заняли свое место, я без обиняков спросил у Конрада, как зовут девушку, прикидывающуюся мальчиком, и давно ли она у него.
Старик не стал отпираться и врать – вздохнул и принялся рассказывать.
Глубокой осенью 1605 года в ворота его дома постучали. Привратник открыл сторожевое окошко и увидел корзину с младенцем, стоявшую в луже. Девочке было всего несколько дней от роду, и ее сразу передали кормилице.
В корзине нашли мешок с деньгами и письмо, в котором содержалась слезная мольба о помощи. Пеленки тончайшего полотна, кружевной детский чепчик, двести флоринов и дорогая бумага, на которой по-русски и по-немецки было написано письмо, свидетельствовали о том, что родители девочки принадлежали к высшему сословию…
– Двести флоринов! – воскликнул я. – Польских?
– Настоящих florenus rubeus. Дела мои тогда шли неважно, и я не смог устоять перед таким соблазном, как ни боялся вляпаться в политику… но обошлось…
Я с сомнением покачал головой, но промолчал.
– Двести флоринов, Матвей… – Конрад смущенно улыбнулся. – При крещении ее назвали Ульяной, Иулианией, но я называю ее Ютой…
Ютой звали его жену, погибшую от рук ночных разбойников во времена Годунова.
– Она оказалась очень смышленой, – продолжал старик. – Рано научилась читать, со временем стала помогать мне… сам знаешь, каково в Москве приходится врачам, да еще иноземцам, а если узна́ют, что под моим руководством лечением занимается женщина…
Я кивнул.
– Ее, конечно, не сожгут как ведьму, но практики ты лишишься, и это в лучшем случае… – После паузы я спросил: – И никаких известий от родителей девочки ты больше не получал?
– В тот день, когда на тебя напали, я получил мешок с двумя сотнями дукатов…
– Щедро… Она знает о деньгах?
– Я рассказал ей все, что знал.
– Значит, шестнадцать лет ты прятал ее на женской половине, и никто не догадывался, что твой ученик – девушка… и что дальше?
У Конрада Бистрома было немало заслуг перед высокородными семьями, поэтому московские ревнители благочестия смотрели сквозь пальцы на то, что доктор время от времени пересекал границу между мужским и женским мирами. Но не могло быть и речи о том, чтобы Москва по примеру Лондона и Салерно признала за женщиной право заниматься врачеванием.
Конрад глубоко вздохнул.
– Ну хорошо, оставим это, – сказал я. – Позволяют ли Юте правила твоей conspiracio разделить с нами вечернюю трапезу?
Анна, его верная домоправительница, много лет делившая с ним кров и ложе, иногда присутствовала на наших редких вечерних посиделках и даже пила вино, так что у старика не было веских причин для отказа.
Тем вечером ученик преобразился до неузнаваемости.
В светлом атласном платье с целомудренным вырезом, в корсете, очерчивающем тонкую талию, и золотом наволоснике, украшенном мелким жемчугом, Юта утратила всякое сходство с мальчиком, который ходил в бесформенном балахоне, широких штанах и прятал лицо под капюшоном.
Я так засмотрелся на девушку, что чуть не сел на кота, который занял мое кресло.
– Господин кот, – сказал я, – пошел вон!
– Не любите котов? – с улыбкой спросила Юта.
– В «Книге тонкостей различных естественных творений» святая Хильдегарда Бингенская утверждает: «Кот скорее холоден, чем горяч, и притягивает к себе дурные жидкости, и к воздушным духам не враждебен, как и они к нему, а также имеет некую естественную связь с жабой и змеей. В летние месяцы, когда жарко, кот остается сухим и холодным, но испытывает жажду и лижет жаб или змей, поскольку их соками он восстанавливает свои соки и освежается, иначе же жить не сможет и погибнет: так и человек использует соль, чтобы было вкусней. И от сока, который кот от них принимает, он внутри становится ядовитым, так что ядовиты у него и мозг, и все тело». – Я поклонился. – Мне больше по нраву собаки…
– Что ж, – сказал Конрад, – настал час испытать твои новые зубы, дорогой Матвей.
Испытание прошло успешно: дамасская сталь легко справилась с куском тушеной говядины.
– А нельзя ли у вас попросить новые ноги и руки? – обратился я к Юте шутливым тоном. – Да и новые глаза не помешали бы…
– Выбиты зубы, все тело в шрамах… – Юта покачала головой. – Неужели о такой участи вы мечтали в детстве?
Боже, о чем она говорила? Какой смысл вкладывала в слово «мечта»? Сновидение? Надежда? Несбыточное желание чего-то большего, чем предлагает жизнь, которая стоит на железном основании, описанном поговоркой «всяк сверчок знай свой шесток»? Все мы в России, пережившей неисчислимые ужасы Смуты, слишком хорошо знали, что бывает, когда человек по своей воле преступает границы божеские и человеческие, покушаясь на сложившиеся формы жизни и ломая законы большинства. Крестьянин не может стать князем, как щука не может стать осетром. Бог наверху, царь на земле, стыд – повсюду, таков закон жизни, и не нам его нарушать… и нет ничего страшнее, когда человек, кем бы он ни был, теряет свое место во Вселенной, перестает понимать и знать свое место…
Впрочем, моя растерянность была вызвана скорее неготовностью к такому разговору, нежели угрозой, таившейся в невинном вопросе Юты.
Мой ответ был уклончивым:
– Наша жизнь утверждает не правоту добра – скорее жестокую неизбежность божественного возмездия…
– Вчера, – сказал Конрад, разливая вино по чашам, – мы побывали на Болоте, где казнили разбойников, а у Юты сильно развито imaginatio…
– Воображение, – подсказал я. – Уместно вспомнить, что в латинском языке somnium – не только мечта, но и игра воображения…
– Это ужасно, – сказала Юта. – Отнимать жизнь, дарованную Господом… да еще на глазах у толпы…
Мы с Конрадом переглянулись.
– Взгляните на это с другой стороны, – сказал я, стараясь придать своему голосу мягкость. – Мне кажется, вы должны знать, что такое театр, спектакль…
Юта кивнула.
– Так вот, – продолжал я, – смертная казнь – это спектакль, в котором нам, по счастью, отведена роль зрителей. Нас много, мы волнуемся, наблюдая за палачом, который готовится выйти на сцену, мы с ужасом, презрением и жалостью взираем на злодея, которого ведут к эшафоту, и иногда отпускаем глупые шуточки, чтобы скрыть свои чувства, мы сопереживаем ему, хотим мы того или нет, наконец мы замираем в ожидании того мига, когда топор палача оборвет жизнь осужденного – жизнь, наполненную грехами… а поскольку всякий человек – это список смертных грехов, мы на мгновение оказываемся – пусть в воображении, пусть невольно – на месте осужденного… и когда голова злодея падает на помост эшафота, у нас вырывается вздох облегчения, словно мы освобождаемся от переполняющего нас зла… в это мгновение мы переживаем безвредную радость, как называл это Аристотель, катарсис, то есть возвышение, очищение, оздоровление – пусть кратковременное, но остающееся в нашей памяти навсегда и, может быть, меняющее нас к лучшему… поэтому такие спектакли, на мой взгляд, – настоящая школа сострадания и смирения, напоминающая нам о том, что восхождение на эшафот – это восхождение на Голгофу, и всякий погибающий на Голгофе есть образ Христа, величайшего из мечтателей… кстати, Франс де Вааль как-то заметил, что пытка тоже требует эмпатии – ведь нельзя намеренно причинять боль, если не понимаешь, что больно, а что нет…
Юта смотрела на меня с изумлением.