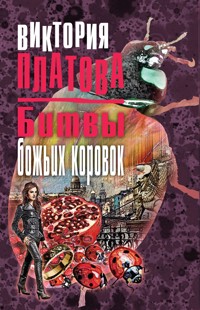Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Krimi
- Serie: Завораживающие детективы Виктории Платовой
- Sprache: Russisch
Виктория Платова – писатель с уникальным взглядом на жанр детективного романа. Избегающая штампов и клише, индивидуальная, не похожая ни на кого, она по праву считается одним из лучших мастеров современного российского детектива. Ее книги издаются в Европе, по ним снимаются фильмы, их номинируют на ведущие литературные премии, такие как «Русский Букер». Что скрывают красные маки?.. Боль… Страх… Предательство… Убийство… В разных районах Санкт-Петербурга находят тела молодых женщин с перерезанным горлом. Капитан полиции Бахметьев, следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева пытаются вычислить престуника и разгадать его игру. То, что он играет в жестокую и опасную игру становится очевидным, когда находят третью жертву – актрису Анастасию Равенскую. Нарочито театрально обставлены все убийства: горло жертвы перерезано опасной бритвой и слегка присыпано землей, рот забит стеклянными шариками. И, наконец, «Красное и зеленое». Сочетание цветов, давшее неофициальное название этому делу. Запястья жертв как личной меткой убийцы перетянуты обрезком ткани, на котором все же можно разглядеть маки. Красные маки на зеленом поле…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Виктория Платова Что скрывают красные маки
Пролог
INTRO. SLEEPING LOTUS. 2:32
1989 г. Август
Манакин
…
– Заткните уже этого дятла малолетнего. Кто-нибудь заткнет или нет? Надоело слушать его скулеж.
– Какого черта, Акела? Он же молчит. Давно молчит. И будет молчать. Никому ни о чем не расскажет. Никогда. Я обещаю.
– Решил за него вписаться? С чего бы?
– Он ни при чем, Акела. Он вообще не должен был…
– Вот именно. Не должен. Твой косяк, Шух. Ты сегодня знатно накосячил, брателло.
– Какой же ты гад… Сволочь.
– Интересное кино. Ты убил, а я – сволочь?
– Это… это был несчастный случай.
– Угу. Скажи еще, что это она вызвала тебя сюда гребаной запиской.
– Несчастный случай, слышишь?
– Ментам будешь объяснять, чувак. Не мне.
– Гад! Гаа-ад!..
– Тебе лучше не злить меня, брателло. Я пока еще на твоей стороне. Пока.
– Хорошо. Просто скажи, что делать.
– Для начала заберешь свои слова назад. «Сволочь», и все такое…
– Да. Конечно. Прости.
– Что ты там бормочешь себе под нос? Не слышу.
– Прости меня.
– Считай, что простил. Мы же друзья? Друзья, да?
– Да. Я не хочу ментов. Хочу, чтобы всего этого не было.
– Хех. Это уже есть, брателло. И ничего тут не поделаешь. Не исправишь, вот оно что.
– Не называй меня так. Брателло… Дурацкое слово.
– Не нравится, да?
– Да.
– А мне – так в самый раз. Ты накосячил, брателло. Ты – убийца.
– Это был несчастный случай. Несчастный случай. Несчастный случай.
– Стукнись башкой о камень, полегчает.
– Ты ведь подтвердишь это, да?
– Конечно. Так и скажу. Брателло Шух не так чтобы очень виноват. Ну, зазвал девчонку в лес. Просто проверить, на что она пойдет ради него. Шух ведь у нас знаменитость, а ради знаменитости – чего не сделаешь? Она ведь могла и не пойти, так?
– Да! Свободно могла не пойти.
– За руки ее не хватали.
– И в мыслях не было.
– Сучка, да?
– Сучка! Сучка!
– Конченая сука. Любительница покрутить динамо. Больше всего таких ненавижу. Сказала «а», говори «б». И избежишь ненужных проблем. Верно?
– Так и есть, Акела. Так и есть! Она сама во всем виновата. Сама!
– Не ори. Чего теперь орать? Дело сделано. Ты ее убил.
– Это был несчастный случай! Ты же сам все видел.
– Нет. Не видел.
– Ты же… Ты же сам подначивал! Гад! Га-аад!..
– Опять за свое?
– Прости. Прости, пожалуйста.
– Я не видел, но готов подтвердить все, что ты скажешь. И Мокша подтвердит. Он, конечно, дурачок, но дуракам как раз верят. Больше, чем умникам. Больше, чем знаменитостям. Уж не знаю, почему так. Мы подтвердим, брателло, не вопрос. Весь твой лепет про несчастный случай подтвердим. Но только это не поможет.
– Нет?
– Не-а. Потому что она мертвая – в тех кустах. Кина не будет, брателло Шух. Конец ему. Забудь о нем навсегда.
– Не хочу я забывать.
– А придется. Карьера твоя накрылась, тут к гадалке не ходи. Кто станет смотреть фильм с убийцей в главной роли? Разве что Мокша. Но Мокша – дурачок. А остальные – не дураки.
– Ты ведь поможешь мне, Акела?
– С чего бы?
– Мы друзья. Друзья. Ты сам это сказал.
– А ты что думаешь?
– Так и думаю. Мы друзья.
– До тех пор, пока лето не кончилось?
– Нет. Нет!
– До тех пор, пока съемки не свернули?
– Навсегда, Акела. Навсегда. Помоги мне. Скажи, что делать.
– Если ты забудешь, что сказал…
– Я не забуду.
– Если забудешь – я напомню.
– Не придется напоминать.
– Лады, брателло. Иди, копай.
– Не понял?
– Зароем сучку, как будто ее и не было. Чего непонятного?
– Как будто и не было, да. А… если ее найдут?
– Не найдут. Места здесь глухие. И с войны много чего в земле осталось: наступишь случайно – на молекулы разнесет. Или… что там меньше молекул?
– Не знаю. Атомы.
– Во! Умник, да?
– Нет.
– Ну, не важно. А важно, что лишний раз сюда соваться резона нет. Иди, копай, умник.
– Руками?
– Нет, за лопатой сгоняем. Может, тебе еще экскаватор подогнать?
– Вряд ли получится… руками.
– Получится. Земля мягкая, всяких палок полно. Справишься.
– Ты… не поможешь мне?
– Я и так уже помог тебе, брателло.
– А Мокша? Может, он…
– Нет. И надо решить, что делать с сопляком.
– Он будет молчать…
– Иди, копай.
– Просто не трогай его. И Мокша пусть не трогает.
– Никто его не тронет. Не волнуйся. Никто его не тронет, кроме тебя.
– Что… ты имеешь в виду?
– Ты должен решить и эту проблему. Вот что.
– Нет никакой проблемы…
– Она есть, брателло. Если малолетка откроет пасть – ее будет не захлопнуть. А он откроет. Стопудово.
– Не факт.
– Хочешь испытать судьбу?
– Я поговорю с ним. Он привязан ко мне…
– Сучка тоже тобой восхищалась. И что мы имеем в сухом остатке?
– Это не одно и то же. Это – совсем другое. Совсем.
– Ну да, ну да. Сколько ему?
– Я не знаю точно. Может, семь. Или около того.
– Хреново. Я в семь лет соображал не хуже, чем сейчас. Два и два складывал без посторонней помощи. И он все сложил наверняка. Благодари Мокшу, что вовремя его заметил. И вовремя ухватил за шкирбот. Иначе бы нас… Тебя… ждали бы крупные неприятности.
– А сейчас?
– Сейчас есть возможность их избежать. Если ты, конечно, решишь проблему, брателло.
– И как ты предлагаешь ее… решить?
– Ты знаешь ответ.
– Понятия не имею, о чем ты.
– Два и два, Шух. Сложи два и два.
– Что-то не складывается, Акела.
– Лады. Я сегодня добрый и потому даю подсказку: чтобы пасть не распахнулась в самый неподходящий момент, ее надо закрыть. Навсегда. Теперь ясно?
– Га-ад! Га-ааад!
– Стукнись башкой о камень…
– Не полегчает от этого! Не полегчает. И ты не заставишь меня…
– Я? Да я даже париться не буду. Сейчас свистну Мокше, и он отпустит сопляка. И конец твоему кино. Ни в одном фильме больше не снимешься, даже на сраный эпизод не возьмут. Так мне свистеть?
– Погоди. Я поговорю с мальчишкой. Мы с ним неплохо ладим. Он послушает меня.
– А, да. Кем вы там друг другу приходитесь в вашей дебильной киношке?
– Братьями. Он – мой младший брат.
– Он – не твой младший брат. И он тебе ничего не должен. А ты – ему. Но он оказался в ненужное время в неправильном месте. Это надо исправить.
– Не таким способом, как ты предлагаешь.
– Знаешь способ лучше?
– Я поговорю с ним. Может, он и не видел ничего.
– Примерно это он и скажет тебе: я ничего не видел. Я бы так и поступил на его месте. А потом ждал бы, когда добренький Шух меня отпустит. Шух ведь лучший парень на свете. Одна беда, он – убийца.
– Заткнись!
– Боишься, что сопляк услышит?
– Я… я не убивал.
– Несчастный случай, а-ха-ха-ха! Плавали, знаем. Сам себе этим мозги канифоль. Мне – не надо.
– Я не сделаю того, что ты предлагаешь.
– Мне свистеть?
– Подожди. Должен быть другой выход.
– Нет другого выхода. Либо ты отпускаешь сопляка, либо решаешь проблему.
– Должен быть другой выход.
– Прикинь, как расстроятся твои родаки, когда узнают, что произошло. Знаменитость всесоюзного масштаба – и такая запендя. А остальные тебя на куски порвут. И больше ни одного фильма. Ни одного, брателло Шух.
– Я… не могу этого сделать.
– Да брось ты. С сучкой ведь прокатило. Как по маслу. Э-э… Ты чего? Никак блевануть задумал? Не знал, что ты такой слабак.
– Все в порядке. В порядке. А если… Если Мокша…
– Предлагаешь Мокше вынести за тобой твое же говнище? Так не пойдет, брателло. Тут каждый за себя. И за тебя немного, конечно. При условии, что косяки ты исправляешь сам.
– Я не смогу. Потому что это уже не несчастный случай.
– Самый что ни на есть. Не ссы, Шух. Пара неприятных минут – и все будет, как раньше. Хочешь, чтобы все было, как раньше?
– Как раньше уже не будет, так? Ты сам говорил…
– Будет по-другому. Но всяко лучше, чем сейчас.
– Он маленький. Слабый. Я не могу.
– Тебе решать, Шух.
– Нет. Не могу.
* * *
– Тебе не сделали больно, малыш?
– Нет.
– Я же вижу. Вон и царапина на шее.
– У тебя тоже царапина на шее.
– Что? Вот черт!.. Че-еерт. Ну, ничего страшного. Мы же братья, да? Так что если у одного что-то прибавилось, то и у другого прибавляется тоже. Я прав, Генка?
– Да. Только я не Генка. Я Сережа.
– Прости-прости. Генка ты на съемках. Вот я и забыл. Тупо вжился в образ. Кино ведь такая штука. Все на свете забываешь. Я прав?
– Да.
– Ничего нет лучше, чем кино.
– Да.
– И сам уже не знаешь, где настоящее, а где придуманное. Стоишь – и глазам своим не веришь. У тебя так бывает, Генк… Сережа?
– Да.
– Вот и у меня. Постоянно. А еще я люблю репетировать всякие сцены с друзьями. Даже когда Анатолия Михалыча нет рядом… Так, для себя, чтобы быть в форме. Михалыч – хороший мужик и режиссер классный. Согласен?
– Да.
– Не больно ты разговорчивый.
– И на лбу тоже царапина. У тебя.
– Хм… Будем считать, что это – производственная травма. Знаешь, что такое производственная травма?
– Да.
– Надо же!
– У папы была такая. Произ… Производственная. Ему паром руку обожгло. Сильно.
– Но теперь-то все в порядке?
– Да.
– А царапина заживет. По сравнению с рукой все это – пустяки. Как думаешь?
– Да.
– Гримом замажут – всего делов. Будем с тобой и дальше сниматься.
– Сегодня за мной папа приезжает.
– А… Точно. С тобой уже все отсняли. А мы ни разу и не поговорили толком. Даром что братья. Но еще поговорим ведь? А? Что молчишь? Ну… Хочешь, я этому Мокше уши оборву? Будет знать, как маленьких обижать.
– Нет.
– А хочешь, подарю тебе свой ремень? Зэканский ремень, мне его из Штатов притаранили. Ни у кого такого нет. Сейчас, погоди… М-мм. Забыл. Забыл его надеть с утра. Но перед отъездом обязательно получишь.
– Не забыл.
– Что?
– Ты его не забыл.
– Ну да черт с ним, с ремнем. Потом с ним разберемся, да?
– Нет.
– Я и говорю, черт с ним. Но если хочешь знать…
– Не хочу.
– Царапины… э-э… ненастоящие. Так надо для фильма. Мы тут кое-что придумывали по ходу дела. Одну сцену. В сценарии ее нет, но Михалычу точно понравится. Так что, если ты здесь что-то увидел… И тебе это показалось странным… Просто помни – это кино. Все понарошку – как царапины. А от настоящих фиг отличишь, правда?
– Да.
– Так-так. Лишнего слова из тебя не вытянуть. Молчун, да? Вообще это хорошее дело – быть молчуном. Молчуны – самые верные друзья. Мне как раз нужен такой. Будешь мне другом? Ну?
– Нет.
– Обиделся? Из-за того громилы? Я же предлагал ему уши надрать.
– Из-за тебя.
– А что со мной не так?
– Я думал, ты хороший. Самый лучший.
– Я и есть хороший. Самый лучший. Твой брат, пусть и в кино. Твой друг. Ты в каком классе учишься?
– Буду во втором.
– А теперь представь. В классе узнают, что я – твой друг. Да тебя все на руках носить будут. Если, конечно, не помрут от черной зависти. Любой бы мечтал оказаться на твоем месте. Скажешь, нет?
– Я думал, ты хороший. Самый лучший.
– Так и есть, Генк… Сережа. Так и есть!
– Нет. Папа говорит – тот, кто врет, не может быть хорошим человеком. И дела с ним иметь нельзя.
– Угу. И когда же я успел тебе соврать?
– Ты соврал про ремень.
– Дался тебе этот хренов ремень! Не соврал я. Просто забыл. Забыл надеть его с утра.
– Соврал.
– Вот проклятье! А больше папа тебе ничего не говорил? Например, что иногда имеет смысл засунуть в жопу свою принципиальность? Целее будешь.
– Нет. Не говорил.
– Ладно, прости. Не по теме на тебя наехал. Что это у тебя в сумке? Можно посмотреть?.. Ого! Альбом.
– Там птицы.
– Красиво. А кто рисовал?
– Я.
– Да ты талантище! Здорово получилось. Прямо с натуры рисовал?
– Не всех.
– Ага. Вот эта – точно у нас не водится.
– Красноголовый манакин. Он живет в Латинской Америке.
– И откуда ты про него узнал?
– Он есть на марках. Мы с папой собираем марки. Марка с манакином была из Эквадора.
– Слушай, у меня тоже где-то завалялись марки. Зэканские, прямиком из Штатов. Машины, мотики и даже пара космических шаттлов найдется. Могу подарить.
– Мы с папой не собираем машины. Только птиц. Папа говорит – никогда нельзя распыляться. С людьми, которые распыляются, дела иметь нельзя.
– Ну, это папа говорит. А сам как думаешь?
– Как папа.
– И космические шаттлы не нравятся? Не впирают? И мотоцикл «Харлей-Дэвидсон»?
– Нет.
– Я понял. Тупоголовый… в смысле – красноголовый манакин рулит. Но рисуешь ты и впрямь здорово. Упс… Так это альбом для меня!
– Нет.
– Погоди, здесь же написано. Мне от Сережи Висько. На память о съемках фильма «Прощайте, каникулы». «Съемки» пишутся через твердый знак, а не через мягкий. И с запятыми у тебя атас. А вообще… Офигеть! Погоди, дай угадаю. Хотел его подарить перед отъездом? Чего молчишь?
– Валя хорошая, да?
– Что?
– Валя хорошая. Она добрая.
– Какая Валя?
– Она мне марку подарила.
– Черт.
– Позови ее, пожалуйста.
– Я не могу ее позвать.
– Почему?
– Я не знаю… где она.
– Она была с тобой.
– Не была она со мной!
– Она была с тобой.
– Ну, хорошо. Она была со мной. Мы репетировали сцену. Я говорил тебе, помнишь? А потом… она ушла. Вернулась в лагерь, наверное.
– Нет.
– Давай вместе туда отправимся, и ты сам убедишься, что твоя Валя уже там.
– Хорошо.
– А пока идем, поговорим о птицах. О красноголовой фигне… Из Латинской Америки. Из Эквадора.
– Манакин. Его зовут манакин.
– Черт, черт… Черт… Как же глупо. Черт…
Часть первая Шахрисабз
AU DESSOUS DU VOLKAN. 3:34
Без даты
Мама, Фабрис и красноголовка
…Их больше нет. И некому стоять в дверном проеме, за которым чернота.
Чем больше я думаю о них, тем больше думаю о дверном проеме. О черноте. В какой-то момент мысль о ней становится основной. А сама чернота – реальной, но не пугающей. Потому что ничего страшного в ней нет: ни на первый взгляд, ни на второй. Такими черными иногда бывают птичьи крылья. Масляная краска, выдавленная из тюбика (она так и называется – «марс черный»). Сажа – жирная и вязкая на ощупь.
Вязкая – вот оно что. Слово найдено.
Основная характеристика черноты за дверным проемом – вязкость. Среда, уж слишком недружелюбная для кого угодно. Ночные демоны и герои детских кошмаров – не исключение. Им совершенно негде развернуться, они связаны по рукам и ногам, стреножены. Так же слепы, как и те, за кем обычно охотятся. Никаких лабиринтов, никаких тоннелей, ведущих к центру Земли (или в ад, если вдруг проскочишь нужный поворот). Насекомых с жесткими крыльями или ползучих гадов тоже не наблюдается; и запахов – они противопоказаны черноте. Чернота не пугает, но и не успокаивает. Просто существует – отдельной галактикой, Магеллановыми Облаками.
Мне нравятся оба – Большое Магелланово и Малое. В них всегда что-то происходит. Как происходит в любом другом скоплении звезд, будь то Головастик, Колесо Телеги или Спящая Красавица[1]. Не то чтобы я так уж близко был знаком с ними, но точно знаю о них больше, чем любой из живущих на Земле. За исключением особой касты небожителей, кто сталкивается со звездами в силу профессии. Астронавты и космонавты, радиоастрономы и астрофизики и те, кто обслуживает телескопы. И прочее оборудование.
Как мой отец.
Всю свою жизнь он проработал на Майданаке – высокогорной обсерватории неподалеку от Шахрисабза. Вернее, всю мою жизнь. Ведь первое, что я помню: старенький автобус «ЛиАЗ», который везет нас с мамой в горы, к отцу. Мама – красивая, в зеленом платье с красными розами, на шее – легкий газовый платок. Мама улыбается, а иногда – застенчиво смеется, прикрывая ладонью рот. Все дело в пассажирах: они мужчины, ученые, очень вежливые, знающие толк в комплиментах. А их шутки вертятся в основном вокруг астрономии.
Я их не понимаю. Мне – лет семь. Или восемь, или около того.
Мама крепко прижимает меня к себе свободной рукой, в окно автобуса светит солнце. Совсем скоро я узнаю, что солнце – это звезда. Самая обычная, каких миллиарды во Вселенной. Тысячу-другую можно найти на фотографиях: они сложены в папках, которые хранятся в ящиках письменного стола. За этим столом я обычно делаю уроки, то и дело отвлекаясь на стук футбольного мяча за окном. Шахрисабзские мальчишки любят погонять в футбол, как и любые другие мальчишки в любом другом городе. В любой другой стране.
Я не люблю футбол. Звезды нравятся мне намного больше. Я разглядываю их часами, перебирая фотографии, прикладывая их одну к другой. Черный глаз к Южной вертушке, Сигару к Серебряной монете, ESO 137–001 к М-82; Большое Магелланово Облако – к Малому. Получаются звездные поля, целые парсеки звездных полей, настоящие прерии. Я гуляю по ним, воображая себя Оцеолой – вождем семинолов и астронавтом Нилом Армстронгом одновременно.
Никаких других снимков в моем распоряжении нет, весь семейный архив погиб. Еще когда начались первые стычки в Оше, где до Шахрисабза жили мои родители. Слава богу, что нам удалось вырваться до начала само́й резни, счастливо избежать худшего. Избежать смерти. Из Оша мы уезжали впопыхах («в чем были – в том и уехали», – всегда говорила мама) и едва не погибли от рук банды преследователей, вооруженных палками и камнями. Где уж тут было сохранить документы? Их восстановили позже благодаря академику Рахимову, отцовскому покровителю. Но о том, чтобы вернуть нам материальные свидетельства нашей прошлой жизни, не может быть и речи. Даже академики с их обширными связями здесь бессильны.
Я не помню Ош.
Ни единого проблеска, ни единой картинки вроде новогодней елки в детском саду, тарелки манной каши на столе или… Что обычно помнят из раннего детства? Я ничего вспомнить не могу, как бы ни старался. Моя жизнь начинается с автобуса «ЛиАЗ», едущего в горы. С красных роз на мамином платье. Впрочем, по прошествии времени мне начинает казаться, что это все-таки были не розы.
Маки.
По прошествии времени я все чаще задумываюсь о том, что судьба обошлась с нашей семьей не очень-то справедливо. Насмерть выбила мелкокалиберкой всех родственников, ближних и дальних, – как жестяные фигурки в тире; разметала по свету немногочисленных друзей. О бабушках и дедушках (умерших еще до моего рождения) мне известно лишь по рассказам родителей. Они, а до этого – прабабушки и прадедушки – всегда жили на Востоке. Поколение за поколением мы рождались и умирали здесь. И лишь иногда позволяли себе мигрировать, но исключительно в рамках региона. Узбекистан, Киргизия, Туркмения – и снова Узбекистан. Бег по кругу, по колее, уже протоптанной до тебя. Когда-то она была широкой, но теперь сузилась до звериной тропы. Я, мама и отец – только мы и есть друг у друга. Да еще сидящий где-то в Ташкенте луноликий академик Рахимов, наш добрый ангел и благодетель. Я видел его лишь однажды, в Майданаке: академик оказался там, когда мы в очередной раз приехали навестить отца.
– Твой? – зычным голосом спросил у него академик, тяжелым раздвоенным подбородком указывая на меня.
– Мой.
– Хороший малый.
– Других не держим.
После этого академик сосредоточился на мне и несколько секунд пристально вглядывался в мое лицо.
– Нравится обсерватория?
– Да.
– А кем хочешь быть?
Больше всего я хочу быть астронавтом Нилом Армстронгом и немного вождем Оцеолой, но не знаю, стоит ли сообщать об этом академику. Подумав немного, я нахожу самый правильный ответ.
– Как папа.
– Стало быть, инженером?
– Да.
– Молодец.
На прощание академик треплет меня по голове и дарит большую тяжелую линзу. Такие же линзы стоят на всех телескопах Майданака. С поправкой на размер, разумеется.
Телескопа из одной линзы не сочинишь, но меньше всего я озабочен строительством телескопа. Линза нравится мне как произведение искусства, да и в прикладном смысле совершенно незаменима. На несколько дней она становится центром моего мальчишеского мироздания. Я ползаю по квартире по-пластунски, изучая трещины в деревянном полу; поджигаю спички, преломляя в линзе солнечный свет. Да и на фотографиях галактик можно разглядеть гораздо больше событий, чем до сих пор. Так я обнаруживаю сгустки черной материи неподалеку от блазара в созвездии Ящерицы. «Блазар» – именно это слово написано прямо на фотографии; отходящая от него стрелка упирается в несколько мутноватых, сливающихся в одну точек. Если это и есть блазар, то выглядит он неважно.
Вооруженный линзой, я отправляюсь на улицу: до сих пор я предпочитал отсиживаться дома, но, видимо, пришла пора расширять кругозор.
Ровно через час я перестаю быть счастливым обладателем линзы: ее отнимает дворовый авторитет Мухамеджан по кличке «Оса». Наверное, стоило бы побороться за свое сокровище, но силы уж слишком неравны. За спиной Осы жужжит целый рой дружков-приятелей, готовых наброситься на меня, стоит только Мухамеджану бровью повести. А в дополнение ко всему я представляю, как расстроится мама, если узнает, что я дрался. Мама не любит надолго выпускать меня из виду и вообще – всячески оберегает и сдувает пылинки.
Я – классический маменькин сынок, да.
– Маменькин сынок, да? – издевательски вопрошает Оса. А затем, приблизившись ко мне почти вплотную, презрительно бросает. – Пс-ссс-ссс. Рус чо́чка[2].
Я не знаю узбекского (что странно для потомка тех, кто всю жизнь прожил на Востоке), но считывать интонации, несмотря на возраст, уже умею. Оса явно хочет унизить меня, публично оскорбить, устроить показательную порку.
– Дай сюда эту хреновину, – командует он.
Оса возвышается надо мной морским утесом, за которым вьется стая подчиненных ему бакланов, альбатросов и суетливых чаек. И мне ничего не остается, как протянуть ему подарок академика Рахимова. Он не слишком впечатляет Осу, более того – тот выглядит раздосадованным. Как если бы ожидал получить сто тысяч миллионов рублей, а вместо этого ему сунули в руку двухкопеечную монету.
– Кутоган кыры! Джаляб!..
Эти слова откуда-то известны мне, хотя в нашей семье их не стали бы употреблять даже под страхом смерти. Грязные ругательства, вот что это такое. Я слишком мал, чтобы самому оценивать их, они воспринимаются набором звуков, легким сотрясанием воздуха. Именно – легким, потому что Оса произносит свой «джаляб» почти нежно.
Едва ли не по-дружески.
То, что происходит потом, будет происходить со мной и впоследствии. Не слишком часто, но все же… Моя душа странным образом отделяется от тела, становясь сторонним наблюдателем. Она (Второй Я) взирает на происходящее с холодной отстраненностью путешественника во времени. Я знаю, что произойдет в следующий момент. Оса ударит меня прямиком в живот, в солнечное сплетение. А потом, когда я упаду, больно саданет ногой в пыльной сандалии по скуле. «Больно» здесь – такое же ничего не значащее для меня слово, как и «джаляб». Потому что я и боли не почувствую. Никакой.
У Второго Я есть еще одно преимущество перед всеми остальными (во главе с «первым Мной») – он умеет растягивать время. Не до бесконечности, разумеется, но отпущенных секунд хватает на то, чтобы внимательно рассмотреть застывшего с нелепо приоткрытым ртом Осу, двух братьев – Орзумурода и Улугмурода, толстяка немца Вернера и маленького верткого Домулло с бородавкой на щеке: именно он похож на суетливую чайку.
Дворовая банда не вызывает у меня страха, напротив, я испытываю к ней что-то вроде жалости. Особенно – к Домулло. Бледная бородавка, занимающая лишь крохотный участок на его смуглой физиономии, вдруг начинает разрастаться, подниматься вверх, как тесто; спустя мгновение все лицо Домулло оказывается погребенным под бесформенной массой. Нет больше ни рта, ни носа, ни глаз. Даже непокорный хохолок волос на макушке – и тот скрылся.
Ты умрешь, Домулло.
Так думает Второй Я. А первый просто произносит это вслух:
– Ты умрешь.
Коммуникации между первым и вторым «я» еще до конца не отлажены, оттого и имя остается непроговоренным. Все выглядит так, что сказанное обращено к Осе.
– Ты умрешь.
Это не угроза. Да и невозможно представить, чтобы малолетка, шкет, маменькин сынок угрожал королю двора. Это не угроза и не дерзость, на которую решаются в приступе отчаяния. Просто констатация факта, медицинский приговор. Или вердикт высшего суда.
– Чего? – Оса распяливает рот в глупой усмешке. – Чего?
– Ты умрешь.
Только теперь он бьет меня. Ногой в солнечное сплетение. Боли я не чувствую, мне просто не хватает воздуха, вот и все. На всякий случай я падаю наземь и подгибаю колени к животу: все происходит ровно так, как привиделось мне несколько секунд (или минут) назад. Остается пережить лишь пыльные сандалии на скуле: удар, еще один, передо мной мелькают грязные пальцы, усаженные черными жесткими волосками. Рот наполняется жидкостью, солоноватой на вкус. Очевидно, она вытекает из носа и просачивается в первую подвернувшуюся щель.
Кровь.
Даже не пытаясь увернуться от ударов, я меланхолично думаю о своей футболке.
Мама наверняка расстроится, увидев, как я ее изгваздал.
Мама появляется во дворе спустя каких-нибудь три минуты. Она кричит так истошно, с таким отчаянием, как будто меня уже убили. Или я умер – вместо Домулло. Парни бросаются врассыпную, секунда – и возле меня никого нет.
Я все еще думаю о футболке, когда мамины руки отрывают меня от земли. Крепко обнимают – так крепко, как будто мама хочет прирасти ко мне навсегда.
– Больно? Тебе больно, мой родной? – шепчет мама.
– Все в порядке. Мне не больно. Нет. – В подтверждение своих слов я начинаю быстро-быстро трясти головой.
– Мое солнышко, мой малыш…
Я прячу голову у мамы под подбородком: лучшего навеса, чтобы укрыться от всех на свете ливней, селей и камнепадов, и придумать нельзя. Кажется, у мамы – тысяча рук и тысяча губ. И все они навсегда отданы мне в собственность. Наша с мамой любовь – абсолютна, мы принадлежим только друг другу и еще – папе, хотя здесь и сейчас его с нами нет. Мне не хочется вылезать из-под навеса, но мама почти силой заставляет меня сделать это. Она внимательно осматривает и ощупывает меня.
– Здесь больно? – Ее пальцы пробегают по моей скуле.
– Нет.
– А здесь? – Теперь они касаются кончиков губ.
– Нет.
– Я видела, кто это сделал. – Мама вытирает кровь у меня под носом белоснежным накрахмаленным платком. – И я их… убью.
Мне щекотно, а еще – жесткие края платка царапают кожу.
– Не надо, мамочка. Пожалуйста. Они сами.
– Что – сами?
– Сами умрут.
В маминых глазах проносится что-то, отдаленно напоминающее панику. Обычно небесно-голубые, они темнеют и становятся почти черными. Так я впервые сталкиваюсь с чернотой, еще не понимая, какое место ей уготовано в моей жизни. Впрочем, в тот раз она быстро отступает, и вот – мамины глаза снова голубые; разве что – чуть более темные, чем обычно.
– Мы ведь не скажем папе? – осторожно спрашиваю я. – А то он тоже расстроится. Хуже тебя.
– Ну, не знаю. – Мамин голос полон нерешительности. – Он бы мог поговорить с этими малолетними бандитами. С их родителями. Это произвело бы должное впечатление. Я так думаю. А ты?
– Нет.
– Хорошо, милый. Пусть будет так, как ты хочешь.
В нашей семье все всегда устраивается именно так, как я хочу. Я никогда не злоупотребляю этим и потому не знаю границ, за которые готовы (или, наоборот, не готовы) шагнуть родители. Что, если бы я сказал маме «Убей их»?
Вдруг она и правда бы их убила – и Осу, и двух братьев, и толстяка немца, и суетливую бородавчатую чайку? Нет-нет, небесно-голубая мама на это не способна. А вот та, в глазах которой на секунду поселилась чернота…
Думать о черноте не хочется, и поэтому я переключаюсь на мысли о безвозвратно утраченной линзе. Прежде чем подарок академика Рахимова перекочевал к Осе, я успел исследовать небольшую часть двора: ту, где растут кусты татарской жимолости и два тутовых дерева. Сам тутовник интересует меня мало, но под его гладкой, отслаивающейся корой полно насекомых. Захваченные в плен увеличительным стеклом, они предстают передо мной едва ли не монстрами – отталкивающими и прекрасными одновременно. Разглядеть их в подробностях не всегда удается: слишком уж быстро они передвигаются. Устав наблюдать за жуками, муравьями и тлей, я переношу наблюдательный пункт к кустам жимолости. И тут, под одним из выбившихся из земли корешков, вижу ее – маленькую, размером с воробья, птицу. Птица и похожа на воробья, с той лишь разницей, что голова ее покрыта тускло-красными перьями, которые напоминают шапочку. Есть и еще некоторые отличия: она намного темнее, чем воробей, и у нее – желтые лапки.
Птица мертва.
Этот факт удручает меня несказанно. Я не могу вспомнить, когда плакал последний раз. Наверное, никогда: просто не было повода, чтобы пустить слезу. Теперь повод появился, и все мои силы уходят на то, чтобы не зарыдать. Симпатия к птице возникла мгновенно, сердце мое неистово колотится, а в горле застрял комок. Я скорблю о красноголовке так, как скорбел бы о смерти близкого друга – Оцеолы или Нила Армстронга. Минут десять я сижу неподвижно, держа на раскрытой ладони свое мертвое сокровище. Наверное, птицу надо похоронить со всеми почестями, подобающими вождям племени и астронавтам. И в тот момент, когда я решаю – какими именно должны быть эти почести, меня и настигает осиная банда. Я чувствую ее приближение спиной и еще успеваю поцеловать легкие перья и спрятать тельце под листками.
Дождись меня, красноголовочка, я обязательно вернусь!..
И я возвращаюсь. Но не сразу после случившегося во дворе, и даже не вечером – утром. Вечер мы проводим с мамой за игрой в домино (в ней выигрывает она) и в карты (здесь победителем оказываюсь я). Говорим по телефону с папой: «У нас все хорошо, папочка, ждем тебя на выходные, передавай привет всем-всем звездам». Затем, перед сном, читаем друг другу «Калле Блюмквиста – сыщика». Все выглядит как обычно, вот только мама не уходит к себе. Она остается в моей комнате: на всякий случай, вдруг мне приснится кошмар после всего пережитого?
Такого еще не было.
Такого еще не было, но может случиться, детские кошмары – вещь непредсказуемая, – как-то сказала она папе.
– Детские воспоминания – тоже, – ответил папа. И почему-то понизил голос.
Хотя на кухне, где происходил разговор, они находились вдвоем. Я стоял за полуприкрытой дверью, в коридоре, с колодой карт в руках: только что разученному фокусу с отгадыванием задуманной про себя карты просто необходимы зрители.
Нечаянно подслушанное быстро выветрилось из моей головы, но демонстрацию фокуса я провалил. Хотя мама и отец что было сил подыгрывали мне. И раз за разом загадывали одну и ту же карту – даму крестей.
Я помню эту карту до сих пор.
И мамины руки, обнимающие меня той ночью. И мамины губы – они легонько раздувают волосы у меня на затылке, а потом и вовсе зарываются в них.
– Я очень люблю тебя, милый. Очень-очень.
– И я люблю тебя, мамочка.
– Обещай мне, что будешь осторожен. Ты ведь разумный мальчик, правда?
– Да.
– Те дрянные мальчишки во дворе… Лучше держаться от них подальше. Конечно, мы поговорим с их родителями…
– Ты обещала! Все будет так, как я захочу, – ты мне обещала.
– Хорошо-хорошо. Но тогда и ты…
– Я буду осторожным, мамочка.
– Даже не приближайся к этим хулиганам.
– И не подумаю.
– Мы с папой ведь не всегда сможем быть рядом с тобой…
– Я хочу, чтобы вы всегда были рядом.
– Правда? – Мама целует меня в макушку, а потом в висок. И спустя секунду я чувствую, как он увлажняется. – Ты мое солнышко!
Мамины слезы заставляют меня вспомнить о своих собственных – непролитых. И о птице, которая осталась лежать под листками жимолости. Я готов отправиться к ней прямо сейчас, но сделать это невозможно: слишком крепко обнимает меня мама.
Опутывает собой.
Это похоже на паутину и якорную цепь одновременно; лучшая иллюстрация только что провозглашенного – «Быть рядом. Всегда». Интересно, смогла бы мама удержать в руках «второго меня»? Того самого путешественника во времени, который заранее все знал? Прежде чем заснуть, я еще некоторое время думаю о своем полете над двором и о том, как ловко у меня получилось – раздвоиться. То, что происходило со мной наверху, несомненно, намного интереснее того, что случилось внизу. Ведь там, наверху, тоже был я?
Или кто-то другой?
Если кто-то другой – почему он появился только сейчас? И где был до сих пор? В любом случае я мечтаю повторить полет. Снова стать путешественником во времени. Увидеть в подробностях еще что-нибудь важное. Или просто заслуживающее внимания. Но для этого… Первый Я и Второй Я должны подружиться.
– Выходи! – шепчу я себе самому. – Давай, выходи!
В комнате ровным счетом ничего не меняется. Лишь мамины пальцы касаются моей щеки:
– Что, солнышко?
Мама не спит.
Мама никогда не спит. Плетет паутину, удлиняет якорную цепь – звено за звеном: никто не разлучит нас, солнышко. Никто и никогда.
Именно эти слова шепчет мама, когда думает, будто я крепко сплю.
Ей и в голову не приходит, что я тоже могу не спать.
Время от времени.
В такие минуты я слышу ее шепот, но не вижу лица. И мне почему-то вдруг начинает казаться, что глаза у нее не голубые, – небеса покинули их. И теперь они до краев наполнены чернотой. Наверное, это тоже красиво. Может быть. Маки ничуть не хуже роз. И наоборот. И лишь зеленый фон величина постоянная. Как и мамина любовь ко мне.
Паутина. Якорная цепь.
…Утром я сам вызываюсь сходить за хлебом: более невинного способа вырваться за стены квартиры просто нет. Мама отпускает меня с неохотой – она считает двор источником повышенной опасности, где совершенно нечего делать ее сыну. Но и запретить мне спускаться туда, где бездумно носятся чайки и бакланы, она не в состоянии. Просто потому, что мне никогда ничего не запрещали. Справедливости ради я не злоупотреблял великодушием родителей, не злоупотребляю и сейчас. Все, что мне нужно, – немного времени, чтобы похоронить красноголовую птицу.
– Возьмешь патыр, – напутствует мама, засовывая деньги в карман моих шортов. – И, если будет катлама[3], – тоже возьми.
Оказавшись во дворе, возле островка с татарской жимолостью, я тотчас забываю и о патыре, и о катламе. Вот те самые, немного пожухлые листки, под которыми я вчера спрятал птичье тельце. Но красноголовки под ними нет! Меня охватывает отчаяние, потом его сменяет досада, а затем – злость на себя. Я не должен был оставлять птицу одну – пусть и мертвую. Скорее всего ее утащили коты. А может, муравьи. Или Домулло – вдруг ему посоветовали прикладывать к бородавке птичьи перья, чтобы она побыстрее прошла? Я почти ненавижу Домулло – наверное, это правильно, что он должен умереть. Я ненавижу Домулло, но очень скоро проходит и ненависть: стоит только коснуться щекой мягкой земли. Я и сам не понял, как оказался лежащим на ней.
Странно, что я не делал этого раньше.
И это… Это ничуть не хуже, чем мой вчерашний полет, ничуть! Время так же замедляется, – на этот раз подчиняясь биению сердца. Обычно я не замечаю того, что происходит у меня в груди. Но стоит ненадолго прислушаться, приложив руку и закрыв глаза, – и на первый план выходит настойчивые звуки:
тук-тук – тук-тук
так-так – так-так.
Неумолчные колесики, труженики-молоточки.
Они стучат и сейчас, вот только все реже и реже. С каждой секундой. Все медленнее. Т-ууууук. Т-уууууууук. Т-ууууууууууууук.
Та-ааааааааааааааааааааак.
Что, если сердце остановится совсем?
Эта перспектива нисколько не пугает меня, хотя я и не могу взлететь, – так же, как вчера. Наоборот, все больше вжимаюсь в землю и… на какой-то момент сам становлюсь землей. Всем тем, что скрыто в земле: мертвыми листьями, сухими мертвыми корнями, мертвыми насекомыми.
Мне нравится здесь.
Мне хотелось бы здесь остаться. Больше, чем там, наверху, где сияют звезды из каталога журнала наблюдений Майданакской высокогорной обсерватории. Где парят путешественники во времени. И мамины руки… даже они не сравнятся с объятиями земли.
Так-так, – ударяет сердце в последний раз.
Окруженный мертвыми листьями, насекомыми и корешками, я чувствую себя счастливым. Конечно, если бы прямо сейчас нашлась красноголовая птичка, я был бы счастлив абсолютно.
Но и так тоже сойдет.
* * *
…Домулло умирает через три месяца, от меланомы – болезни, о которой мало кто слышал в Шахрисабзе. До последнего момента ничем себя не проявлявшая, меланома прогрессирует так быстро, что Домулло едва успевают отвезти в Ташкент, на консультацию. Сразу после консультации его кладут в стационар, откуда маленькой суетливой чайке больше не суждено будет выпорхнуть.
Смерть Домулло – первая человеческая смерть на моей памяти – оставляет меня совершенно равнодушным. Самый маленький из дворовой компании мальчишка все равно был старше меня: ему уже исполнилось одиннадцать – против моих девяти. Мы ни разу не пересекались, мы даже не здоровались толком; тем более я все знал заранее – что уж тут переживать. Совсем другое дело – мама: известие о меланоме вызывает в ней всплеск невиданной ранее медицинской активности. Целых полтора месяца после похорон Домулло мы ходим по врачам: на предмет ранней диагностики самых разных заболеваний. Иногда сдаем одни и те же анализы дважды. Все потому, что мама должна убедиться: ее сыну ничего не угрожает. Мы даже совершаем паломничество в Ташкент (по следам Домулло) и в Самарканд (там живет один из лучших в Узбекистане кардиологов).
Мама подозревает наличие у меня астмы и ревмокардита, но, как и следовало ожидать, я оказываюсь абсолютно, восхитительно здоров. Наверное, именно об этом врачи беседуют с мамой, когда я жду ее в коридоре. И в конце разговора кто-нибудь из них обязательно добавит, что я – красавчик из красавчиков. Все так и есть, я – гузал, жуда чиройли, жуда екимтой бола, табиат муьжизаси[4]. Не только врачи – все кому не лень отмечают это.
Я похож на ангела – и это мое единственное отличие от всех остальных. В свои девять я не совсем понимаю, что значит походить на ангела. И пока не испытываю никаких неудобств, разве что – легкое смущение, когда кто-то рассматривает меня слишком пристально. Толком и не разобрать, в кого я уродился, такой жуда чиройли: мама с отцом, хоть и симпатичные, приятные люди, но – самые обыкновенные, им вслед никто и не обернется. Мама утверждает, что я – вылитый дед, ее отец; жаль, что ни одной фотографии деда не сохранилось.
Моя ангельская красота спасает нашу семью в смутное время тотальной, вспыхнувшей на ровном месте, ненависти к инородцам и иноверцам. Немногочисленные русские спешно покидают Шахрисабз, как чуть раньше это сделали немногочисленные немцы и евреи. Дворовая команда несет еще одну потерю: к умершему Домулло прибавляется толстяк немец Вернер. Семья Вернера уезжает в далекий, как галактика ESO 137–001, Франкфурт-на-Майне. Стоя у окна, я вижу, как они садятся в грузовое такси: родители, сестра и младший брат. Все ждут только толстяка, который прощается с Осой. Оса проникновенно обнимает Вернера за шею, пару минут трясет его пухлую руку, после чего неожиданно поддает отъезжающему под дых. Ровно так же, как двинул когда-то меня. А потом, даже не глядя на согнувшегося пополам немца, резко поворачивается и выбегает со двора.
Бегает Оса очень быстро, никому его не догнать.
Но никто и не собирается. Вернера спешно заталкивают в такси – так всем не терпится покинуть наконец адов Шахрисабз и добраться до благословенного Франкфурта. Возможно, Оса тоже мечтает о Франкфурте, но везет в этот раз не ему. И никогда не повезет.
Через пару дней мы с Осой встречаемся во дворе: у тутовника и татарской жимолости, где я на несколько минут успел стать землей. Оса же остается самим собой – королем двора. Он стоит, облокотившись на шелковичный ствол и сунув руки в карманы.
– Эй! – негромко зовет меня Оса, когда я прохожу мимо, груженный патыром и катламой. – Поди сюда, шкет.
Памятуя о предыдущей встрече, я заранее жалею лепешки, которые обязательно вывалятся в случае драки. Отряхивай потом их от пыли!.. Но никакого особенного страха перед Осой нет. Наоборот, мне даже немного жаль его; немного смешно оттого, что он такой ахмок[5]. Зачем-то отправил Орзумурода и Улугмурода к моему подъезду, чтобы те отрезали возможные пути отступления. Теперь оба брата, с совершенно одинаковой, виляющей походкой, движутся в мою сторону.
– Глухой, что ли? – снова подает голос Оса. – Сказал же, подойди сюда.
– Зачем?
– Разговор есть.
Разговора нет, во всяком случае, в первые пять минут: Оса слабо фокусируется на мне, то и дело смотрит по сторонам, а потом вытаскивает перочинный нож и принимается вычищать грязь из-под ногтей. Еще и искирт бола[6], надо же!
– Боишься меня? – смачно сплюнув на землю, спрашивает грязнуля.
– Нет.
– Домулло-то помер.
– Ага.
– Ты что тогда сказал?
– Что он умрет, – спокойно отвечаю я.
– Вот и врешь ты! Брешешь, как собака. У-у, джаляб!..
Это похоже на вспышку ярости, но Оса вовсе не в ярости. Он боится. Как должен был бояться я, но на поверку выходит, что королю двора гораздо страшнее, чем мне.
– Нет. Не вру.
– Отчего тогда сказал, – тут Оса понижает голос до шепота, – что помру я?
– Ты сам так услышал. Я разве виноват?
– Значит, все в порядке будет?
– Наверное. – Я пожимаю плечами. – Я пойду?
– А ты чего борзый такой, майда?[7] – Оса наконец оставляет в покое ногти и принимается чесать подбородок кончиком лезвия.
– Я пойду?
– Куда?
– Домой.
– А хочешь с нами?
Предложение Осы не слишком-то нравится мне: зачем я им понадобился? И снова мои мысли возвращаются к лепешкам: нехорошо, если они окажутся в пыли. Это – единственное, что беспокоит меня. А Оса не беспокоит вовсе.
– Не ссы, майда. – Король двора считывает мои душевные колебания по-своему. – И забудь про прошлый раз. Глупо получилось.
– Нормально получилось.
– Никто тебя теперь не тронет. А будешь меня держаться – не тронут вообще. Пойдем, а? Чего покажу!.. Не пожалеешь.
То, что происходит впоследствии между мной и Осой с его прихвостнями, никакая не дружба. Впрочем, к дружбе никто изначально и не стремился. Мною движет любопытство и желание еще раз испытать радость полета. Снова стать путешественником во времени. Так или иначе связанный с Осой, полет однажды случился – так почему бы ему не повториться вновь? Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Но ничего не происходит. Иногда мы часами слоняемся по городу, на первый взгляд – совершенно бесцельно. И в то же время меня не покидает ощущение, что маршрут хорошо продуман и спланирован заранее. Правда, Оса внес в него коррективы – специально для меня: каждые два часа я должен звонить на работу маме и сообщать, что у меня все хорошо. Чем я занимаюсь? Читаю, смотрю телевизор – в общем, с пользой провожу каникулы. И конечно, жду тебя, мамочка.
Мама могла бы звонить и сама, но оба мы пришли к выводу, что лучше это делать мне: так вырабатывается ответственность, которая, несомненно, пригодится в жизни.
В нужный момент рядом обязательно оказывается телефон-автомат, из которого я совершаю звонок, чтобы в очередной раз соврать о чтении и просмотре телевизионных программ. Иногда я разбавляю вранье про книги враньем про папины фотогалактики, разложенные на полу в большой комнате. Это называется – изучать каталоги; занятие, которое я с недавних пор забросил.
Галактики не очень-то вдохновляют маму.
– Не улетай далеко, солнышко, – говорит она прежде, чем повесить трубку.
Я и не улетаю, я – хороший сын, который дал маме слово, что никогда ее не оставит. Но «никогда» можно немного отодвинуть (пока мама на работе) или вообще перенести в будущее. А в настоящем Оса молча выдает мне мелочь на телефон-автомат. И – ни одной кривой улыбки в сторону маменькиного сынка. Почему он так возится со мной – загадка. Но что-то подсказывает мне: разгадать ее можно будет в конце маршрута, до которого мы никак не доберемся.
Просто потому, что никуда не спешим.
Иногда, вместо того чтобы шляться по улицам, мы отправляемся в подвал (у Осы есть ключи от подвала) и болтаем, сидя на старых, полуистлевших коврах. Вернее, в основном болтает Оса, нам же с братьями-неразлучниками остается только слушать его.
Оса мечтает перебраться из Шахрисабза в латиноамериканскую страну Колумбию и заделаться наркобароном. Подойдут и Италия с Америкой (там тоже припеваючи живут наркобароны), но все равно нужны деньги. Много денег.
– Много – это сколько? – спрашивает практичный Улугмурод.
– Почем я знаю. Тысяч пять. Или десять.
– Рублей? – уточняет Орзумурод.
– Дурак, да? – Оса смеется. – Кому нужны рубли в Америке? Долларов.
– Доллары в Самарканде можно достать. Или в Ташкенте, у иностранцев. – Это снова Улугмурод, он проявляет завидную осведомленность.
– Так много не достанешь. – Теперь уже осведомленность проявляет сам Оса.
– И что делать?
– Сидеть на жопе ровно!
Произнеся это, мой новый покровитель смеется. А затем переключается на меня:
– А ты что скажешь?
– Не хочу я в Америку. Мне и здесь хорошо.
– Скоро будет плохо. Всем людям будет плохо, все с ума сойдут. Так биби[8] говорит. А еще она говорит, что ты – ангел.
Я не знаю, как реагировать на эти слова. В отличие от Улугмурода и Орзумурода – они бьют друг друга по плечам и толкают в бока. И хихикают. Наверное, мне тоже следовало бы улыбнуться, но я просто смотрю на Осу. А Оса смотрит на меня. Черты его лица то и дело теряются за клубами легкого дыма: все находящиеся в подвале курят анашу.
Кроме меня.
– Ну, чего? Дунешь, майда?
– Пусть сначала у мамочки разрешения попросит.
Так подначивают меня Орзумурод и Улугмурод – каждый по-своему и хихикая все громче: анаша веселит их. А Осу делает чрезмерно сентиментальным, отсюда и разговоры о биби и ангелах. Отсюда разговоры о деньгах и о счастливой наркобаронской жизни в Колумбии, тебе бы там понравилось, майда. Странно, что он все время обращается ко мне, представляя наш побег из Шахрисабза как дело решенное. При этом в рассказах Осы о счастливой заграничной жизни фигурируем только мы, братья остаются здесь, в Шахрисабзе, на пыльных подвальных коврах. Орзумурода и Улугмурода это не обижает; или они слышат совсем другие истории, заключенные в спичечном коробке с анашой.
– Что знаешь ты и не знаю я? – иногда спрашивает у меня Оса.
Рассказывать ему о галактиках – бесполезно. О полете и путешествиях во времени – не хочется, это только моя тайна. И потому я вежливо пожимаю плечами.
– Может, точно знаешь, когда я помру? Как Домулло?
Я пожимаю плечами еще вежливее. И вообще – веду себя с достоинством, мама бы гордилась таким сыном.
– А если я знаю что-то такое, чего не знаешь ты? – Оса все никак не может успокоиться. – Про тебя. Этого еще не случилось, но уже случилось. Думаешь, так не бывает?
– Бывает.
Оса подползает ко мне и крепко ухватывает пальцами за подбородок.
– Умный, да? Сам-то не боишься умереть?
Еще никто не разговаривал со мной о смерти, не сталкивал лбами меня и ее. Все мамины истории о родителях и остальных родственниках выглядят так, как будто они просто ушли. Оставили нас, осторожно прикрыв дверь за собой. Отстали от поезда, на котором мы едем куда-то. Но (какие же они все-таки чудесные люди!) дали телеграмму со станции: «С нами все хорошо! Доберемся следующим составом и будем на месте раньше вас. Не волнуйтесь!»
Вот никто и не волнуется.