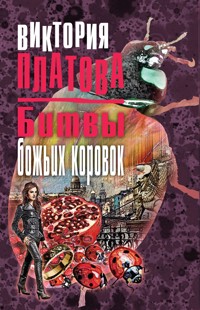Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Krimi
- Serie: Завораживающие детективы Виктории Платовой
- Sprache: Russisch
Увидев ее первый раз, юный скаут Пашка онемел от восторга… Красавица-яхта с экзотическим названием "Такарабунэ" стояла в заброшенном эллинге. Мертвый человек сидел у подножия мачты и смотрел на Пашку широко открытыми глазами. Немой крик застрял в Пашкином горле… Это был Нео из его любимого фильма. Единственное, что отличало киношного Нео от настоящего - дырка во лбу. Пока Пашка ждал милицию, он кое-что позаимствовал у покойника. Он понимал, что эта вещь - улика, но был не в силах расстаться с нею... Пашка смог все рассказать только Лене Шалимовой, человеку, который перевернул его детский неустроенный мир. Поделился самым сокровенным, не зная, что Лена была знакома с убитым. А тот оказался никем иным, как знаменитостью мирового масштаба, солистом балетной труппы "Лиллаби" Романом Валевским…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Виктория Платова Победный ветер, ясный день
© Виктория Платова, текст, 2017
© О формление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Все события, происходящие в романе, вымышлены, любое сходство с реально существующими людьми – случайно.
Часть первая Сирокко
…Ну конечно же, он назывался совсем по-другому, этот ветер.
Он назывался совсем по-другому, и в нем не было никакого намека на брюхатое пряностями североафриканское побережье. И никаких запоздалых зимних воспоминаний о несвоевременно-летнем Монтенегро (в славянском забытьи все еще именуемом Черногорией).
Но на север Африки, вкупе с приснопамятным Монтенегро, Паше и Виташе было ровным счетом наплевать. Все эти географические несуразности не шли ни в какое сравнение с Мартышкином, в котором Паша и Виташа прожили всю свою сознательную жизнь. Невыносимо долгую, о-о, еще как невыносимо! Одиннадцать лет – это вам не шуточки. Одиннадцать лет – солидный возраст для мужчины. Особенно для мужчины, ушибленного давно умершим английским генералом Робертом Баден-Пауэллом, для краткости именуемым Би-Пи. К колониальным берегам Би-Пи Паша и Виташа прибились случайно, а всему виной оказалась книжонка, найденная на Пашином чердаке, с полуистлевшими ятями и замызганной временем обложкой: «О разведке для мальчиков».
Именно из нее Паша и Виташа почерпнули сведения о бойскаутах. И загорелись желанием пополнить редкие, как зубы героев-полярников, скаутские ряды. В жертву этому (довольно эксцентричному для посконного Мартышкина) желанию были принесены курение, ругань матом и факультатив по анатомии при женском отделении бани. А также мытье иномарок на соседней заправке – с твердой таксой тридцать рэ за машину. Но что значили жалкие тридцать рэ по сравнению с рубашками цвета хаки? А уж купить на них «четыре скаутских свойства» и вовсе не представлялось возможным. Храбрость, хитрость, сообразительность и бодрость – Би-Пи, восстань он из могилы, был бы доволен Пашей и Виташей. Или – почти доволен; с храбростью и бодростью у кандидатов в скауты все было нормалек, а вот хитрость и сообразительность слегка подволакивали ногу. Это выяснилось во время первого же рейда по тылам новорусского коттеджного мини-городка, отделенного от Мартышкина нижней дорогой – на Большую Ижору, Лебяжье и режимный Сосновый Бор. Из процветающей «частной собственности» Паша и Виташа вылетели с треском, вернее, были выведены за ухо угрюмым охранником. К манипуляциям с собственными ушами Пашка отнесся философски, чего нельзя было сказать о приунывшем Виташе: Виташу (в довесок ко всем неприятностям) цапнул за задницу ротвейлер охранника – такой же угрюмый, как и его хозяин.
Задница давала о себе знать еще добрых три часа – и все эти три часа Виташа потратил на гнусные сомнения в истинности скаутских идей. И не преминул напомнить приятелю о позавчерашнем провале расовой теории Би-Пи, заключавшейся в двух незамысловатых тезисах: «нет христиан второго сорта» и «все люди – братья». Вооружившись этими тезисами, Паша и Виташа сунулись было к Ашоту, сыну не так давно осевшего в Мартышкине ювелира-армянина из Нагорного Карабаха. Но были неправильно поняты. Настолько неправильно, что едва унесли ноги от старших братьев Ашота – Севана и Тиграна. Кто мог знать, что у Севана и Тиграна имеются свои собственные тезисы: «валите отсюда по-скорому» и «за черного – ответишь»… В позавчерашней армянской резне Пашка потерял зуб, а Виташа приобрел синяк под глазом. А теперь еще и саднящая от собачьего укуса задница… Положительно, извилистая дорожка, проторенная не одним поколением голоногих бойскаутов, вела в тупик. Самый настоящий тупик, украшенный навозной кучей, и больше ничего поблизости – даже самой завалящей дохлой вороны, а уж о такой удаче, как полуразложившийся еж, и говорить не приходится… Именно это и брякнул Виташа к исходу третьего часа.
И был тотчас же заклеймен как предатель.
Трус и слабак.
Это был явный перебор, но мудрый Пашка знал, что делает: взбрыкнувшая лошадка снова вернулась в стойло Би-Пи. С возмущением отвергнув обвинение в трусости. И – сквозь редкие слезы – согласившись попытать скаутского счастья еще раз.
И счастье привалило. Да еще какое!
Почившие в бозе вороны и ежи с ним и рядом не стояли.
А начинающие и тем не менее храбрые, хитрые, сообразительные и бодрые скауты Паша и Виташа – совершенно неожиданно для себя – обнаружили труп.
Уже потом, когда история с трупом стала достоянием общественности, Пашка пытался вспомнить, кому именно пришла в голову умопомрачительная идея выбрать для полевых изысканий лодочный кооператив «Селена». То ли он сам нашел, что одичавший кооператив безопаснее, чем злостное ИЖС с собаками и собачьими начальниками, то ли Виташу потянуло к большой воде – но факт оставался фактом: фортуна, осененная отеческой улыбкой Би-Пи, выкатила им труп на блюдце.
Нельзя сказать, что путь к этому блюдцу был особенно тернист: кооператив «Селена» охранялся из рук вон. Да и можно ли было считать охраной вусмерть пьяного работягу в сторожке, сломанный шлагбаум при въезде и шелудивого пса при такой же шелудивой строительной технике? Паша и Виташа, сделав псу ручкой, безнаказанно проникли на территорию кооператива и с любопытством принялись изучать окрестности. «Селену» никоим образом нельзя было отнести к шедеврам архитектурной мысли, но юному разведчику здесь было где разгуляться: бетономешалки, сгинувшие в высокой траве, остовы грузовиков и скелеты легковушек, унылые краснокирпичные бараки, дышащие в затылок друг другу… Паша и Виташа насчитали десять таких бараков, и все десять – без всякого намека на человеческое присутствие. Бараки пялились на мир пустыми глазницами окон, поигрывали скулами первых этажей, морщили узенькие лбы третьих – и…
И ничего интересного в них не было.
Оставался последний – одиннадцатый – барак.
Впрочем, под определение «барак» он не подпадал, хотя на первый взгляд ничем не отличался от десяти своих собратьев. Все дело было в начинке. А начинка – даже на взгляд дремучих Паши и Виташи – вплотную приближалась к стандартам проклятого ИЖС: затейливые фонари над входными дверями, затейливые жалюзи на окнах, затейливые спуски к самой воде – дом упирался фасадом в Залив.
И был обжитым. Во всяком случае – бо́льшая его часть.
Скауты-любители поняли это сразу. И воспряли духом.
Некоторое время они наблюдали за окнами, затем переключились на воротца – слишком высокие для гаражных. Вошедший в роль Пашка даже вытащил огрызок бинокля, больше похожий на недоделанную подзорную трубу.
Огрызок оказался кстати: во всяком случае, он резко сократил расстояние до дома.
– А теперь представь, что там засели враги нашей Родины! – От торжественности момента Пашка даже пустил петуха.
С усердием ковырявшийся в носу Виташа саркастически хмыкнул, из чего его оголтелый приятель немедленно сделал вывод, что до скаута Виташе расти и расти.
– И мы должны… – тем не менее продолжил он. И запнулся.
– Должны что?
– Ничего, – огрызнулся Пашка. – Бескрылый ты человек!
Препираться Виташа не стал, а спустя несколько минут смиренно попросил у Пашки драгоценный окуляр.
– А гараж-то не закрыт, – заметил он после двух минут наблюдения.
– Какой гараж?
– Крайний. Ты разве не усек?
Пашка сплюнул от досады: лазейка во вражеское логово была найдена – и найдена не им, а простаком Виташей. Но признать поражение кандидат в разведчики не захотел.
– Еще как усек! Я просто тебя проверял.
– Интересно, какая там машина? – Виташа даже дыхание затаил: полуразложившемуся ежу понятно, что трехмесячное мытье машин оставило в его душе неизгладимый след.
– Да какая разница!..
– Спорим, что джипяра? «Гранд Чероки»?
Еще бы не «Гранд Чероки»! Именно на это немудреное имя откликалась голубая Виташина мечта.
– Фигушки, – поддел любителя внедорожников Пашка. – Никакой не «Гранд Чероки», «фольк» занюханный, вот там что!
«Фольксвагены» Пашка терпеть не мог. На пресловутой заправке его кидали трижды, и трижды неплательщиками оказывались владельцы «Фольксвагенов». Последний, подмигнув лоху Пашке габаритными огнями, умчался как раз в сторону кооператива «Селена».
– Айда проверим, – предложил Виташа.
И Пашка согласился. Глупо было не согласиться, когда щель в гаражных воротах так и предлагала пролезть в нее. Она манила таинственной, глухой чернотой, она набивалась в друзья, она обещала самое настоящее приключение. К приключению вела дорожка, выложенная черными, неправильной формы, плитами. Плит было ровно четырнадцать, не больше и не меньше, и на тринадцатой Пашка дал себе слово – если в гараже окажется ненавистный «фольк», все его четыре ненавистные шины будут проткнуты.
…Но «фолька» в гараже не оказалось. Не оказалось и джипа. Но зато…
Зато в нем оказалась яхта!
Самая настоящая яхта на самом настоящем стапеле! А стапель, снабженный тремя парами крошечных колес, стоял на рельсах; очевидно, рельсы вели прямо к воде. Хорошо заметные здесь в молочной полутьме, они терялись снаружи – в густом разнотравье. Именно поэтому ни Паша, ни Виташа их не заметили – иначе мелкая склока из-за марки машины никогда бы не возникла.
Яхта откровенно скучала, да что там скучала – она сохла от тоски! Все ее грациозное, легкое тело было устремлено вперед, острый нос задрался вверх – в бессильной ярости. И только снасти чуть слышно и умиротворенно вибрировали: они умели ждать, они верили, что рано или поздно вернутся в родную стихию.
– Супер! – выдохнул впечатлительный Виташа, разом позабыв о джипе «Гранд Чероки».
– Я понял. Это не гараж, это эллинг. Здесь везде – не гаражи, а эллинги.
– Эллинг? Что еще за эллинг?
– Место, где хранятся яхты. По типу самолетного ангара, – авторитетно пояснил Пашка. И Виташа посмотрел на него с плохо скрытым уважением: с таким же уважением сам Пашка посмотрел бы на Би-Пи, восстань он из могилы. – Может, того… Пощупаем?
– В смысле?..
– Залезем вовнутрь?
Виташа поежился и недоверчиво шмыгнул носом, но Пашка отнес эти робкие, недостойные скаута телодвижения к разнице температур: несмотря на изнемогающий от жары июльский день, в эллинге было достаточно прохладно.
– Ну, что?
– А если хозяин объявится?… – моментально дала о себе знать Виташина укушенная задница.
– Хвост поджал, да? Ладно, ты как хочешь, а я пошел.
И Пашка решительно двинулся к яхте. Удивляясь этой своей, неожиданно возникшей решительности. И такому же неожиданно возникшему жгучему интересу. Несмотря на близость Мартышкина к воде, его уроженец, Павел Кирста-Косырев, был абсолютно сухопутным человеком. Стада катеров, лодок, шлюпок и прочих плавсредств, мирно пасущиеся в Заливе, оставляли его равнодушным. Так же, как и залетные паруса залетных регат. Но эта яхта…
Эта яхта притягивала его, как магнитом.
В ней было что-то – что-то, что заставило Пашкино сердце учащенно забиться. Осторожно ступая (с пятки на носок, с пятки на носок, как учил великий Би-Пи), он приблизился к стапелю и перевел дыхание. Яхта не обманула его ожиданий, нет, вблизи она оказалась еще грациознее, но… Это была грациозность мертвого зверя. А прохлада, столь желанная в июльскую жару, обернулась могильным холодом!
Чрево эллинга скрывало «летучего голландца», вот оно что!
Искусно вырезанный дракон на носу облупился, краска на бортах пошла пузырями от сырости, и – в довершение ко всему – с яхты свешивался кусок рваной прокопченной ткани. Назвать его парусом не поворачивался язык.
Воображение, расцветшее в спертом воздухе эллинга махровым цветом, тотчас же дорисовало склизкую палубу, развороченные внутренности приборов, гнилые трапики – и Пашке моментально расхотелось исследовать яхту. Все было бы проще, не дыши ему в затылок чертов Виташа. Выказать слабость перед сопливым, изнеженным, вечно ноющим трусишкой? Все что угодно, только не это!
– Что это еще за ботва? – громко спросил подошедший Виташа. И звуки его глупого, тугого, как барабан, голоса расставили все на свои места: не боись, Павел Константинович, это лишь старое, заброшенное суденышко, только и всего!
– Ты о чем? – сразу же приободрился Пашка.
– Да о названии! Понапридумывают же!
Вот ведь черт! Увлекшись собственными страхами, Пашка как-то совсем выпустил из виду, что «летучий голландец» имеет имя. Да какое!
«Такарабунэ».
Все десять букв сверкали начищенной медью, они, казалось, существовали отдельно от яхты. Все десять новехоньких ухоженных букв. Как будто кто-то (уж не отсутствующий ли хозяин?) сначала придумал имя, а уж потом присобачил к нему все остальное, включая киль, снасти и даже облупленного дракона.
Имя – вот что было важно!
Странное, невиданное в окрестностях Мартышкина имя.
Оно сразу же понравилось Пашке – раскатистой серединой и неопределенным ласковым окончанием. Оно могло означать что угодно, и в этом «что угодно» была вся прелесть замысла. Во всяком случае – для никем не признанного скаута-стажера Павла Кирста-Косырева.
Такарабунэ – птица? Такарабунэ – ветер? Такарабунэ – теплое течение? Или наоборот – холодное?..
Такарабунэ – племя пигмеев? Такарабунэ – тот самый дракон, угнездившийся в носу? Догадки – самые сладостные, самые мальчишеские, самые неверные – окружили Пашку. Он мог бы простоять целый день, пытаясь понять, что же это такое – такарабунэ. Но Виташа вовсе не собирался задерживаться здесь надолго. Бескрылый человек – он и есть бескрылый!
– Так мы лезем или нет? – поторопил Пашку он. – Или так и будем здесь торчать?
– Лезем! – Пашка решительно тряхнул всклокоченной шевелюрой и уцепился за свисавший с борта конец веревки: сначала глазами, а затем и руками.
Но «летучий голландец» с чудным именем решил проявить характер: веревка оказалась гнилой и легко отделилась от яхты. Не удержав равновесия, Пашка свалился наземь вместе с обрывком расплетенной пеньки. А торчащий из кармана бинокль больно ударил его по боку.
Жалкое, унизительное для скаута падение не осталось незамеченным – злодей Виташа противно захихикал. Хихиканье доносилось откуда-то сверху: пока Пашка выяснял отношения с пенькой и биноклем, Виташа успел забраться на яхту. Интересно, каким образом?
– Что ты копаешься?.. Здесь же лестница веревочная, ты ее не усек, что ли?
– Еще как усек! Я просто тебя прове… – Дальше можно не продолжать, ярость все равно запоздала: Виташа успел исчезнуть на палубе, злодей!
…На корме и вправду оказалась веревочная лестница. И выглядела она вполне надежно. И к тому же уже была испытана Виташей. Но подниматься Пашка не спешил. Пусть первооткрыватели поторопятся, а он уж как-нибудь в сторонке постоит. Не больно-то нужно, будь ты хоть «Такарабунэ», хоть кто! И все же, все же…
Пашка даже скрипнул зубами от жалости к себе: он сам виноват в том, что по мертвой птице, по мертвому ветру скользят теперь не его, а Виташины пятки.
Равнодушные пятки, которые даже не задумываются о том, что значит – Такарабунэ!
– Ну, что там? – воззвал Пашка покровительственным голосом.
Ответа не последовало. И вообще, на яхте было подозрительно тихо. Ни шороха, ни звука шагов, ни обычного Виташиного посапывания.
– Ты где?!
И снова – никакого ответа.
По спине мальчика поползли мурашки. Не такой уж ты храбрый, Павел Константинович, каким хочешь казаться. И почему ты решил, что «такарабунэ» – это птица? Или – ветер? Или – ничем себя не запятнанное племя пигмеев? Быть может, «такарабунэ» – это ловушка! Для дурачков, которые беспечно позабыли о «летучих голландцах»! Для дурачков по имени Паша и Виташа!
– Эй! – снова крикнул Пашка. И не услышал своего голоса.
Почему же он все еще здесь, в проклятом эллинге, у проклятой яхты? Потому что скаут никогда не бросает друга в беде, вот почему!
Не такой уж Виташа друг, если разобраться, так, летний приятель от летней скуки, к тому же – нытик, каких мало. И бедоносец, как утверждает Пашкина бабка. Но скаут никогда! Не бросает! В беде! Даже бедоносца и нытика!
Упиваясь так неожиданно прорезавшимся благородством, Пашка подтянул к себе лестницу. И почти тотчас же с сипом и воем ему на голову рухнул Виташа. Только чудом Пашка удержался на ногах, а Виташа…
– Там! – трясясь как осиновый лист, прошелестел он. – Там…
«Там» было что-то ужасное – хотя бы потому, что Виташу вырвало. Опорожнив желудок, он упал на четвереньки и пополз к спасительной щели, отделявшей склеп с яхтой от яркого июльского дня. По уму, Пашке следовало бы присоединиться к очумевшему приятелю и, уже находясь в безопасности, расспросить его обо всем. Но разве можно довольствоваться информацией из вторых рук? И потом ведь – яхта не сожрала Виташу, хотя могла бы. Она выплюнула его, живого и здорового, только слегка повредившегося в мозгах от страха. Значит, и с ним, Пашкой, ничего не случится. Не должно случиться. Не должно. А уж со своим страхом он как-нибудь справится.
Придя к такому выводу и ощутив легкое покалывание в позвоночнике, Пашка полез наверх, прямо в пасть меднолобому – или меднолобой? – «Такарабунэ».
…Наверху было гораздо светлее – из-за небольших прямоугольных окошек, прорезанных в воротах эллинга. Во всяком случае, палуба была как на ладони, вся, до последнего уголка: приземистая рубка, такие же приземистые кнехты, маленькая, пятнистая от ржавчины лебедка для поднятия якоря… И парус, свисавший с мачты. Тот самый кусок рваной прокопченной ткани. Снизу он не казался таким огромным! И таким… таким живым!
Парус чуть заметно трепетал от приснившегося ему ветра – или это Виташа потревожил его сон? Одно из двух.
А может быть, третье?
И не это ли третье снесло крышу несчастному бедоносцу?
Спокойно, Павел Константинович, спокойно. Уж за свою головушку ты можешь не опасаться. Вдох – выдох, вдох – выдох, как учил великий Би-Пи, дряхлая парусиновая тряпка для тебя не соперник.
Парус – а это действительно был парус, никакая не тряпка, – похоже, прочитал Пашкины дерзкие мысли. И замер, затаил дыхание.
И Пашка затаил дыхание. И сделал маленький шажок вперед.
Но парус на провокацию не поддался: прикинулся неживым, совсем как занавес в театре. В театре Пашка, по причине одиннадцати лет и проживания в захолустном Мартышкине, бывал не так уж часто, раз пять, не больше. Четыре раза они с классом ездили в Питер, а пятый… В пятый раз театр сам пожаловал к ним в школу и оккупировал спортивный зал. Вообще-то, это был не театр, а сборище трех придурков самого замшелого возраста – примерно Пашкиной бабки, никак не младше… Трех голодных замшелых придурков. Пашка сам видел, как они наворачивали котлеты и компот в школьной столовой. Перед самым спектаклем.
Спектакль назывался «Маленькая Баба-яга».
И скептически настроенный Пашка некоторое время гадал, кто же из троих будет этой самой маленькой Бабой-ягой: старая грымза или плохо выбритый чудик, похожий на цыгана. Третьего – самого древнего и к тому же бородатого – Пашка отверг сразу же: цыганистая Баба-яга – это еще куда ни шло, но с бородой…
Маленькой Бабой-ягой, как и следовало ожидать, оказалась старая грымза. Даже из последнего ряда, где устроился Пашка, были видны ее скорбные морщины. А старый хрыч с бородой играл Ворона, все время поучавшего Бабу-ягу, как жить. По ходу пьесы у него вылетела вставная челюсть, и это было самым убойным местом во всем спектакле.
Но не менее убойным оказалось то, что Пашка этого не заметил. Как не заметил всего остального. А к середине плюгавого представления перекочевал с последнего ряда на первый. И все из-за актрисы, появившейся в самый последний момент.
Прямо на сцене.
Актеров было не трое – четверо! Четвертую, самую главную, Пашка не заметил. Она возникла из воздуха, из жалких декораций, которые теперь вовсе не казались жалкими. Она была такой красивой, что Пашка едва не расплакался. Ну, конечно, он не расплакался, это было бы слишком, но маленькое сердце в его маленькой груди слиплось и растаяло, как первый, еще не окрепший снег. Под лучами осеннего, застенчивого, усталого, темно-рыжего солнца. Именно такой была Актриса – темно-рыжей, усталой и коротко стриженной. «Только бы она не кончалась, эта дурацкая пьеса, только бы не кончалась!» – заклинал Пашка.
Но «Маленькая Баба-яга» завершила свою жизнь в положенный срок – ровно через час пять минут. И актеры погрузились в старенькую, видавшую виды «шестерку».
Все четверо.
И темно-рыжее солнце – тоже.
И тогда Пашка решился. На ватных ногах он подошел к Актрисе, готовой захлопнуть дверцу, и таким же ватным голосом прошептал:
– Можно взять у вас автограф?
– Что? – не поняла она. – Что ты сказал, мальчик?
– Автограф, – повторил Пашка, угорая от сладкого, едва уловимого запаха, который волнами исходил от Актрисы. Ничего вкуснее этого запаха ему не попадалось – за всю его длинную одиннадцатилетнюю жизнь. – Автограф. Вот здесь.
Он протянул Актрисе тетрадь (как впоследствии оказалось – по русскому, с только что скатанным домашним заданием; по проклятому русскому он никогда больше тройки не получал, но какое теперь это имело значение?). Грымза, сидевшая рядом с Актрисой, презрительно хмыкнула, цыганистый чудик упал грудью на руль, хрыч Ворон щелкнул вставной челюстью, а Актриса…
Актриса приветливо кивнула Пашке и взяла протянутую тетрадь. И принялась (о, ужас!) листать ее.
– «Юный» пишется с одним «н», – сказала Актриса.
– Я исправлю, – помолчав, выдавил из себя Пашка.
Актриса подмигнула Пашке темно-рыжим, как и волосы, грустным глазом. А потом занесла ручку, услужливо поданную чудиком, и на секунду задумалась.
– Как тебя зовут?
– Пашк… Павел.
– Очень хорошо, – почему-то развеселилась она. И расписалась на последней странице тетради. – Вот. Держи свой автограф.
– Спасибо. – Пашка почти силой выдернул тетрадь из рук Актрисы и прижал ее к животу.
– Не за что. Было приятно познакомиться. До свидания, Павел.
…Он открыл заветную тетрадку с заветным автографом только дома, забившись в дальний угол комнаты.
«Юному Павлу от актеров театра «Глобус». Хорошо учись и радуй близких. С уважением…»
Подпись была неразборчива. Так, лихая, торопливая закорючка. Она не проливала свет на имя Актрисы. Но и этой торопливой закорючки Пашке хватило за глаза. Да и разве может быть имя у солнца, к тому же такого темно-рыжего?..
Хорошо учиться он не стал, хотя и поднажал на ненавистный русский. И умудрился закончить год с четверкой в табеле. Это была единственная четверка среди уже привычных унылых троек, но самая настоящая, – классная даже руками всплеснула от подобного прогресса. А уж слово «юный» Пашка никогда больше не напишет с двумя «н», жаль только, что Актриса никогда об этом не узнает…
Она не узнает, что снилась Пашке почти каждую ночь. И что тетрадь все это время лежала под подушкой. И даже бдительная Пашкина бабка не смогла ее обнаружить.
А потом наступили каникулы, и светлый образ Актрисы померк. Не то чтобы Пашка совсем позабыл о ней, нет. Просто появился великий Би-Пи. Вместе с книгой «О разведке для мальчиков». И на первой странице «разведки» была помещена его фотография – фотография закаленного в боях усатого вояки в пробковом колониальном шлеме. Фотография была черно-белой, но если бы она была цветной!.. Би-Пи непременно оказался бы темно-рыжим, Пашка ни секунды в этом не сомневался.
Как и в том, что парус «Такарабунэ» пытается надуть его. Обернуться тряпкой, подолом платья, театральной кулисой, фальшиво подыграть, но не раскрыть тайны.
– Фигушки, – громко произнес Пашка и сделал еще один шаг.
Последний.
Теперь парус был совсем близко. Теперь он не дышал. И Пашка не дышал. Все так же не дыша, он протянул руку к плотной поседевшей ткани и резко дернул за нее.
И парус сдался.
Дверь в тайну распахнулась настежь.
А за ней… За ней оказался человек.
Мертвый человек.
Мертвый человек сидел у подножия мачты и смотрел на Пашку мертвыми, широко открытыми глазами.
Вот тут-то и произошло самое удивительное. Пашка не заорал, не упал на четвереньки и не проблевался, как Виташа; он не бросился бежать – он стоял и смотрел на человека такими же широко открытыми глазами.
Только живыми.
Впервые Пашка видел смерть так близко. Впервые он смог рассмотреть ее.
Впервые. Дохлые жабы, ужи и обожаемые Виташей вороны – не в счет. И погибший от чумки щенок фокстерьера по кличке Чонкин – тоже не в счет. Все это были детские игрушки по сравнению с этой – настоящей, взрослой смертью. А Пашке обязательно нужно знать, как она выглядит, взрослая смерть.
Обязательно.
Укрепившись в этом своем страшноватом желании, Пашка присел на корточки и принялся рассматривать мертвеца. Мертвец был взрослым парнем, черноволосым, тонкогубым и тонкобровым, отдаленно напоминавшим Нео, героя фильма «Матрица». Этот фильм они с Виташей смотрели раз десять – пока Виташе не обрыдли заморочки идейного негра Морфиуса. Послав «Матрицу» подальше, Виташа переключился на «Людей-Х», а Пашка был человек подневольный: своего видика к одиннадцати годам (в отличие от Виташи) он так и не заимел.
– Что, брат Нео, хреново тебе? – прошептал Пашка скорее для того, чтобы подбодрить себя.
Мертвец, как и положено мертвецу, ничего не ответил.
– Мне тоже… было бы хреново. – Собственный голос, такой рассудительный и участливый, успокаивал Пашку.
Но еще больше его успокаивал сам Нео. Прямо убаюкивал, честное слово! На лице Нео застыло надменно-печальное выражение, правую часть лба закрывала рассыпавшаяся прядь, а в уголках тонких губ пряталась едва заметная улыбка: «Такие дела, брат Пашка, ты уж прости меня».
– Да нет, ничего, – соврал Пашка скорее для того, чтобы подбодрить мертвеца. – Со всяким может случиться.
В жизни своей он не прибегал к столь наглому, столь откровенному вранью: такое могло случиться далеко не со всяким. А уж с Нео – тем более. Слишком лощеным казался он: черная футболка, которую ни одна смерть из колеи не выбьет; черная жилетка, черные джинсы, начищенные ботинки. Белый браслет на смуглой руке. И белое кольцо на безымянном пальце.
Чистюля Нео – подбритые виски.
Ни одной лишней складки на одежде, ни одной лишней складки на лице, вот у кого можно поучиться аккуратности!
Пашка ощутил смутное беспокойство: что-то в облике Нео не нравилось ему. Какой-то штрих, какая-то деталь – из-за этой проклятой детали смерть Нео выглядела несколько неряшливой.
Прядь, небрежно свисающая на лоб!
Вряд ли при жизни Нео примирился бы с такой небрежностью.
Пашка послюнил ладонь и поднес ее ко лбу мертвого чистюли. Волосы Нео с готовностью откликнулись, зашевелились под пальцами. И легли именно так, как им и надлежало лечь: назад.
– Вот так, – сказал Пашка.
Вот так все и должно быть. Именно так.
Лоб Нео облегченно вздохнул: ведь справедливость была восстановлена, как же иначе! А вот у Пашки вздоха облегчения не получилось, и все из-за Нео, любителя сюрпризов. Пора бы тебе знать, Павел Константинович, что ничего в жизни не бывает просто так.
А тем более в смерти.
Волосы, соскользнувшие со лба, скрывали дырку! Небольшую, но довольно красноречивую. Края дырки запеклись темно-красным, почти черным. А сама дырка выглядела такой же лощеной, как и Нео. И была уместна.
Она была гораздо уместнее, чем отбившаяся от рук небрежная прядь.
Пашка перевел дух: наконец-то облик Нео приобрел законченность. А самое главное – приобрела законченность его смерть. Смерть, пошептавшись с Нео и придя к обоюдному согласию, вошла в дырку на лбу, теперь Пашка знал это точно.
Она вошла в дырку на лбу, она вошла в царственное чело, обстряпала свои делишки и скрылась через черную лестницу затылка, по-другому и быть не могло!
А может, она осталась в голове Нео?
Пашке стало не по себе. Давненько он хотел потолковать со смертью, но сейчас ему стало не по себе. Да и о чем разговаривать? Если уж она хлыща Нео уболтала, то с Пашкой справится, как будьте-нате, и к гадалке ходить не надо, как бабка говорит. Можно, конечно, подождать, покараулить, но сколько ни пялься в дырку на лбу, все равно ничего не увидишь. Даже огрызок бинокля не поможет.
Только сейчас Пашка заметил, что почти прилип к Нео.
И дело было не в отретушированной запекшейся кровью дырке, дело было в запахе.
Сладковатом и чуть-чуть душном.
Этот запах Пашка знал. Хотя прошло достаточно времени, чтобы успеть забыть его. Но Пашка не забыл, и другие запахи не вытравили этот, не перебили его. А они старались: и раздавленная дождем земля, и огуречная корюшка, и поздняя сирень, и нагретый металл машин, и острый привкус бензина на заправке, и мох на слежавшемся шифере…
Ничего из их стараний не вышло.
А незабытый запах принадлежал Актрисе, вот кому! Это обстоятельство потрясло Пашку. Ведь не может же быть, чтобы Актриса и Нео… Чтобы Нео и Актриса… Или права бабка, что все со всем связано, как аукнется, так и откликнется. И если Пашка изгваздал брюки и подло стянул из сахарницы десять рублей, то в китайской провинции Хэйлунцзян обязательно произойдет землетрясение. Или, того хуже, бабке не прибавят пенсию.
Пашка замотал головой и даже стукнул себя кулаком по уху: самое время думать о бабкиной пенсии! От подобной встряски ухо обиженно зазвенело, а в животе образовалась пустота. Почти такая же, как в то мгновение, когда Пашка впервые увидел Актрису. В глубине сцены, с большим бутафорским лопухом, зажатым в правой руке.
В правой руке Нео не было никакого лопуха, и тем не менее… Тем не менее что-то в ней все-таки было!
И вряд ли Нео захочет с этим «что-то» расстаться. Но попытка – не пытка. Стараясь не дышать, Пашка потянулся к судорожно сжатым пальцам Нео.
– Извини, брат Нео, – прошептал он.
Все оказалось просто. Гораздо проще, чем думал Пашка. Нео без всякой грусти (и даже с видимым облегчением) освободился от предмета, который лежал в его ладони. Ничего удивительного в этом не было: вещичка оказалась бросовой, такую даже на фонарик без батареек не сменяешь.
Шмат легкой, почти невесомой ткани – то ли платок, то ли шарф, черт его разберет.
Досадуя на себя, а еще больше – на Нео, Пашка расправил ткань: нет, это все-таки шарф. У Пашки тоже был шарф – шерстяной, сине-белый, «зенитовский». А этот какой-то несерьезный, дамский, да еще в виде рыбы.
Точно, рыба и есть!
Довольно длинная рыбина, не меньше метра, и как она умещалась в руке Нео, уму непостижимо! Чешуйки нанесены прямо на ткань, в наличии имеются жабры, глаза и хвост, а по брюху идет шов, соединяющий правую и левую половины. Вот только зачем две веревочки у морды – непонятно. Под шеей, что ли, их завязывать?..
Так и не придя ни к какому решению по поводу веревочек, Пашка машинально скатал шарф – и рыба снова уменьшилась до размеров ладони. Забавно. Что-то в ней есть, в этой рыбе. Но на фонарик без батареек она все равно не тянет. Другое дело – она видела, как умер Нео. А потому свернулась от страха и спряталась в ладонь.
Эта простая мысль гвоздем засела в Пашкиной голове. Они все видели, как умер Нео: и кольцо, и браслет, и начищенные ботинки! Что уж говорить о жилетке с футболкой и черных джинсах! У смерти всегда множество свидетелей, но они не очень-то любят об этом распространяться. Слова из них не вытянешь. Молчат, как… как рыбы!
Может, она совсем не зря появилась в руках Нео, эта рыба? Именно рыба, а не суслик какой-нибудь, не пестрый удод, не синица…
Об этом стоит подумать.
* * *
…Для счастья Гурию Ягодникову требовалось не так уж много.
Для счастья Гурию Ягодникову требовались яхты и Эдита Пьеха.
Но ни того, ни другого у него не было. И все из-за гнуснейшей ягодниковской планиды; Гурий боялся воды и был слишком молод для венценосной Эдиты: два месяца назад ему исполнилось двадцать девять. Конечно, дело было не в возрасте, тем более что понятия «возраст» для богини не существует (а в том, что Эдита – богиня, Гурий не сомневался). Дело было в самом Гурии. Будь Гурий Ягодников управляющим банка… Или гладковыбритым главой нефтяной компании… Или плохо выбритым, но до поросячьего визга популярным писателем – у него появился бы шанс. Пусть крохотный, пусть иллюзорный, но появился бы. Да и черт с ними, с писателем и главой компании, – будь он даже начальником РУБОПа, шанс все равно бы наличествовал. А ну как Эдита клюнула бы на его суровую мужественность, на двадцать два (нет, лучше на тридцать три!) раскрытых им преступления, на шрам от ножевого ранения (мужские шрамы не оставляют равнодушной ни одну женщину!)?.. Кто знает!..
Но Гурий не был начальником РУБОПа. Гурий не был даже начальником отделения милиции. Гурий был заштатным участковым милиционером в заштатном, отпочковавшемся от Ломоносова Мартышкине. А проживал он в еще более заштатной деревушке Пеники. И на работу в Мартышкино добирался на велосипеде. То еще было зрелище, мент на велосипеде, Эдита умерла бы со смеху! Одно утешение: ей и в голову не придет заглянуть в Пеники. Хотя не такое уж это плохое место, если разобраться.
Пеники располагались на огромном, по типу голливудского, холме, и с холма открывался шикарнейший вид на Залив. Шикарнейший, другого слова не подберешь. Отсюда был хорошо виден Кронштадт с плотно вырезанным силуэтом Морского собора и гордо поднятые головы фортов. К Кронштадту подступала недостроенная дамба, правую же часть видимого горизонта оккупировал сам Питер. А в благоприятные дни некоторые глазастые и патриотично настроенные пениковцы даже видели шпиль Адмиралтейства. Впрочем, последнее обстоятельство Гурий относил к особой романтичности земляков, которые могли увидеть не только шпиль Адмиралтейства, но и Ростральную колонну, и Петропавловскую крепость, и самого Петра – все зависело от количества выпитой водки. Сам Гурий водку не пил и в местечковом патриотизме замечен не был, что не мешало ему искренне недоумевать, почему при наличии такого замечательного места, как южное побережье Залива, все прутся на север – в курортные Репино и Комарово. Туда же, курорт, чухна покоя не дает, не иначе! А русские цари не дураками были, вот они – Петергоф и Ораниенбаум, – под боком! И примкнувшие к ним Мартышкино и Пеники – тоже! Дачное Мартышкино обожали петербуржцы – те, старые, настоящие, впоследствии изведенные революцией (а уж они знали толк в местах отдохновения сердца!). Гурий думал об этом каждый раз, когда проезжал Ломоносов, отделявший Пеники от Мартышкина, отделявший работу от дома. Это была замечательная дорога, ничего не скажешь! В велосипедных спицах путалось солнце, в ушах уютно ворочался речитатив сладкоголосой птицы Эдиты – аллилуйя японцам, придумавшим такую незаменимую вещь, как плеер! А может, это и не японцы его придумали, но все равно – здорово! Плеер и в особенности две кассеты «Антология советского шлягера» сделали жизнь Гурия вполне сносной. Во всяком случае, Эдита теперь всегда была с ним, нужно только вовремя менять батарейки. Двух «Энерджайзеров» хватало на целый рабочий день, а за вечер Гурий не беспокоился. Вечером его поджидали винилы и старенький проигрыватель «Аккорд».
«Аккорд» стоял в небольшой пристройке к дому. В этой пристройке Гурий обитал уже несколько лет, изгнанный из дома родителями, которые Эдиту (о, святотатство!) терпеть не могли, а напротив, обожали Аллу Пугачеву и затерявшийся во времени ансамбль «Песняры». Кроме того, папаша Гурия души не чаял в Александре Розенбауме, что было совсем уж несовместимо с легким, как весенний ветерок, акцентом Эдиты.
В обиталище Гурия родители заходили редко – чтобы лишний раз не расстраиваться. Но все-таки заходили.
– Кто бы мог подумать, что наш младшенький дураком окажется? – в сотый раз говорила мать, разглядывая плакаты Эдиты на стенах.
– А младшенькие – всегда дураки. Об этом даже в сказках написано, – в сотый раз говорил Гурий, разглядывая плакаты Эдиты на стенах.
– Наташка – замужем за приличным человеком, Сашка – сам приличный человек. А ты?
– А я – милиционер! – веселился Гурий.
– Милиционеры тоже разные бывают. Тебя в ГАИ устраивали? Устраивали. Что ж не пошел?
– А я взятки брать не умею. Мне взятки руки жгут. Еще сожгут дотла – зачем вам безрукий сын?
– Безрукий – лучше, чем безголовый, – вяло парировала мать. – Хоть бы женился, что ли! И когда ты только женишься?
С плакатов Гурию улыбалась Эдита. Эдита на теплоходе, Эдита на тепловозе, Эдита с микрофоном и без, Эдита юная и Эдита постарше, Эдита с белой лентой в голове, Эдита с теннисной ракеткой в руках, Эдита в демократичном мини, Эдита в респектабельном макси и с цветком орхидеи в декольте. Эдита в кримпленовой тунике, насквозь продуваемой благословенными ветрами шестидесятых. Куда Гурий безнадежно, безвозвратно опоздал.
– Никогда. Никогда я не женюсь.
– Дурак, – еще раз с видимым удовольствием констатировала мать. – И как тебя только на такой ответственной работе держат?
Ответственности в работе Гурия было немного, Мартышкино – не Гарлем и даже не Питер: максимум, что можно выдоить из разомлевшей полудачной местности, – мелкое хулиганство, навязшая на зубах бытовуха и редкие, как фламинго в средней полосе, пьяные дебоши. Венцом карьеры Гурия Ягодникова стало недолгое расследование убийства путевого обходчика, на поверку оказавшееся унылым самоубийством. Записка, оставленная путевым обходчиком, была написана в горячечном бреду, и к ней прилагались три пустые бутылки из-под водки.
– Сам удивляюсь, как меня только на такой ответственной работе держат. Ценят, наверное. Обещают капитана дать за выслугу лет!
– Ты же говорил – майора, – привычно поправляла мать.
– Майора? Значит, майора. Ставки растут.
– Хоть бы кто другой был, а не эта… – Мать умела переключаться в самый неподходящий момент. – Хоть бы кто другой, помоложе…
– Интересно, кто?
– Ну вот хотя бы… Пугачихи дочка, Кристина Орбакайте. Или… Ну, подскажи!
– Людмила Зыкина, – с готовностью подсказывал Гурий.
– Тьфу ты!.. Скажешь тоже, Зыкина! – пугалась мать. – Не Зыкина вовсе, а та, что про «чашку кофею» поет… Не помню, как зовут-то.
– Я тоже.
– Ну, неважно. «Чашку кофею» я бы еще смогла понять, она молодая, красивая…
На этом месте диалог Гурия и матери Гурия, как правило, прерывался. Махнув рукой, мать возвращалась к своим делам – курам и поросенку. А Гурий возвращался к своим делам – винилам Эдиты и яхтам.
Яхты были второй страстью Гурия, которая нисколько не мешала первой. Напротив, обе страсти пребывали в гармонии и каком-то радостном, просветленном единении. Единении необычном, поскольку и сами яхты были необычными.
Это были модели яхт.
Ничего другого Гурию не оставалось, поскольку он смертельно, до потери сознания боялся воды. И с этим ничего нельзя было сделать, это невозможно было подавить никаким волевым усилием, это нельзя было расстрелять из табельного оружия, удушить, четвертовать, колесовать. Водобоязнь стала тяжким крестом Гурия с тех самых пор, как он полюбил паруса. Его любовь к парусам была такой же безоглядной и платонической, как и любовь к Эдите: никакого намека на взаимность, никакого намека на намек. И если с платоническим чувством к Эдите Гурий смирился (ибо вожделеть богиню – грех великий), то с яхтами все обстояло как раз наоборот. Яхты – настоящие яхты, временно оказавшиеся на берегу (а только к таким Гурий был в состоянии подойти), откровенно издевались над ним: ничего-то ты не можешь, бедолага Гурий, ничего-то ты не знаешь о нас. И никогда не узнаешь. Ведь для того, чтобы познать женщину, нужно отправиться с ней в постель. А для того, чтобы познать яхту, нужно отправиться с ней в море. А этого Гурию не светило даже в самом радужном сне. Хотя нет, в снах-то он как раз и отрывался по полной программе: сны Гурия были наполнены фалами, лагами, бизанями и трогательными, как кутята, ласкающими руку шкотиками. Сны Гурия были наполнены ветром и брызгами волн. Эти брызги, соленые и прекрасные, ласкали лицо Гурия, как голос неподражаемой Эдиты. В реальности же, подходя к насмешливым недотрогам-яхтам, Гурий чувствовал себя импотентом. Не самое приятное чувство, что уж тут говорить. И никакого выхода.
Впрочем, выход все-таки нашелся.
Вернее, его нашел сам Гурий, приобретший по случаю книгу «Постройка моделей судов». В этой книге было все: рисунки, чертежи, расчеты. Но самое главное – в ней была надежда. Гурий запасся деревом и парусиной, прикупил необходимые инструменты – и через месяц первая яхта (масштаб 1:10) была готова.
Гурий назвал ее «Эдита».
Вторую, третью и все последующие – тоже.
Теперь в его пристройке насчитывалось ровно тринадцать яхт. Тринадцать «Эдит». Разных по классу и оснастке, но с одной общей чертой: они не издевались над Гурием, они любили его – ведь больше любить все равно было некого. Их сухие кили и выточенные по всем правилам корабельной науки шверты[1] не знали иных прикосновений, кроме прикосновений рук Гурия. Их зарифленные, пропитанные водостойким составом паруса не знали иных прикосновений, кроме прикосновений губ Гурия. К тому же Гурий позаботился о том, чтобы им был виден Залив. В широкое, всегда полуоткрытое окно.
А из рабочего кабинета Гурия Залив не просматривался.
Зато хорошо просматривалась улица, по которой шли сейчас двое – взрослый мужик и пацаненок. Личность мужика была хорошо известна Гурию – Василий Васильевич Печенкин не раз фигурировал в его рапортах как зачинщик пьяных драк в кафе «Лето». Пацаненок же был не кем иным, как сыном Василия Васильевича, Виташей. Самым удивительным было то, что Печенкин вел сына не за ухо, как обычно, а за руку. И вообще, между отцом и сыном наблюдалось завидное согласие, более того, Печенкин-старший взирал на Печенкина-младшего с уважением, если не сказать – с пиететом.
В ушах Гурия звучало «Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду цветок», а это означало, что участковый пребывает в самом благостном расположении духа. «Интересно, уж не ко мне ли они направляются?» – лениво подумал Гурий и тут же невольно улыбнулся такому нелепому предположению: Василий Васильевич лейтеху Ягодникова терпеть не мог, общался с участковым только в форсмажорных обстоятельствах, а в мирное время переходил на другую сторону улицы, стоило только Гурию оказаться в поле его зрения.
Теперь все было наоборот. Теперь отец и сын Печенкины направлялись прямо волку в пасть. Долго не раздумывая и никуда не сворачивая.
«Судя по всему – ко мне, – подумал Гурий уже не так лениво. – Судя по всему – форс-мажор!»
…Это действительно оказался форсмажор, да еще какой!
– Родной милиции общий привет, – прогундел Печенкин, втискиваясь в кабинет. И без предисловий ткнул в сына указательным пальцем: – Он, прощелыга!
Яблочко от яблоньки недалеко падает, что и говорить!
– Думаю, это не ко мне, – сдержанно ответил Гурий. – Думаю, это в детскую комнату милиции.
Сочувствия к малолетнему Печенкину у Гурия не было никакого. Он терпеть не мог деятелей типа Виташи: плюгашей-пакостников с соплями под носом и омерзительными мыслями под черепной коробкой. Такие, с позволения сказать, чада мучили домашних животных (от мыши до козы), писали на заборах срамные слова и подозрительно часто вертелись около женского отделения бани. Вместо того чтобы, как и положено чадам, читать Майн Рида и Фенимора Купера. Или «Декамерон» Боккаччо на худой конец.
– Да обожди ты с детской комнатой, – невежливо перейдя на «ты», перебил участкового Печенкин-старший. – Это еще успеется. Мой-то прощелыга трупак нашел. Так-то! Знай наших.
– Что нашел? – не понял Гурий. – Какой такой трупак?
– Настоящий. Смердячий. – От гордости за сына Василий Васильевич даже икнул. – Сидит себе в лодке и ни гугу!
– Да кто сидит?!
– Да трупак! Он бы там до белых мух просидел, если бы не мой прощелыга.
Только теперь до лейтенанта Ягодникова стал доходить смысл тронной речи Печенкина-старшего: Печенкин-младший, находясь в свободном каникулярном полете и шастая где ни попадя, обнаружил какой-то труп.
– Утопленника, что ли? – на всякий случай уточнил Гурий.
– В том-то все и дело, что нет! – Василий Васильевич торжествовал. – Утопленника – это мы проходили. Утопленники что! Ты выше бери. Убиенного.
– Да с чего ты взял, что убиенного?
– Да у него ползатылка снесено! Я сам видел.
– И где же ты все это видел? – Верить известному мартышкинскому выпивохе Гурий не спешил.
– Где-где! В лодочном кооперативе. «Селена».
Легендарный местный долгострой был хорошо известен Гурию. «Селена» затевалась году эдак в восемьдесят пятом, когда Гурий был чуть постарше Печенкина-младшего. Места в кооперативе распределялись между прикормленной питерской интеллигенцией из числа активных членов творческих союзов. Да и строительство шло по-интеллигентски – ни шатко ни валко. Уже потом, когда отгремела перестройка и началась эпоха свободного рынка, его взял в свои руки энергичный молодой бизнесмен. Бизнесмен отгрохал с десяток таунхаузов с эллингами для яхт, после чего благополучно грохнули его самого. Больше никто браться за кооператив не хотел, и он медленно ветшал и разрушался. До Гурия доходили слухи, что несколько домов в «Селене» обжиты, но соваться туда он не хотел. Там, где есть эллинги, есть и яхты.
Настоящие.
А с настоящими яхтами Гурий Ягодников покончил навсегда.
– Хорошо. Сейчас мы туда отправимся…
– Может, ты мне не веришь? – осенило Печенкина.
– На месте разберемся.
– Слышь, лейтенант… Ты тово, обязательно внеси, что трупак мой обормот обнаружил. Обязательно!
– Показания с вас и с вашего сына будут сняты в любом случае. Надеюсь, вы ничего там не трогали, Василий Васильевич? – аккуратно перешел на официоз лейтенант.
– Как можно! – Василий Васильевич так интенсивно замахал руками и заморгал глазами, что Гурий понял: если история с трупом – правда, то склонный к мародерству Печенкин обшмонал тело круче любого лагерного вертухая. Такой и в чужие трусы залезет в поисках наживы, с него станется.
…Печенкин не соврал. В кооперативе «Селена» действительно произошло убийство.
Вот уже три часа здесь работала оперативная бригада из Питера. Ягодников же охранял ближние подступы к таунхаузу, в котором было найдено тело. Пока оперативники занимались местом преступления, худощавый, похожий на циркового морского льва следователь по фамилии Дейнека аккуратно допрашивал Печенкина-старшего, Печенкина-младшего и приятеля Печенкина-младшего, еще одного сопляка-мартыгу. «Мартыгами» традиционно называли молодую мартышкинскую поросль, и второй парнишка был не самым худшим ее представителем. Во всяком случае, Гурию этот мартыга понравился гораздо больше, чем отпрыск Василия Печенкина, хотя он и видел парнишку лишь мельком.
Кажется, его звали Паша.
Именно эти двое – Паша и Виташа – и обнаружили труп, заглянув в эллинг по какой-то своей мальчишеской надобности.
Дело было достаточно серьезным. Настолько серьезным, что его сразу, минуя область, забрали в Питер. О том, что дело уходит в Питер, стало ясно еще на месте, и об этом сообщил Гурию в очередной перекур забубенный опер Антоха Бычье Сердце.
Антоха Бычье Сердце, он же Антон Бычков, был ягодниковским приятелем по школе милиции. Но, в отличие от Ягодникова, явно преуспел, сменил сомнительную фамилию Бычков на роскошную, без страха и упрека, фамилию Сиверс. И так попер по служебной лестнице, что к тридцати годам имел звание майора.
– А мог бы быть и подполковником, – интимно шепнул он Гурию. – Не дают. Бодливой корове, говорят. Сомнительные методы ведения дел, говорят. Ты же знаешь, нрав у меня крутой.
Нрав у Антохи был не просто крутым. Свирепым был нрав у Антохи, чего уж тут скрывать. Можно только посочувствовать тем несчастным, которые окажутся в руках Бычьего Сердца. И зубам тех несчастных. Он один, Антоха Бычье Сердце, мог играючи поставлять клиентов какой-нибудь навороченной стоматологической клинике. И обеспечить процветание всего дружного зубоврачебного коллектива. Гурий лишь подумал об этом, но вслух произнести не решился. Даже шутки ради. Бычье Сердце – тот, каким помнил его Ягодников, – был бескорыстнее матери Терезы. Деньги не особенно интересовали его: в разумных пределах, конечно, не интересовали. Одеться, обуться, выкурить хорошую сигарету, треснуть по хорошему пивку – это да. Все остальное было не так уж важно. Важной была работа, важным было призвание. А призвание у Бычьего Сердца оказалось самым бесхитростным (и потому – мудрым, как чернозем): мочить гадов. Да так, чтобы земля горела у них под ногами. И здесь все средства были хороши. Уже в милицейской школе у Бычьего Сердца проявились все задатки цепного пса-беспредельщика. Один только вид его наводил священный трепет на окружающих: сломанный нос, сломанные уши, низкий шишковатый лоб и вечный бобрик на квадратной башке. А маленькие, тускло поблескивающие глазки Антохи намекали на членство в преступной группировке. И на пару-тройку ходок в зону.
Самым примечательным было то, что и ходки, и членство – все это могло бы стать реальностью, не будь у Антохи умнющего папаши – фрезеровщика с Кировского завода. Внешность и нрав Бычьего Сердца не оставляли у него никаких иллюзий насчет будущности сына.
– Тюряга по тебе плачет, – каркал он пятнадцатилетнему Антохе. – Ой, плачет! Ты уж лучше в менты иди, авось пронесет.
Антоха к доводам папаши прислушался и, повзрослев, подался в школу милиции. А смутные мысли отца оформил в теорию: бандиты и сыщики – близнецы-братья. Люди, замешенные из одного теста. Люди с одним и тем же экстремальным мировоззрением. И с одинаковым отношением к жизни. И к цене за эту жизнь.
Клану милиции Антоха служил верой и правдой: точно так же он служил бы и любому другому, мафиозному клану. Да и время для Бычьего Сердца было самым подходящим: кровавое, нашпигованное криминалом время. День без выезда на убийство он считал потерянным.
– Застой, – ныл в таких случаях Бычье Сердце. – Застой, мать его ети! Измельчал народец, никакого вкуса к жизни!..
У самого же Бычьего Сердца вкус к жизни имелся в избытке. Он не церемонился с проходящими по делу свидетелями (после чего нередко попадал на ковер к вышестоящему начальству). Он спал с проходящими по делу свидетельницами (после чего нередко попадал на прием к анонимно практикующим венерологам – «пенисмэнам», как он их называл). Как-то ему удалось даже оприходовать разинувшую варежку понятую – в квартире, где произошло двойное убийство. Соитие с понятой в чуланчике, который примыкал к месту преступления, Бычье Сердце считал своим высшим сексуальным достижением.
К прочим достижениям старшего опера убойного отдела Антона Сиверса можно было отнести с десяток раскрытых убийств и уничтожение двух крупных бандитских группировок. Что и говорить, одинокий задумчивый труп из лодочного кооператива на фоне всего этого фейерверка смотрелся бледновато.
– Тухляк, – подытожил Бычье Сердце. – Уж поверь мне, Гурий. Это дело – тухляк. Намучаемся мы с ним.
В кармане жилетки убитого были найдены паспорт на имя Валевского Романа Георгиевича, трехдневной давности товарный чек ИЧП «Бригита» на сумму одна тысяча восемьсот рублей и конверт. Конверт был девственно чистым – так же, как и открытка, которая лежала в нем. Обыкновенная поздравительная открытка с надписью: «СМОТРИ НЕ НАПИВАЙСЯ!» А из водительского удостоверения, найденного в другом кармане жилетки, следовало, что Роман Георгиевич Валевский является владельцем внедорожника «Лексус», 2000 года выпуска, номерной знак А028ОА.
– Девяносто девять тонн гринов как с куста, – заметил Бычье Сердце, знающий толк в расценках на дорогие иномарки. – Ручная сборка. Зверь-машина. Самолет.
– За что же девяносто девять тонн?! – тихо ужаснулся Гурий, подсчитав, что собрать такую сумму ему удастся лишь за восемьдесят два года непорочной службы без еды и питья. – Там что, приборная панель из платины? За что девяносто девять-то?!
– А за то, что самолет!
Никакого «Лексуса», номерной знак А028ОА, в окрестностях лодочного кооператива обнаружено не было.
Никаких других вещей, кроме документов, чека и конверта, из карманов трупа извлечено не было. Ни рубля, ни доллара, ни завалящей монетки в пятьдесят копеек. Странное обстоятельство, учитывая щегольской прикид Романа Георгиевича и права на такое же щегольское авто.
Джип «Лексус» – совсем неплохо для двадцатисемилетнего молодого человека (а если верить паспортным данным, покойному Валевскому месяц назад исполнилось как раз двадцать семь). Совсем неплохо, другой вопрос, откуда у такого молокососа такие деньги. На бандита он не смахивал, не иначе папин сынок, золотая клубная молодежь с прицелом на местечко в топливной компании. Или на креслице в Законодательном собрании. Или на кабинетик в Смольном. Или на виллу в Коста-Браво. Подобные заоблачные дали не светили ни Гурию Ягодникову, ни его дружбану Антохе Бычье Сердце. Не светили они и Роману Валевскому.
Теперь.
Гурий даже поймал себя на гаденьком люмпенском злорадстве по поводу безвременной кончины баловня судьбы. Поймал – и тут же устыдился этого. Тем более что личность Валевского самым неожиданным образом прояснилась.
– Ты знаешь, что это за тип? – сказал Гурию Бычье Сердце. – Фигура довольно известная в определенных кругах. Он… Как бы это помягче выразиться… Танцор, одним словом. Балерун.
– Вы уже и это выяснили? – почтительно прошептал Гурий. – Оперативно работаете.
– Оперативно работаем не мы. Оперативно работает он. – Бычье Сердце мотнул тяжелой медвежьей башкой в сторону следователя Дейнеки. – Он у нас… как бы это помягче выразиться… балетоман. Всю зарплату в Мариинку сносит, чудила! И в прочие притоны песни и пляски. Такая вот страсть у человека.
Именно Дейнека поведал Антохе (а Антоха поведал Гурию), что Роман Валевский является ведущим солистом труппы современного балета «Лиллаби». И хореографом по совместительству. «Лиллаби» был известен в родных палестинах гораздо меньше, чем на просвещенном Западе. И с Запада не вылезал. Последний год труппа провела в гастрольной поездке по Средиземноморью, Франции и странам Бенилюкса. После этого была Америка, и по возвращении из нее Роман Валевский и его коллеги по «Лиллаби» затеяли амбициозный проект «Русский Бродвей». Проект был поддержан американским консульством («гнездом шпионов», как выразился Бычье Сердце), фондом Сороса («Сорососа», как выразился Бычье Сердце), еще несколькими фондами поменьше («цэрэушными подгузниками», как выразился Бычье Сердце) и несколькими высокопоставленными чиновниками из администрации города («…….», как выразился Бычье Сердце). Будучи еще в зародыше, «Русский Бродвей» отхватил уютный особнячок на Петроградке. А первым пробным камнем «Бродвея» должна была стать постановка грандиозного шоу «Вверх по лестнице, ведущей вниз». «Коллективное дрыганье ногами по книжке какой-то американской профуры», как выразился Бычье Сердце. «Видно, богатые мы очень, если платим американским профурам за авторские права!»
– Вообще-то, книжка очень хорошая, – робко возразил Гурий. – Хотя и старая.
– Какая же хорошая? Она же американская!
Крыть было нечем, и Гурий притих. Бычье Сердце еще некоторое время поливал грязью америкашек, раковой опухолью расползшихся по планете, а потом переключился на космополита Валевского.
– Не люблю я такие дела, – процедил Антоха. – Худосочные. Интеллигентские. Рома-балерун нам боком выйдет, чует мое сердце.
У Бычьего Сердца был такой удрученный вид, что Гурий попытался поддержать приятеля.
– Может быть, это ограбление? – неуверенно начал он. – Машины нет, денег нет… Польстились на джип и укокошили беднягу.
– А яхта при чем? Зачем его нужно было в яхту сажать? Зачем его вообще нужно было тащить к Заливу? И потом, видел, как ему тыкву прострелили? Чисто, аккуратно, любо-дорого посмотреть. Профессиональная работа. И улик с гулькин нос. Грабители так за собой не подчищают.
– Чья яхта – установили?
– По документам эта часть дома принадлежит некоей Калиствинии Антоновне Антропшиной. Больше пока ничего не известно. Сейчас пытаемся с ней связаться…
Закончить Бычье Сердце не успел – его окликнул кто-то из оперативников. Проводив взглядом приятеля, Гурий еще некоторое время потоптался на месте, а потом направился к сторожке, в которой следователь тщетно пытался привести в чувство пьяного охранника «Селены» и его такую же невменяемую подружку.
Обоих Печенкиных и юнца-мартыгу отправили восвояси: после снятия отпечатков и показаний делать им на территории лодочного кооператива было нечего. Да и рабочий день самого Ягодникова давно закончился. Если бы не труп, Гурий сидел бы сейчас в Пениках и достраивал четырнадцатую яхту. Ставить паруса – самое приятное, самое сладкое, самое трепетное!.. Четырнадцатая модель была любимым детищем участкового: во время ее закладки ему пришла в голову сумасшедшая мысль – подарить Эдиту-яхту Эдите-певице. Торжественный акт передачи был приурочен к ближайшему концерту дивы в БКЗ «Октябрьский». До концерта оставалось ровно двое суток, и нужно было поспешить, чтобы уложиться в сроки.
…Бычье Сердце закончил осмотр места происшествия только через час, клятвенно заверил Гурия, что пивка они выпьют в самое ближайшее время, и укатил в Питер вместе с трупом и всей бригадой. А Гурий отправился к себе в отделение, сдавать табельное оружие.
В отделении его и настигло еще одно сногсшибательное известие: на бесхитростном и далеком от криминала перегоне Ораниенбаум – Мартышкино обнаружено тело девушки.
* * *
…Полнолуние ознаменовалось воем собак. Собак было две – дворняга побольше и одичавший шпиц поменьше. Обе шавки, приписанные к проходной завода «Рассвет», имели неоспоримое преимущество перед всем остальным животным миром – они существовали всегда. Как птица Сирин и птица Алконост, как Сцилла и Харибда, как пирамида и сфинкс, как тяни-толкай, как Христос и Иуда, как двуликий Янус.
Так, во всяком случае, думала Лена.
Она жила в этом доме на Васильевском восемь лет – и все восемь лет шпиц и дворняга мозолили ей глаза. Дом под номером 99 был последним на Четырнадцатой линии и стоял особняком. То есть не совсем особняком. От остальных, густо прилепившихся друг к другу домов его отделяла всего лишь неширокая Камская улица. По другую сторону протекала когда-то живописная, а теперь загаженная до безобразия речушка Смоленка. Муж Лены, Гжесь, именовал дом «предбанником Господа Бога». В этом была известная доля истины: окна их квартиры на шестом этаже выходили сразу на три кладбища – православное, армянское и лютеранское.
Самое время подумать о душе.
Но о душе Лена и Гжесь не думали. Они думали о том, как бы поскорее развестись. В состоянии вялотекущего разрыва отношений они находились последние три года, и конца-краю этому процессу видно не было.
Лена и Гжесь вели затяжную позиционную войну.
Иногда война сменялась кратковременным перемирием и даже братанием: Гжесь, как и всякий здоровый тридцатилетний мужик, имел известного рода потребности, и когда дежурной шлюхи для их удовлетворения не оказывалось, в ход шла Лена. Лена в сто тридцать третий китайский раз давала себе слово не поддаваться на провокации – и с завидным постоянством нарушала его. Все дело было в подлом и душном характере Гжеся – он всегда получал свое. Во всяком случае, от Лены. Проще было завалиться с ним в койку, чем слушать звон бьющейся посуды и треск разрываемых на корпию занавесей. В какой-то момент Лена заменила весь имеющийся в доме фарфор и фаянс на одноразовые пластиковые тарелки и вилки. И к чертовой матери сняла все портьеры и прилагающийся к портьерам тюль. Что-то ты теперь будешь делать, дружочек Гжесь?
Дружочек Гжесь раздумывал недолго: он раскурочил кухонный комбайн, подаренный на свадьбу, после чего застыл в оконном проеме с видеодвойкой в руках. Видеодвойка была единственным ценным предметом в их доме, и расстаться с ней у Лены не было никаких сил.
Гжесь одержал очередную победу на важном стратегическом направлении.
Но проиграть сражение еще не значит проиграть войну.
Именно этим утешалась Лена, уводя остатки своей наголову разбитой плоти в ванную – зализывать раны, зашивать амуницию и чистить покрытое позором оружие. К счастью, довольно быстро смываемым позором.
Гжесь же укреплял завоеванные позиции и оперативно превращал в бивак недавнее поле боя: взбивал подушки, поправлял смятые в пылу страсти простыни и вытряхивал одеяло. В такие минуты Гжесь расслаблялся.
Расслабился он и сейчас.
– Когда мы подаем на развод? – в сто тридцать третий китайский раз спросила Лена, появляясь в дверях спальни.
– Тебе надо, ты и подавай, – в сто тридцать третий китайский раз ответил Гжесь, нагло развалившись на когда-то вполне мирном супружеском ложе.
Акт о безоговорочной капитуляции должен быть подписан, иначе Война Алой и Белой розы не закончится никогда. Они оба устали от этой войны, неужели Гжесь-Ланкастер этого не понимает?
– Завтра. Завтра я подаю заявление.
– И завтра, и послезавтра, и через месяц, и через год, – издевательским дискантом напел Гжесь, – мы будем вместе, мы будем вместе, и наша любовь не пройдет!
– Скотина! – прошипела Лена, наполовину высунувшись из окопа. – Где только были мои глаза, когда я выходила за тебя замуж?!
– Там же, где и мои, когда я на тебе женился. – Гжесь перевернулся на живот и пошлепал себя по гладкой упругой заднице.
Конечно же, Гжесь лукавил. Или был просто-напросто не силен в анатомии. Совсем другое место следовало бы показать ему. Совсем другое, но находящееся в восхитительной симметрии с задницей. На противоположной стороне таза.
Лена Шалимова и Гжесь Вихура поженились пять лет назад. В ту пору Гжесь заканчивал актерский факультет театральной академии, а Лена писала диплом «Математические методы оптимального управления». Диплом был так себе, да и студенткой Лена была так себе: никаких склонностей к точным наукам у нее не было (к гуманитарным, впрочем, тоже). На мехмат ее устроил отец, неожиданно объявившийся в пору позднего Лениного отрочества. До этого Лена знать не знала о его существовании, беззаботно жила в провинциальной Коломне, беззаботно каталась на «Яве» пэтэушника Генки Фрязина и беззаботно мечтала о карьере маникюрши. И о тихом семейном счастье с пэтэушником Генкой Фрязиным. И о трех детях – тоже: о девочке (обязательно старшей) и двух мальчиках-близнецах.
Отец приехал летним утром электричкой из Москвы; долго отирался у калитки, долго беседовал с матерью Лены – подуставшей от жизни хабалкой с санэпидстанции. Мать отвечала за дератизацию предприятий города и на мир смотрела с брезгливостью – так же, как и на подотчетные крысиные хвосты. Беседы Лена не слышала: она тихонько сидела в своей комнатке, сгорая от стыда за мать-грозу-коломенских-крыс и за весь их несуразный быт. Перед совершенно незнакомым ей, хорошо одетым седым человеком в стильных очках без оправы.
Через полчаса появилась мать со сногсшибательной новостью:
– Ты едешь в Питер. К своему отцу.
– К моему отцу? – безмерно удивилась Лена. – Разве у меня есть отец?
– Представь себе. Я же не богоматерь, в конце концов!
– И зачем я должна к нему ехать? В гости?
– Учиться. Взрослая ведь девка, школу уже закончила. Пора и о будущем подумать.
Нельзя сказать, чтобы это известие сильно порадовало Лену, – мечта о карьере маникюрши и семейном гнезде с девочкой постарше и двумя мальчиками-близнецами стремительно отдалялась.
– И когда я должна ехать?
– А чего тянуть? Сегодня и поедешь.
– Но…
– Хочешь всю жизнь просидеть в этой дыре, как я?..
«Хочу, еще как хочу», – подумала Лена, но вслух высказаться не решилась. Она никогда не перечила матери. Она была примерной дочерью.
– Хочешь выйти замуж за дебила Генку?
Хочу, еще как хочу!..
– Почему это он дебил?
– Потому что, – отрезала мать. – Через полгода начнет водку глушить, через год – лупить тебя как сидорову козу, через пять – от белой горячки подохнет. Или разобьется по пьяни на своем мотоцикле.
– А я?!
– А ты вдовой останешься. – Глаза матери горели недобрым пророческим огнем. – Да еще с детьми. Дай бог – один будет. А если целый выводок? Выводок я не прокормлю!..
Закончив тираду в стиле древнегреческой Пифии, мать полезла на шкаф за чемоданом: судьба Лены была решена.
В тот же день они с отцом уехали из Коломны. Генка даже не проводил ее, променяв душераздирающее прощание на футбол по телику. Мать торопливо всплакнула у раскрытых дверей электрички и так же торопливо дала последние наставления:
– Ты отца не стесняйся, требуй свое, веревки из него вей, он тебе больше должен. А в общем, неплохой он человек, Анатолий Аристархович, да и жизнь, видно, его поприжала!.. Ну, может, оно и к лучшему, Питер – город приличный, не пропадешь. А мне тебя тянуть уж невмоготу…
…Питер и вправду оказался городом приличным, вот только чересчур холодным. Холодным был и отцовский дом. В нем царил культ матери отца – Виктории Леопольдовны. Лене и в голову не приходило назвать ее бабушкой. Только по имени-отчеству и только на «вы». Впрочем, и сама Виктория Леопольдовна обращалась к Лене исключительно на «вы».
– Не ставьте локти на стол, милочка. И подтирайте за собой в ванной комнате, пожалуйста. Вы ведь в профессорском доме, а не у себя в Кинешме.
– В Коломне, – тихо поправляла Лена.
– В Кинешме, в Коломне – какая разница. Мой сын, а ваш… – в этом месте своих ежедневных наставительных спичей Виктория Леопольдовна всегда скорбно поджимала губы, – …ваш отец – человек, безусловно, совестливый. Мягкий, добрый…
«Размазня, – припечатала бы старуха, не будь она такой интеллигентной, – размазня, который вбил себе в голову, что виноват перед нахрапистой девкой из провинции и ее отродьем. Виноват грехами взыгравшей отпускной плоти – единственными грехами, которые легко отмолить».
– Но я, милочка, человек совсем другого склада…
«На мне где сядешь, там и слезешь, – припечатала бы старуха, не будь она такой интеллигентной, – пусть размазня перед тобой стелется, а я тебе ничего не должна. Скажи спасибо, что приветили, не дали пропасть в Кинешме… Костроме, Калуге, Коломне, Караганде… Какая, впрочем, разница!..»
Первые два месяца, проведенные в доме Виктории Леопольдовны на Васильевском, стали настоящей пыткой. Каждый день Лена порывалась уехать обратно – в залитую солнечным светом и зеленью патриархальную Коломну. И – не уезжала.
Из-за отца.
В первый (и единственный) раз он нашел ее за три минуты до отхода московского поезда. Лена уже сидела в вагоне, когда увидела его. Отец упирался ладонями в окно и, не отрываясь, смотрел на нее. Грудь его тяжело вздымалась, по щекам текли крупные слезы, а губы что-то безостановочно шептали. Впрочем, Лена безошибочно поняла – что:
«Прости меня, прости меня, прости меня!»
Конечно же, она никуда не уехала. Она выскочила из вагона в самый последний момент, позабыв сумку с вещами и рискуя свалиться под колеса. Сколько они простояли на перроне под дождем, обнявшись и все прощая друг другу, – час, минуту, всю короткую Ленину жизнь?.. Отец сбивчиво говорил Лене, что никогда не подозревал о ее существовании, он и предположить не мог, что после коротенького курортного романа, интрижки на Рижском взморье, на свет появится она… Что если бы Ленина мать не написала ему спустя столько лет, он никогда бы не узнал, что у него взрослая дочь… Красавица-дочь… Жизнь его отцвела пустоцветом, заросла крапивой, пятьдесят три года – и никого… А вот теперь у него взрослая дочь… Красавица-дочь… Неожиданное, позднее счастье… Счастье, счастье, а Виктория Леопольдовна, что ж – ты уж прости ее, девочка, ты же умница… Со временем она все поймет. И примет – со временем. Нужно только потерпеть…
…Когда терпеть становилась невмоготу, Лена закрывалась в своей комнате с видом на лютеранское кладбище, плакала и ждала отца. С отцом ей всегда было хорошо. Ей ни с кем не было так хорошо. Никогда.
Они много гуляли – дочь должна знать город отца, как же иначе! Они ходили в цирк и зоопарк (отец как будто наверстывал упущенное, ведь с маленькой Леной он в цирк и зоопарк не ходил); в выходные наступал черед театров и музеев (Лена-подросток проскочила театры и музеи, теперь приходилось к этому возвращаться). А вечера, свободные от прогулок, были посвящены математике: отец слепо верил в то, что Лена обладает математическими – семейными – способностями. Математика была главным делом всех Шалимовых – деда-академика, отца-профессора.
И теперь вот – Лены.
Никаких особых способностей у Лены не оказалось, но на мехмат университета она все же поступила – чтобы не огорчать отца. Она сделала бы все что угодно, только бы не огорчить его. Она смирилась даже с поджатыми губами Виктории Леопольдовны. Терпи, терпи, чернавка, отцу еще тяжелее!..
Отцу действительно было тяжелее всех: он обожал дочь и души не чаял в матери, он разрывался между обеими своими женщинами. Единственными близкими существами, за которых готов был отдать жизнь.
– Ты идеалист, Анатолий, – клевала его Виктория Леопольдовна. В строго отведенные часы: сразу после вечернего чая.
– Что же дурного в моем идеализме? Ты сама за него ратовала столько лет.
– Не передергивай, милый. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Поверил наглой бабе из какой-то Кинешмы…
– Коломны, мама, – тихо поправлял отец.
– Кинешма, Коломна, какая разница!.. Великовозрастен и сед, а купился на грязную инсинуацию, как ребенок! Господи, ты же знаешь, на что способны иезуитки из провинции. Вспомни Маняшу, нашу домработницу! Ушла со скандалом, да еще сервиз из кузнецовского фарфора прихватила. А Аристарх Дмитриевич этот сервиз обожал. И академик Асатиани тоже. И членкор Перельман! Ты только вспомни…
– При чем здесь кузнецовский фарфор? При чем здесь членкор с академиком?!
– Сервиз – всего лишь наглядный пример, так сказать, иллюстрация…
– И слава богу, что прихватила! И черт с ним, с сервизом, гори он синим пламенем… Этот сервиз – кошмар моего детства…
– Ну, какая она тебе дочь, скажи на милость?
– Дочь.
– Тупая девица, которая не в состоянии построить даже сложноподчиненное предложение, не может быть твоей дочерью!
– Она – моя дочь. – Вот он и наступал, момент, когда в тихом голосе отца появлялся металл. – Она моя дочь, и тебе придется с этим смириться.
Перед металлом Виктория Леопольдовна со всей ее хрупкой брезгливостью была бессильна. Оставалось только по обыкновению скорбно поджать губы и вперить взгляд в поясной портрет академика Аристарха Шалимова кисти художника Павла Корина. Что Виктория Леопольдовна и проделывала – в качестве ритуального жеста.
– Счастье, что Аристарх Дмитриевич не дожил до помешательства единственного сына!
– Не клевещи на отца! – взвивался Анатолий, тут же, впрочем, затихая. – Уж он-то меня бы понял. Уж он-то был бы счастлив, что у него такая внучка!..
Лена, как правило, слушала эту тихую интеллигентную перебранку, затаившись у дверей своей комнаты. Ее охватывал ужас от одной только мысли, что старая карга права и что ее отец может оказаться не ее отцом. Она часами простаивала перед портретом академика, ища – в нем и в себе – черты фамильного сходства. Она вдоль и поперек изучила все альбомы с фотографиями: оказалось, что в молодости карга Виктория Леопольдовна была о-го-го как привлекательна, ее муж академик Аристарх Дмитриевич о-го-го как представителен, а отец Лены…
Для отца Лены не было никаких сравнений. Он был самым лучшим. Он был ее отцом, вот и все. Самым умным, самым добрым, самым красивым. Ради него стоило маяться на мехмате, ради него стоило подучить сложноподчиненные предложения. И сложносочиненные заодно.
Внезапно вспыхнувшая любовь к отцу делала свое дело: Лена стремительно образовывалась. И преображалась. Не без его помощи, конечно. Через год в строгой темно-рыжей девушке уже нельзя было признать коломенскую тетеху с рыхлым подмосковным говором. В ней (откуда что берется?!) появился даже тот особый – поджарый и холодноватый – шарм, который так свойствен коренным петербуржцам. За Леной теперь бегала половина факультета, включая залетных почасовиков, приблудных аспирантов и агрессивно настроенных старших преподавателей. Но это была лишь пародия на мужчин. Отец – совсем другое дело…
Несмотря на явный Ленин прогресс, отношения с Викторией Леопольдовной не налаживались. Напротив, они становились все нетерпимее. Старую каргу бесили метаморфозы, происходящие с внучкой-самозванкой.
– А вы не столь простодушны, сколь казалось на первый взгляд, милочка. Стоит ли так себя истязать хорошими манерами? Ведь выше головы не прыгнешь…
«И настоящей Шалимовой не станешь, хоть на пупе извертись, – припечатала бы старуха, не будь она такой интеллигентной. – Мерзавка, воровка, пришлая девка!»
С некоторых пор Лена научилась не обращать внимания на мелкие укусы старой карги. Что ей Виктория Леопольдовна, когда рядом отец? Он рядом, и это счастье.
…Счастье закончилось внезапно. Рухнуло, оборвалось, рассыпалось в прах.
Отец умер от обширного инфаркта. Накануне они отмечали Ленино двадцатилетие – в небольшом чопорном ресторанчике на Невском. Было сумасшедше весело, немножко грустно и невыразимо сладко – словом, все было как всегда, когда они оставались вдвоем и никто не мешал им. Кроме официанта, который менял пепельницы через каждую минуту вместо положенных трех. И исподтишка поглядывал на Лену.
– По-моему, ты ему понравилась, – шепнул отец, когда официант в очередной раз удалился. – По-моему, он готов сделать тебе предложение.
– Не говори глупостей, папа!
– Нет, правда. И я даже знаю, о чем он думает. Думает, что ушлый старикашка отхватил самую прекрасную девушку из всех самых прекрасных девушек.
– Ну, какой же ты старикашка? – Выпитое шампанское вдруг самым предательским образом ударило Лене в голову. – Ты – импозантный зрелый мужчина на пике формы. Только такие мужчины и могут быть хозяевами жизни.
– Сила молодости еще сохранилась, а мудрость старости уже пришла? – Отец подмигнул Лене. – Тогда не будем его разочаровывать.
– Не будем.
Отец поднялся, обошел столик, галантно поклонился и, поцеловав Лене руку, пригласил ее на танец. Вот так-то, господин официант!
– Ты хорошо танцуешь, – сказал отец, склоняясь к Лениному уху.
– И ты, – после небольшой паузы ответила Лена.
Должно быть, они подумали об одном и том же.
– Рано или поздно он появится. И ты уйдешь от меня.
– Совсем необязательно уходить. – Лена положила голову на грудь отца.
– Даже если ты не уйдешь, ты все равно уйдешь.
– Успокойся. Никто тебя не заменит. Никогда.
– Если бы ты только знала, как я жалею о каждом дне, проведенном вдали от тебя! Ты знаешь, сколько их было, этих дней?
– Сколько?
– Я подсчитал. Шесть тысяч пятьсот семьдесят. Или около того. Если бы твоя мать не написала мне… Страшно даже представить…
– Но теперь-то я с тобой! И знаешь, тот, который появится, рано или поздно, думаю, он будет похож на тебя. Он будет вылитый ты…
На следующее утро отец не вышел к общему завтраку. Это было вопиющим нарушением распорядка, за которым строго следила Виктория Леопольдовна. Отец никогда не нарушал распорядка. Он не нарушил бы его и сейчас, если бы не умер. Во сне. Сердце, полное любви к Лене и любви к матери, не вынесло глухой стены вражды между ними. Он умер, и никаких общих завтраков больше не будет. И ничего не будет.
Ничего.
Похороны Лена помнила смутно. Скромные, приглушенные похороны. Пришли друзья отца по университету и несколько соратниц Виктории Леопольдовны – таких же, как она, академических вдов. На Лену вдовы подчеркнуто не обращали внимания. Плевать ей было на их внимание. Плевать ей было на все.
Отец – вот кто был важен ей. И теперь его не стало.
И Лены не стало. То есть существовала темно-рыжая оболочка, но под этой оболочкой все выгорело дотла. Выгорело и покрылось слоем золы.
Пепелище.
Именно на это пепелище и пришла Виктория Леопольдовна.
– Я жду вас к завтраку уже десять минут, милочка, – сказала она, как обычно поджимая губы. – Вы живете в нашем доме два года. Пора бы уяснить, что существуют вещи незыблемые. Не зависящие ни от чего. Ни от чего, вы слышите! Порядки устанавливал даже не… покойный Анатолий. Порядки устанавливал сам Аристарх Дмитриевич. И не вам их менять.
Странно, но именно ненависть старой карги, такая живая, такая восхитительно упругая, ненависть с бровями вразлет, горячечным румянцем и юным блеском глаз, – эта ненависть и вытянула Лену. Теперь они с Викторией Леопольдовной цеплялись за свою взаимную неприязнь, чтобы заглушить чувство потери. Все лучше, чем ничего. Неприязнь не прошла даже тогда, когда старая карга слегла. Чтобы больше никогда не подняться. Молодой врач-интерн, пришедший освидетельствовать больную, видимых нарушений опорно-двигательного аппарата не обнаружил, отчего у больной отказали ноги, объяснить не смог и назначил Лене свидание, что было совсем уж бесперспективно. Лена вежливо отказала, а интерн еще долго витийствовал о неизученной природе такого вот паралича на нервной почве.