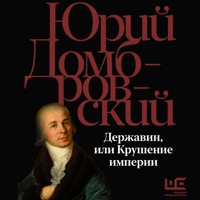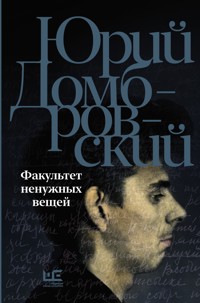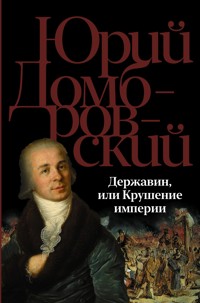
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Юрий Домбровский: проза
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Державин, или Крушение империи" — первый и неоконченный роман, опубликованный в 1937–1938 годах, что теперь кажется невозможным для тех лет, в журнале "Литературный Казахстан". Молодой подпоручик Гавриил Державин (еще не знаменитый поэт и не важное государственное лицо) должен поймать мятежного каторжника Пугачева, назвавшегося именем покойного императора. Державин Домбровского не хочет быть палачом, но и отступать от существующего порядка не собирается, он — "человек правил" и видит, что "кругом измена". "Но мятежи, — сказал Державин, — но кровь, затопившая землю, но пожары, виселицы? Ведали ли вы, что творили? Вы, как человек образованный, как могли сию ослепленную толпу за собой повести?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Юрий Домбровский Державин, или Крушение империи
© Домбровский Ю. О., наследники
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024
© Государственный исторический музей, Москва, 2024
© ООО “Издательство АСТ”
Глава первая Генерал смотрит в окно
I
Генерал смотрит в окно. На улице мороз. Свежий ветер раскачивает фонари и срывает шапки с прохожих.
Через стекло дверей генерал видит статуи, застывшие в странных позах. Он всматривается, прищуривая близорукие глаза. Но дальше, в глубине передней, царит подводный мрак, и он может различить только занесенные руки, полусогнутые колени, вскинутые головы, выгнутые груди.
Толпа зевак стоит около дверей.
И почему их не гонят, – думает генерал.
Если смотреть с улицы, тела богов кажутся синеватыми от сумерек и плохого стекла.
Зеваки смеются.
Ветер. Мороз. Снег.
Гости всё еще продолжают прибывать. Вышел из кареты старик, поддерживаемый двумя слугами. Он еле бредет, нащупывая неверной ногой снежную дорогу. Офицер в домино вылезает из дешевой наемной кареты. Он смугл, худощав, длиннолиц. При ходьбе стан его сохраняет ту деревянную неподвижность и стройность, когда кажется, что даже колени издают звук сокращающейся пружины. Как он идет! Как он идет! Генерал доволен. Муштра, выучка! Хорошая военная школа. Молодец! Молодец!
Он встает со стула и, хромая, отходит от окна.
В дальнем зале гремит музыка и слышится дробный стук каблуков.
Там танцуют.
Наклонив набок большую кудлатую голову, он прислушивается. Нет, эта музыка ему незнакома. Впрочем, он отмечает плохую сыгранность отдельных партий, недостаточную отчетливость басовых нот… От этого звук получается сиплым и волокнистым.
Он недовольно качает головой. Впрочем, темп и беглость исполнения удовлетворительные. Что они играют? Он нахмуривает брови и закрывает глаза. Нет, эту пьесу он не знает и не слышал. Это что-то совсем новое.
Льется легкая, искрящаяся мелодия; на какой-то неслыханно высокой ноте заливается флейта. Глухие тона скрипки только оттеняют ее бравурную истерическую радостность. Почему-то звуки скрипки кажутся ему матовыми. Он вдруг представляет себе всю пьесу как сноп лучей разной силы и протяженности.
Сильнее и глуше всего звучат толстые, короткие лучи.
Выше и чище – тонкие и острые полоски света.
Вся музыка, как паутина, висит в воздухе.
Пауза. Тишина.
Слышно, как расходятся пары.
Скрипят отодвигаемые стулья.
Оркестр начинает играть снова.
Эту пьесу он знает. Барабаня пальцами по стеклу, старый заслуженный генерал мурлыкает глупую, наивную песенку, когда-то спетую им любимой женщине; безымянную песенку о мотыльке и пастушке.
Двое влюбленных смотрят на мотыльков.
Пастух и пастушка.
Очень старый генерал стоит у окна и барабанит пальцами по стеклу.
Зима, ветер, китайские фонарики, как спелые плоды, раскачиваются на ветру. Желтый квадрат стеклянной двери вырывает кусок улицы – и тени, попавшие в этот квадрат, внезапно становятся осязаемыми для глаза.
Вот он видит: прошел бравый солдат Преображенского полка, за ним протрусила женщина с туго набитой корзиной, просеменил маленький толстый человек в треугольной шляпе.
И снова никого.
Офицер вылез из кареты и все еще стоит на улице. Теперь он нагнулся, и от его стройной одеревенелости не осталось ничего. Растерянно он шарит по карманам. Глупый, растерявшийся молодой человек.
Стой! Где он видел его? Генерал морщит лоб. Кажется, это один из офицеров его комиссии. Нет, такого у него нет. Он слегка походит на Бушуева, но тот ниже и значительно полнее. Он перебирает по пальцам – Лунин, Маврин, Бушуев, Кологривов, Семенов.
Семенов? Нет, Семенова он знает хорошо. Это не он. Офицер все еще шарит в карманах. Лицо его, наклоненное набок, делается хмурым и серьезным.
Потерял билет! Потерял билет!
Эх, ворона!
Бибиков отходит от окна, так и не вспомнив фамилии офицера.
Скрипит дверь, женщина входит в комнату.
Она сильно нарумянена, черные брови ее подняты кверху, короткое быстрое дыхание звучит в тяжелой груди. Это его крестница, племянница хозяйки дома.
Вдова.
Мужа убили в прошлом году на войне.
Бибиков смотрит на нее, прищурив глаза.
– Александр Ильич, – говорит крестница, – вы совсем забыли нас. Дамы хотят устроить на вас заговор.
Бибиков улыбается одними губами, устало и добродушно. Со стороны это должно выглядеть так: старый заслуженный генерал, кряхтя, разговаривает со своей крестницей.
– Устал, ангел мой, – говорит он с легкой хрипотцой. – Годы уже не те, да и ноги изменяют. Мне уж, ангел мой, не до балов. Как-никак, 45 лет стукнуло.
Крестница смотрит на него с недоверчивой улыбкой.
Бибиков качает головой.
– Стар, стар становлюсь, моя прелесть. Мне теперь уж о покое думать нужно, а не о светскости, – он показывает одной рукой на парализованную ногу. – Видишь, – говорит он печально и значительно. – Одной ногой в гробу.
Музыка.
Вальс.
Девушка подходит к окну.
Бибиков смотрит на нее прищурившись. Молодая, стройная, красивая! Вздор, что ему 45 лет! Он еще далеко не старик. А если взять горелки и танцы, то он даст сто очков вперед каждому молокососу, не говоря уже об охоте и стрельбе в цель. Руки у него не дрожат, глаз зорок и точен. Это не шутка, что он попадает на лету в ласточку.
Крестница, не отрываясь, смотрит в окно.
Девочка, девочка, ты напрасно улыбаешься. Он ушел из залы не потому, что ему тяжело принимать участие в играх молодежи, не потому, что он получил важное назначение и теперь ничто не идет ему в голову. Нет, он – солдат и привык в точности выполнять боевые приказы. Его посылали на усмирение польских конфедератов – он шел туда, не моргнув глазом. Его заставляли пороть, вешать, приводить к присяге непокорных крепостных – он делал это. Ему предписали отправиться на театр турецких военных действий – он попросил только разрешения на три дня проехать в Москву. Теперь, после того, как Кар убежал, брося на произвол судьбы вверенное ему войско и оренбургского губернатора, зажатого, как мышь в ловушке, в осажденном городе, его посылают на край киргиз-кайсацких степей ловить этого неуловимого каторжника Пугачева, назвавшегося именем покойного императора. Что же, он принимает и это назначение.
А не идет он в залу потому, что возвращается его старая болезнь, захваченная во время польской кампании. И сейчас у него кислит во рту и в висках и все тело дрожит мелкой противной дрожью. Во время приступа этой болезни он видит, как вещи выходят из своих осей и делаются двойными. Морщась от боли, он смотрит на двойную лампу, на две кушетки, на четыре канделябра на столе и на камине. Даже собственный голос отдается от него и становится чужим. Он слышит свои слова как речи третьего лица; они, кажется, даже немного запаздывают по сравнению с его мыслями.
Мир двоится.
Очень неприятное и болезненное ощущение.
Крестница, не отрываясь, смотрит в окно.
Он глядит на ее обнаженную шею и вдруг о чем-то догадывается.
– Есть ли, – спрашивает он, – среди приглашенных поручик, роста высокого, собою статен и прям, лицо длинное и худощавое, лет никак не больше тридцати? Я где-то с ним встречался, – говорит Бибиков небрежно, – да вот фамилию запамятовал.
– Да, есть, – говорит крестница, и шея у ней вспыхивает, – это подпоручик Преображенского полка Державин.
II
Подпоручик Преображенского полка Державин поднимается по лестнице и входит в зал. По старой привычке он смотрит по сторонам, но знакомых нет. Не такое это общество, чтобы приглашать сюда Максимова, Толстого, Протасова и других его собутыльников. Надо сознаться, что ему чертовски повезло. Есть люди, которые годами добиваются, чтобы попасть в этот дом, и готовы заплатить любые деньги, чтобы только краешком глаза посмотреть на эти блистательные пары. А ему это ровно ничего не стоит. Ни трудов, ни хлопот, ни денег. Денег!
Он усмехается.
Матушка Фекла Андреевна пишет из Казани, что мужики совсем перестали платить оброк. Как прислали в октябре воз мороженой птицы да полтораста рублей, так больше ничего и не шлют. Хитрят мужики, жмутся, прячут в солому ружья да топоры, ждут своего царя. Ну погодите, бестии! Будут вам вместо царя кнуты да глаголь. Церемониться ведь с вами не станут! Что-то слишком часто вы себе царей находите! Нынешний-то царь – седьмой по счету.
Он проходит по залу мимо группы гладиаторов. Через корзину с живыми цветами на него глядят откинутые головы с белыми слепыми глазами, высовываются полусогнутые руки, блестят копья. Воин лежит на боку, склонив голову. Мраморная кровь хлещет из его раны.
Он смотрит на эту нарядную, выточенную из мрамора смерть и думает о себе.
Неудача преследует его по пятам. Можно ли представить себе жребий более несчастливый? Десять лет, проведенные в солдатчине, дали ему опыт и закалку, но не дали ни денег, ни чинов, ни чести. Другие его сверстники, куда менее острые и трудолюбивые…
Из зала доносится музыка.
Мимо него проходят замаскированные пары.
Идет, хромая, переваливаясь с ноги на ногу, толстый китайский мандарин с дюймовыми ногтями.
Идет араб под руку с киргизским ханом.
Идет кот в малиновом берете с пером.
Идет черный рыцарь с крестом на щите.
Крылатый ангел смерти, без косы, с песочными часами в руках, проносится мимо него.
И снова идут – араб, рыцарь, кот, мандарин.
Ангел смерти возвращается и берет его под руку.
– Идемте, – говорит ангел.
Толстый мандарин появляется на минуту в дверях, смотрит на них и, припадая на одну ногу, уходит обратно.
* * *
Рука в руку они сидят на малиновом диване.
Синеватое зеркало отражает песочные часы и белые крылья, валяющиеся на полу. Державин тоже снял домино и отирает пот с лица.
Девушка в костюме ангела наклоняется над ним. Голос у нее дрожит.
– Гаврила Романович, – говорит она, – я вижу в вас дух смутный и недовольный, вы таитесь и бежите от меня. Нельзя ли представить любовницу более несчастливую?
Державин молчит, хмуря непокорные мальчишеские брови.
Ангел прижимает руки к левой стороне груди.
– Откройте мне ваше опасение, – говорит она умоляюще, – ибо сердце мое разорвано в клочья.
Державин рывком поворачивает свое тяжелое, длинное лицо, и в глазах его вспыхивают злые искры. Она хочет знать все? Отлично! Пусть тогда слушает!
– Неудача преследует меня по пятам, – говорит он грубо. – Мои сверстники произведены в генералы, я же имею токмо чин подпоручика. Кус, брошенный со стола! Ныне я замыслил одно дело, но и тут мои карты оказались битыми.
– Какое? – спрашивает ангел. Он смотрит на нее и думает.
Сказать – не сказать, – она, конечно, может помочь ему. Бибиков послушался бы ее, но лукавый женский пол больше всего боится разлуки.
Сказать или не сказать?
Он поднимает голову и видит, что лицо у ней стало совсем белым. Она, конечно, знает обо всем, и может быть, даже от самого Бибикова.
Сказать или не сказать?
Сказать!
* * *
А дело обстояло так.
Как только он по слухам узнал, что Кар получил абшид и на его место назначен Бибиков, он сейчас же решил использовать это назначение.
Бибикова он знал по рассказам давно.
Из уст в уста то шепотом, с сочувственным покачиванием головы, то громко со смехом и шутками насчет тугого генеральского разумения, передавалась история о его ко-мандировке к голштинским принцессам. Через год после восшествия на престол Екатерина, желая удалить из России опасных соперниц, задумала послать верного и острого человека, чтобы узнать о состоянии духа и планах на будущее опасных претендентов. Человек, посланный на разведку, назвал императрице генерала Александра Ильича Бибикова. Он ей показался, и она немедленно отправила его, снабдив целым ворохом чрезвычайнейших инструкций и наставлений. Он очень скоро вернулся к императрице, исполнив все точно и аккуратно: заговорил принцесс, вошел к ним в доверие и самым подробным образом информировал Екатерину о всех тайных и явных планах узников.
Императрица слушала его благосклонно.
Придворные перешептывались.
Все предвещало быструю и легкую карьеру.
Однако всему помешал случай и непоседливый генеральский нрав; когда зашел разговор о личном свойстве семьи голштинских принцесс, бравый генерал вдруг совсем неприлично ударил себя рукой по коленке и стал расхваливать необычайные достоинства одной из пленниц.
– Но они захватчики и авантюристки, – с удивлением возразила Екатерина ретивому генералу по-французски.
– Нужды нет, ваше величество, – ответил Бибиков по-русски. – Нрав у ней преизрядный, мила, хороша собой и обходительна.
Императрица ответила очень сухо, и разговор прекратился.
Никакого награждения Бибиков за эту комиссию не получил.
Зато теперь внезапное назначение опального генерала изумило и обрадовало многих. Поражение Кара, вынужденное бездействие Деколонга, долгая упорная осада Оренбурга, дни которого, видимо, были все-таки сочтены, – все это поселило в умах жителей столицы сильные опасения. А тут еще, как назло, пришло известие, что Кар убежал, оставив войско на произвол судьбы. Шепотом передавали подробности. Военная канцелярия немедленно послала ему навстречу гонца с требованием вернуться обратно. Гонец встретил бравого генерала на 30-й версте от Москвы и передал ему пакет. Кар прочитал его, на минуту задумался, потом махнул рукой и все-таки поехал в Москву. Скандал произошел грандиозный. В Петербург генерала не пустили. Из дворянского клуба, куда он было заехал, выгнали с треском; толпа молодых людей провожала его до двери с гиканьем и свистом. Императрица поторопилась снять с него должность и назначить Бибикова, только что вернувшегося из Польши. Обо всем этом до Державина доходили слухи смутные и противоречивые.
Верно было, однако, то, что Кара разжаловали и на его место назначили Бибикова, который набирает офицеров в тайную комиссию, долженствующую обосноваться в Казани.
Услыхав о Казани, Державин решил попытать счастья. Он был уроженцем этого города.
* * *
Обо всем этом он рассказал нехотя и с большими пропусками. Но еще менее подробно он описывал свое посещение Бибикова. Он просто сказал, что его не приняли.
А на самом деле все произошло так.
Бибиков встретил молодого офицера очень ласково и сразу заинтересовался его предложением.
– Так, значит, вы оный город знаете как старожил? – переспросил он.
Державин подтвердил, что – да, город он знает. Еще бы ему не знать его, когда он уроженец Казани. Его матушка имеет там свой домик в Татарской слободке.
– Татарской слободке? – переспросил Бибиков. – Это ведь, кажется, самая оконечность города?
– Да, да, самая оконечность, его превосходительство хорошо знает город.
– Еще бы, – улыбнулся Бибиков. – Еще бы не знать. – Город, в котором он десять лет тому назад был по именному повелению императрицы. Он там прожил что-то около двух месяцев. Хороший город.
Потом он хмурит брови и спрашивает:
– А чем же вы можете быть полезным комиссии?
Державин приготовился к этому вопросу, он начинает перечислять. Он знает отлично все окрестности Казани – раз; затем: знаком с большинством жителей – это тоже очень важно – два.
– Очень важно, – серьезно подтверждает Бибиков. – А язык вы какой-нибудь знаете?
– Немецкий и татарский, – отвечает Державин.
Бибиков смотрит на него тяжело и неподвижно.
– Так, так, – говорит он, – ну, а по розыску вы когда-нибудь работали?
Державин отрицательно качает головой. Нет, но он понимает кое-что и в этом.
– А именно? – переспрашивает Бибиков.
Ну, если его превосходительство так интересуется, то он работал одним из секретарей комиссии по составлению Уложения.
– А! – Бибиков улыбается и встает с места. – Стрелять, ездить на лошади хорошо умеете? – спрашивает он неожиданно.
Державин утвердительно кивает головой, в полку он всегда считался незаурядным стрелком.
Почему-то Бибикова это интересует в особенности. Он переспрашивает его еще раз: на каком расстоянии он может попасть в цель и сколько даст промахов из ста возможных.
– В молодости, – говорит Бибиков с гордостью, – я сбивал, сударь, яблоко с ветки пистолетным выстрелом и попадал в летящую птицу. Теперь уж так не стреляют.
Он улыбнулся.
– А на конях мы ездили, сударь, как те киргизские наездники, в гости к коим мы сейчас отправляемся. Лошадь и человек сливались в одно тело. – Он грустно качает головой. – Теперь уж, сударь, так не ездят.
Потом, что-то вспомнив, быстро встает с места и сует Державину сухую и прямую, как дощечка, руку:
– Премного обязан за приятный случай знакомства, – говорит он скороговоркой. – Но, к крайнему сожалению, все места заняты. Если б вы пришли вчера вечером…
Он сам провожает его до двери и еще раз дает руку.
– Очень жаль, – говорит он тихо и искренне, – очень жаль, сударь, что вы опоздали. Но штат у нас твердый, а места все заняты…
– Я вышел на улицу, – говорит Державин, – с сердцем разбитым и сокрушенным. Все мои надежды разрушились.
Девушка кладет ему руку на плечо.
– Итак, вы хотели бросить меня, – говорит она жалобно.
Державин, вспыхнув, вскакивает с места.
Вот и толкуй с бабой. Это она только и поняла из всего разговора. Она прежде всего думает о себе.
– Я жить хочу, Катрин, – говорит он тихо. – Понимаете, жить, а не пресмыкаться. Ну что это за жизнь? Грязные казармы, какие-то цветы на подоконниках, разбитые стекла, грязь, духота. Утром муштра, вечером игра в карты – кто кого обдует. А днем – сон до вечера. Максимов, Семенов, Толстой.
– А меня, – спрашивает Катрин. – Меня вы забыли, Гаврюша.
Державин до хруста заламывает руки.
– Люди в мои годы, – хрипло говорит он, – другие люди – имеют чины, деньги, почет, знатность, а я играю в карты – благопристойно, благопристойно, Катрин, – но играю. Пью водку, пишу скверные любовные стихи, езжу по балам – разве так живут? А если б я был в случае – какие дела бы я сделал!
Катрин молчит.
– Какие дела я бы сделал! – повторяет он, закрыв глаза.
Толстый мандарин незаметно смотрит на них из двери.
Стоят песочные часы, валяются на полу белые лебединые крылья, горят свечи. Державин вдруг соскакивает с кресла и кладет руки ей на плечи.
– Слушай, – горячо шепчет он, – я ведь знаю – Бибиков твой крестный отец, он для тебя все сделает. Дорогая, хорошая, милая, замолви за меня слово, скажи ему только мою фамилию, умоли, чтобы он принял меня в комиссию. Ну что тебе стоит! – Она качает головой. – Я приеду, я скоро приеду. Год войны считают за десять. Я буду генералом. – Она качает головой. – Я приеду к тебе, и мы повенчаемся. Слышишь? Ладно?
Она качает головой.
– Я буду писать тебе с каждой оказией. Я получу отпуск и приеду сюда и тогда, – он берет обе ее руки и прижимает к груди, – и тогда мы назовем друг друга супругами перед целым миром.
Горят свечи. Валяются на полу лебединые крылья. Бибиков отходит от двери. Он досадливо бросает в угол перчатки с длинными ногтями мандарина. Он устал, он болен, он стар… ведь ему все-таки 45 лет. Чего они все хотят от него?
Державин вскакивает с колен.
– Хорошо, – говорит он, стиснув зубы. – Не хочешь, не надо. Я сам себе сделаю карьеру. Я еду на архипелаг, и ты больше меня никогда не увидишь.
Разгневанный и статный, он быстро идет по залу: она едва поспевает за ним в своем тяжелом белом платье.
Маска, песочные часы, домино валяются на полу.
– Гаврюша! – кричит она, задыхаясь. Он идет, не оборачивается.
– Гаврюша! Постой!
Колени у ней гнутся и голос срывается, как на ветру.
– Хорошо, я сделаю все.
Он останавливается.
– Но вы уедете, а я умру от отчаяния.
Он улыбается.
Боже мой, какие у него ровные, белые зубы, когда он смеется!
III
Он приехал в Казань 25 декабря. Был первый день рождества, но праздника не чувствовалось. Только кое-где в окнах горели огни и слышалась заглушенная зимними рамами музыка.
Безлюдье города его поразило.
Державин проезжал по пригородной улице. Она была длинна и пустынна, как одиннадцать лет тому назад, в день его отъезда в Москву.
Пешеходов было мало, конные объезды не попадались. Только на одном из перекрестков ярко горел нехороший желтый огонь и толпились люди. С любопытством, почти болезненным, он начал присматриваться. Над толпой, растопырив тяжелые крылья и разбросав маленькие злые головы, с перекрученными языками, как огромная крылатая рептилия, висел двуглавый орел. Здесь был кабак, или, как его продолжали называть в Казани, – кружало. Державин зябко передернул плечами. Он не доверял людским сборищам, они всегда были ненадежны и загадочны. Случай с петербургскими гренадерами припомнился ему отчетливо. И там был такой же мирный разговор о том, что при приближении Пугачева следует положить ружья на землю и бежать к самозванцу. Чувствования черни темны и обманчивы. Никогда нельзя положиться ни на ее приязнь, ни на ненависть. Нелепая сказка самозванца привлекает куда больше доброхотов и сторонников, чем строгая распорядительность истинного правительства.
Возница повернул лошадь, и тут он увидел, что тишина Казани – явление обманчивое и мнимое.
Улица была ярко освещена, шли люди, ехали розовые модные кареты с открытыми окнами.
Молодой офицер, вздымая синие брызги снега, поравнявшись с ним, дотронулся до фуражки и раскланялся. Державин узнал его не сразу. Это был один из следователей секретной комиссии. Доехав до поворота, офицер вдруг обернулся в его сторону и что-то крикнул. Державин знаком показал, что не слышит. Тогда офицер приложил руку ко рту и крикнул еще раз. При этом он смеялся и левой рукой показывал на бока.
Офицер был пьян.
Державин с неудовольствием вспомнил, что познакомил их Максимов во время одной из чересчур уж пьяных и откровенных попоек. Тогда этот офицер метал талию и все время подмигивал Максимову, который проигрался и был сильно не в духе. В конце игры вспыхнула ссора, и офицер четким, хорошо заученным движением схватился за подсвечник. Максимова, совершенно пьяного, быстро вытолкнули из комнаты. Кажется, он, Державин, спьяна полез тогда удерживать пьяных и уговаривал их успокоиться.
Еще одна повозка проскакала мимо него. Пьяные офицеры сидели в ней. Один из них в расстегнутом мундире, с бессмысленными добрыми глазами, серьезно и строго посмотрел на Державина и вдруг расхохотался. Его сосед тонкий, большеглазый, как птица, – Державин знал, что это секретарь главнокомандующего, – серьезно и почтительно с ним раскланялся. Потом обернулся к своему соседу и стал что-то ему говорить, качая головой. Державин, боясь, чтобы они не остановились, сильно толкнул ногой своего возницу, и они проскакали дальше.
Снова пошли улицы – узкие, кривые и безлюдные; на мостовой лежал пушистый кристаллический снег, лишь кое-где прорезанный блестящими желтыми полосами. Здесь мало ходили и еще меньше ездили.
Стояли деревянные домики, трухлявые и черные, как застигнутые первым снегом поганки. Баба шла к журавлю, скрипя пустыми ведрами. Не попадалось ни офицера, ни розовых карет с открытыми шторами. Желтый огонь кружала снова привлек его внимание. Около него стояло человек десять, и один из толпы, видимо, сильно пьяный, сидел на снегу и, закинув голову, горланил песню про Ваньку-ключника. Увидев Державина, он вдруг забеспокоился, перестал петь и украдкой толкнул своего соседа. Уже подъезжая к дому, Державин вдруг понял причину смеха офицера и удивления пьяного.
На нем был простой мужицкий нагольный тулуп, купленный им за три рубля в Москве.
Из-под тулупа высовывалось длинное острие офицерской шпаги.
IV
Он остановился в доме своей матери. Дом был настолько ветх и дряхл, что звучал во время непогоды как поющая раковина. В трубе жил испокон веков какой-то особенно упорный и голосистый домовой, который во время бури умел петь на два голоса. Но и вообще дом был всегда полон звуками: трещали половицы, осыпалась известка, гудел ветер на чердаке, шуршали в бумагах полчища тараканов.
Мать Державина – Фекла Андреевна – неслышно плавала в жилом сумраке этих поющих развалин. В последние дни она не находила себе места. Известие о самозванце волновало ее особенно. Ее оренбургские земли были под явной угрозой. Мужики, приезжавшие с той стороны, молчали или пороли такую чушь, что Фекла Андреевна только махала руками. Втайне от сына она плакала и видела пророческие сны. Ей почему-то верилось, что Самара уже взята злодеями и Оренбург доживает последние дни. Несколько раз она попробовала говорить с сыном, но он был заражен таким бешеным оптимизмом, так не понимал ее хозяйские опасения и чаяния, говорил так отрывисто и резко, с трубным звуком в голосе, что она сейчас же умолкала и уходила плакать в свою комнату.
Впрочем, сына она видела мало. Он или сидел в своей комнате, составляя какие-то диковинные бумаги, которые потом тщательно сжигал в печке, или ходил по знакомым праздновать рождество.
Возвращался, впрочем, он задумчивый и не пьяный. И никогда его посещения не были особенно длительными. Он приходил из гостей не позже десяти часов.
V
Державин не ходил по гостям. Он сразу отгородил себя от света тонким и острым делом.
Он ходил по постоялым дворам и слушал.
На нем был нагольный трехрублевый тулуп и тяжелая меховая шапка.
Извоз шел плохо, но мужики были в возбужденном состоянии. Они сидели кружком за столом, говорили о своих делах и мало обращали внимания на молчаливого длиннолицего человека, сидевшего в углу за кружкой пенника. Державин скоро привык к тому, что разговор строился по определенному плану.
Громко говорили о погоде, о деревенских непорядках, о семейных делах (это было самое начало разговора), тише – крупным, громким шепотом – о господах и совсем снижали голос, когда речь касалась недавних событий. Об этих событиях говорили долго и рьяно, приближая головы через столы, размахивая руками и быстро оглядываясь по сторонам.
Иногда случалось, что кто-нибудь приезжал издалека, верст за сто, и тогда его сразу обступало человек пять-шесть.
Полного разговора с начала до конца или даже большого отрывка ему никогда не удавалось услышать, но иногда неосторожно повышенный голос доносил до него две или три фразы. Смысл их был далеко не утешительным. Вор двигался с быстротой фантастической. Он без боя, на черном коне въезжал в город, и духовенство встречало его с крестным ходом. Самара, по слухам, была взята уже давно. Державин больше, чем кто-либо, знал, что это неправда. Реляции, приходившие в военную коллегию, были очень тревожны, но отнюдь не заключали прямой угрозы городу. Да и гарнизон, оставленный в стенах Самары, по словам знающих людей, отличался большой боеспособностью и верностью императрице; и, однако, слушая эти цветистые, полные величайших подробностей рассказы о колокольном звоне при въезде Пугачева в город, о духовенстве, с крестным ходом отворяющем ему ворота, о виселицах на соборных площадях, он уверялся, что они очень похожи на истину.
Если так еще не было, то так непременно будет неделю или месяц спустя.
Державин хватался за голову и уходил из кружала разбитый, как после тяжелой физической работы.
Он знал – измена зрела всюду.
Измена зрела всюду.
Один случай поразил его особенно. Это было, кажется, на третий день после его приезда в Казань. Придя домой из своей обычной прогулки по кружалам, он услышал от дворовых, что из оренбургского имения его матери – он знал, что была где-то такая заброшенная и нищая деревушка, перешедшая по наследству к его матери, – приехал староста с оброком и теперь сидит в гостиной, сдает отчет и вполголоса рассказывает о делах, творящихся в том краю. Стараясь не шуметь, Державин поднялся наверх.
Гостиная находилась в нижнем этаже. Она примыкала с одной стороны к людской, с другой – к длинной и скрипучей лестнице, ведущей на галерею. Державин через черный ход спустился по лестнице и остановился вверху на предпоследней площадке.
Странная картина представилась ему.
Мать – грузная, толстая женщина, с синими цыганскими волосами – сидела в кресле, и пухлые щеки ее блестели от слез.
Рядом с ней стоял маленький бородатый мужичонка, в аккуратной рубахе из белого домотканого холста и уже очень не новых, но опрятно залатанных черных портах.
Свежие, почти сверкающие лапти блестели на его крепких ногах. По всему чувствовался первый хозяин и деревенский краснобай. Мужичонка что-то говорил матери. Иногда он, очевидно, для пущей убедительности, разводил руками и наклонялся к ее лицу. Голос у него был тихий и вразумительный, говорил он медленно и со вкусом, тщательно обдумывая каждую фразу. Державин прислушался.
– А ты сама, милостивица, знаешь, – говорил своим ласковым голосом мужичонка, – какой у нас народ – с бору по сосенке, с горшка по пенке. Ты его за ворот норовишь, а он тебя за руку зубами хватает. И раньше, государыня, изволите знать, каких только слов от него не наслышишься, пока оброк не соберешь, а теперь уж и без оброка не подходи. Осмелел от дурости и как волк зимой – все в стаю, все в стаю норовит. Про молодых-то я уж и не говорю, да и старые теперь все с дубьем да с кольем ходят. Иным часом, матушка, послушаешь, послушаешь, да инда сердце и захолодеет. Господи, владычица, думаешь, да появись в наших краях злодей, так не только все к нему, вору, побегут, еще и в усадьбу красного петуха пустят!
Мать сидела прямая и длинная, крупная слеза ползла по ее щеке.
– Обязательно пустят, – сказала она глухим голосом, – там в барском доме одной утвари на тысячу рублей стои́т.
– На тысячу рублей, – радостно подхватил мужичонка, – да ведь и то сказать, теперь и на тысячу рублей того не укупишь, что в одной барской комнате помещается. Разве теперь где такую мебель делают? Надысь Ивашка Гуськов заходил ко мне да все выспрашивал, сколько, мол, по росписи баринов кабинет стоит и кто его делал – из свойских кто али со стороны.
– Зачем это ему? – испугалась матушка.
Мужичонка вздохнул и переступил с ноги на ногу.
– Да разве злого человека узнаешь? – загадочно сказал он и даже плечами пожал. – Я, милостивица, чужих думок не отгадчик. Я только так, по холопской верности, до тебя довожу.
На какую-то долю минуты оба замолчали.
Матушка шуршала бумагами и вздыхала.
– Да он ровно и мужик-то поведения твердого, не смутьян, не бунтарь, – сказала она наконец.
– Не смутьян, матушка, не смутьян, – охотно подхватил мужичонка. – Про кого, про кого, а про него доподлинно сказать можно, что мужик с рассудком. И бога боится, и властей почитает. Да ведь оно, милостивица наша, и все так. Вот сюды ехал – так слыхал, робята обсказывали, – самарский батюшка, уж на что над людьми высоко поставлен, так и тот, когда Пугачев на черном коне въехал, к злодейской ручке яко к царской деснице прикладывался. А ведь он не нашему хамью чета. На своем веку, наверно, не одну академию превзошел. Наш брат мужик – дурак: кто ему свободу посулит, за тем он потянется. Царицыны войска с ружьями и пушечками, а наш вахлак – с дубьем да с косой прет. Ну и случается, милостивица, что косой царские пушечки и отбивают. А потом из них по командирам да по царским солдатикам палят… Пушка, она, матушка, дура. Ей что по своим бить, что по чужим – все одно.
Державин стоял, притаившись за толстой и неуклюжей, как гриб, деревянной подпоркой. Ласковый голос мужика не внушал ему доверия. Матушка внизу сидела неподвижная и скорбная, как каменная фигура на дворцовом фасаде.
– А надысь что было, – сказал мужичонка и понизил голос до тишайшего шепота, но не слухом, а каким-то шестым чувством Державин все-таки продолжал его слышать. – Приезжал к нам в Богородское черный, носа нет, и говорит как в бочку – бу-бу-бу. Остался ночевать и мужикам советует: вы, говорит, дураки. Как дураками-вахлаками были, так дураками и подохнете. Что вы, говорит, дураки, смотрите. Вы, говорит, как государь приедет, сразу господ по рукам и по ногам, да в ригу. Наш батюшка, говорит, за каждую барскую голову большие деньги платит. А я ему и говорю – у нас, мол, господа ничего, хорошие, да и живут они не здесь, а в городе. А он этак на меня одним глазом повел и говорит – что это у вас за старый невежа объявился? У тебя, говорит, старый невежа, борода по колено, а ума в голове, как у того воробья, что под стрехой. Нет своих господ, так чужих бей. А что хороший барин – так на то пословица есть: “Хвали сено в стогу, а барина в гробу”. Понял? Хотел я тут ему одно слово сказать, да смотрю, мужики как волки ощерились, глаза в землю и молчат, слушают. Вот, матушка, какие у нас дела в деревне делаются. Ивана Горбеца знать изволите? Уж на что лядащий, в чем дух держится, а и тот, почитай, каждый день батюшку ждет не дождется. Вот оно, матушка, какие дела-то.
Фекла Андреевна уже давно не отвечала мужичонке. Она сидела, опустив голову, и плечи ее тряслись.
Тогда Державин спустился на ступеньку ниже.
– Матушка, – крикнул он. – К вам приказчики, в кухне дожидаются.
Фекла Андреевна быстро подняла кверху большие заплаканные глаза и покраснела. Ей было стыдно, что ее умный, взрослый сын застал ее плачущей перед холопом. Она украдкой посмотрела на него. А он уже сошел с лестницы и стоял перед ней прямой и серьезный. Синие глаза смотрели на мать отчужденно, издалека, не любя и не жалея. Старосту он как будто и не видел.
– Я сейчас, Гаврюша, – робко сказала Фекла Андреевна. Собрала бумаги, посмотрела на сына еще раз и вдруг заторопилась к двери. За ней, ковыляя и охая, тронулся было и ласковый мужичонка. Но Державин положил ему руку на плечо, и тот остановился.
– Постой, – сказал он спокойным голосом. – У меня до тебя дело есть. А вы идите, матушка, идите.
Фекла Андреевна увидела, как у сына дрогнула щека, и подумала: “Вылитый отец”.
Приказчиков в кухне она не застала. Но когда захотела возвратиться обратно низом, то нашла дверь гостиной запертой.
По галерее подниматься она не решилась.
* * *
А староста до самой своей смерти помнил и неоднократно пересказывал землякам разговор с молодым барином.
– Ты что же, – спросил его молодой барин, – будешь старостой села Богородское?
– Так точно, барин, – ответил староста, чувствуя, что его пробирает дрожь от этого спокойного и неподвижного голоса. – Осьмнаддатый год по барской воле в Казань хожу.
– Так, говоришь, неспокойно в деревне? Балуют? – спросил барин.
– Хоть и не балуют, – ответил староста, не зная куда девать глаза, – но если по истине вам обсказать…
– Так вот слушай, – барин взял его за плечи и придвинул к его лицу свое бледное, длинное лицо с расширенными глазами. Дальше он говорил медленно, как гвоздь, вбивая каждое слово в сознание старосты. – Если хоть одна мразь посмеет мыслить к самозванцу, вору и бунтовщику Емельке Пугачеву, то я сам, понимаешь, сам, – он ткнул себя пальцем, – приеду с войсками в деревню и повешу каждого десятого. А всех остальных – буду сечь до потери живота. Понял?
Староста молчал.
– Понял? – спросил, не повышая голоса, молодой барин.
– Понял, – ответил тихо староста.
– А вора “батюшкой” называть не смей, – крикнул Державин и взмахнул кулаком. – Он тебе не батюшка, старый хрыч, а раскольник и беглый казак Емелька Пугачев. Слышишь?
– Как не слыхать – слышу, – хмуро ответил староста.
Барин подошел к двери и отпер ее.
– Иди.
Мужичонка дошел до порога и вдруг остановился.