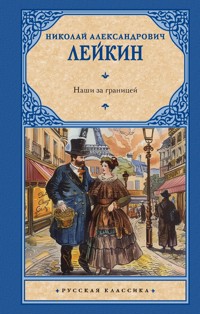Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Азбука-классика
- Sprache: Russisch
Николай Александрович Лейкин — в свое время известный петербургский писатель-юморист, журналист, издатель. Его популярность была колоссальной: поэт А. Блок назвал конец XIX века «эпохой Александра III и писателя Лейкина». А. П. Чехов считал Лейкина своим «крестным батькой»: с начала 1880-х годов Лейкин издавал собственный журнал — юмористический еженедельник «Осколки», к сотрудничеству в котором привлек молодого Антона Чехова, раскрыв его талант. Книга «Наши за границей» — одна из самых известных в творчестве Лейкина. Веселое повествование о путешествиях купца Николая Ивановича Иванова и его жены Глафиры Семеновны, о забавных приключениях и всевозможных недоразумениях, которые случаются с героями в чужих краях, настолько понравилось читателям, что Лейкин написал продолжение — «Где апельсины зреют». На этот раз купеческая чета отправляется в поездку по Французской Ривьере и Италии. Супругам Ивановым предстоит испытать счастье в казино, увидеть Римский форум и древние Помпеи и даже подняться к кратеру Везувия. Лейкинский мягкий юмор по отношению к соотечественникам, отправившимся мир посмотреть и себя показать, и сегодня не утратил актуальности.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Виктории Манацковой
Подготовка текста и комментарии Андрея Степанова
Лейкин Н.
Наши за границей. Где апельсины зреют : Юмористическое описание путешествия супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии / Николай Лейкин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-26133-4
16+
Николай Александрович Лейкин — в свое время известный петербургский писатель-юморист, журналист, издатель. Его популярность была колоссальной: поэт А. Блок назвал конец XIX века «эпохой Александра III и писателя Лейкина». А. П. Чехов считал Лейкина своим «крестным батькой»: с начала 1880-х годов Лейкин издавал собственный журнал — юмористический еженедельник «Осколки», к сотрудничеству в котором привлек молодого Антона Чехова, раскрыв его талант. Книга «Наши за границей» — одна из самых известных в творчестве Лейкина. Веселое повествование о путешествиях купца Николая Ивановича Иванова и его жены Глафиры Семеновны, о забавных приключениях и всевозможных недоразумениях, которые случаются с героями в чужих краях, настолько понравилось читателям, что Лейкин написал продолжение — «Где апельсины зреют». На этот раз купеческая чета отправляется в поездку по Французской Ривьере и Италии. Супругам Ивановым предстоит испытать счастье в казино, увидеть Римский форум и древние Помпеи и даже подняться к кратеру Везувия. Лейкинский мягкий юмор по отношению к соотечественникам, отправившимся мир посмотреть и себя показать, и сегодня не утратил актуальности.
© А. Д. Степанов, комментарии, 2024 © Оформление.ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024Издательство Азбука®
I
Было около одиннадцати часов вечера. В Марселе в ожидании ниццского поезда, отправляющегося в полночь, сидели на станции в буфете трое русских: петербургский купец Николай Иванович Иванов, средних лет мужчина, плотный и с округлившимся брюшком, его супруга Глафира Семеновна, молодая полная женщина, и их спутник, тоже петербургский купец Иван Кондратьевич Конурин. Путешественники были одеты по последней парижской моде, даже бороды у мужчин были подстрижены на французский манер, но русская купеческая складка так и сквозила у них во всем. Сидели они за столиком с остатками ужина и не убранной еще посудой и попивали красное вино. Около них на полу лежал их ручной багаж, между которым главным образом выделялся сверток в ремнях с большой подушкой в красной кумачовой наволочке. Мужчины не были веселы, хотя перед ними и стояли три опорожненные бутылки из под красного вина и наполовину отпитый графинчик коньяку. Они были слишком утомлены большим переездом из Парижа в Марсель и разговаривали, позевывая. Позевывала и их дама. Она очищала от кожи апельсин и говорила:
— Как только приедем в Италию — сейчас же куплю себе где-нибудь в фруктовом саду большую ветку с апельсинами, запакую ее в корзинку и повезу в Петербург всем на показ, чтоб знали, что мы в апельсинном государстве были.
— Да апельсины-то нешто в Италии растут? — спросил Иван Кондратьевич, прихлебнул из стакана красного вина и отдулся.
— А то как же... — усмехнулся Николай Иванович. — Сам фруктовщик, фруктовую и колониальную лавку [1] в Петербурге имеешь, а где апельсины растут не знаешь. Ах ты, деревня!
— Да откуда ж нам знать-то? Ведь мы апельсины для своей лавки покупаем ящиками у немца Карла Богданыча. Я думал, что апельсины так в Апельсинии и растут.
— Так ведь Апельсиния-то в Италии и есть. Тут губерния какая-то есть Апельсинская, или Апельсинский уезд, что ли, — сказал Николай Иванович.
— Ври, ври больше! — воскликнула Глафира Семеновна. — Никакой даже и губернии Апельсинской нет, и никакого Апельсинского уезда не бывало. Апельсины только в Италии растут.
— Позвольте, Глафира Семеновна... А как же мы иерусалимские-то апельсины продаем? — возразил Иван Кондратьевич.
— Ну, это какие-нибудь жидовские, от иерусалимских дворян.
— Напротив, самые лучшие считаются.
— Ну, уж этого я не знаю, а только главным образом апельсины в Италии, и называется Италия — страна апельсин.
— Вот-вот... Апельсиния, стало быть, и есть, Апельсинский уезд, — подхватил Николай Иванович.
— Что ты со мной споришь! Никакой Апельсинии нет, решительно никакой. Я географию учила в пансионе и знаю, что нет.
— Ну, тебе и книги в руки. Ведь нам, в сущности, все равно. Я хоть в коммерческом училище [2] тоже два года проучился и географию мы учили, но до южных стран не дошел, и отец взял меня оттуда к нашему торговому делу приучаться.
— Ну вот видишь. А сам споришь.
Водворилась легкая пауза. Иван Кондратьевич Конурин аппетитно зевнул.
— Что-то теперь моя жена делает? Поди, тоже похлебала щец и уж спать ложится, — сказал он.
— Что такое? Спать ложится? — усмехнулась Глафира Семеновна. — Совсем даже можно сказать напротив.
— То есть как это напротив? Что ж ей дома одной-то об эту пору делать? Уложила ребят спать да и сама на боковую, — отвечал Конурин.
— А вы думаете, в Петербурге теперь какая пора?
— Как какая пора? Да знамо дело, ночь, двенадцатый час ночи.
— В том-то и дело, что совсем напротив. Ведь мы теперь на юге. А когда на юге бывает ночь, в Петербурге день; стало быть, не может ваша жена теперь и спать ложиться.
Конурин открыл даже рот от удивления.
— Да что вы, матушка Глафира Семеновна... — проговорил он.
— Верно, верно... Не спорь с ней... Это так... — подхватил Николай Иванович. — Она знает... Их учили в пансионе. Да я и сам про это в газетах читал. Ежели теперича мы на юге, то все наоборот в Петербурге, потому Петербург на севере.
— Вот так штука! — дивился Конурин. — А я и не знал, что такая механика выходит. Ну, заграница! Так который же теперь, по-вашему, Глафира Семеновна, час в Петербурге?
Глафира Семеновна задумалась.
— Час? Наверное не знаю, потому это надо в календаре справиться, но думаю, что так час третий дня, — сказала она наобум.
— Третий час дня... Тсс... Скажи на милость... — покачал головой Конурин. — Ну, коли третий час дня, то, значит, жена пообедала и чай пить сбирается. Она после обеда всегда чай пьет в три часа дня. Грехи! — вздохнул он. — Скажи на милость, куда мы заехали! Даже и время-то наоборот — вот в какие державы заехали. То есть скажи мне месяц тому назад: «Иван Кондратьич, ты будешь по немецкой и французской землям кататься» — ни в жизнь бы не поверил, даже плюнул бы.
— А мы так вот во второй раз по заграницам шляемся, — сказал Николай Иванович. — В первый раз поехали на Парижскую выставку, и было боязно, никаких заграничных порядков не знавши, ну а во второй-то раз, сам видишь, путаемся, но все-таки свободно едем. Слова дома кой-какие подучили опять же, и разговорные книжки [3] при нас есть, а в первый раз мы ехали по загранице, так я только хмельные слова знал, а она комнатные, а железнодорожных-то или что насчет путешествия — ни в зуб. Глаша! Помнишь, как мы в первый раз, едучи в Берлин, совсем в другое место попали и пришлось обратно ехать да еще штраф заплатить?
— Еще бы не помнить! Да ведь и нынче из Берлина, едучи в Кёльн, чуть-чуть в Гамбург не попали. А все ты... Потому никаких ты слов не знаешь, а берешься с немцами и французами разговаривать.
— Ну нет, нынче-то я уж подучился. Суди сама, как же бы я мог один, без тебя, вот только с Иваном Кондратьичем ходить по Парижу, пальто и шляпу себе и ему купить, пиджак, брюки и жилет, галстухи и даже в парикмахерскую зайти постричься и бороды нам на французский манер поставить! И везде меня свободно понимали.
— Хорошо свободное понимание, коли из Ивана Кондратьича Наполеона сделали [4], вместо того чтобы самым обыкновенным манером подстричь бороду.
— А уж это ошибка... Тут ничего не поделаешь. Я говорю французу: «Эн пе, но только а ля франсэ [5], пофранцузистее». А он глух, что ли, был этот самый парикмахер — цап, цап ножницами да и обкарнал ему наголо обе щеки. А ведь этот сидит перед зеркалом и молчит. Хоть бы он слово одно, что, мол, стой, мусье.
— Какое молчу! — воскликнул Конурин. — Я даже за ножницы руками ухватился, так что он мне вон палец порезал ножницами, но ничего поделать было невозможно, потому, бороду мою большую увидавши, рассвирепел он очень, что ли, или уж так рвение, да в один момент и обкарнал. Гляжусь в зеркало — нет русского человека, а вместо него француз. Да, брат, ужасно жалко бороды. Забыть не могу! — вздохнул он.
— Наполеон! Совсем Наполеон! — захохотала Глафира Семеновна.
— Уж хоть вы-то не смейтесь, Глафира Семеновна, а то, верите, подчас хоть заплакать, вот до чего обидно, — сказал Конурин. — А все ты, Николай Иваныч. Век тебе не прощу этого. Ты меня затащил в парикмахерскую. «Неприлична твоя борода лопатой для заграницы». А чем она была неприлична? Борода как борода... Да была вовсе и не лопатой...
— Ну что тут! Брось! Стоит ли о бороде разговаривать! Во имя французско-русского единства [6] можно и с наполеоновской бородой походить, — сказал Николай Иванович...
— Единство... Наполеоновская... Да она и не наполеоновская, а козлиная.
— Кто патриот своего отечества и французскую дружбу чувствует, тот и на козлиную не будет жаловаться.
— Тебе хорошо говорить, коли ты здесь с женой, а ведь у меня жена-то в Питере. Как я ей покажусь в эдаком козлином виде, когда домой явлюсь? Она может не поверить, что мне по ошибке остригли. Скажет: «Загулял, а мамзели тебя на смех в пьяном виде и обкарнали». Чего ты смеешься? Дело заглазное. Ей все может в голову прийти. Она дама сумнительная.
— Не бойся, отрастет твоя борода к тому времени. По Италии поедем, так живо отрастет. В Италии, говорят, волос скорее травы растет, — продолжал смеяться Николай Иванович.
В это время показался железнодорожный сторож и зазвонил в колокольчик, объявляя, что поезд готов и можно садиться в вагоны. Все засуетились и начали хватать свой ручной багаж.
— Гарсон! Пейе! Комбьян [7] с нас? — кричал Николай Иванович слугу, приготовляясь платить за съеденное и выпитое.
II
— Toulon, Cannes, Nice, Monaco, Menton, Ventimille! [8] — кричал заунывным голосом железнодорожный сторож, выкрикивая главные станции, куда идет поезд, и продолжая звонить в ручной колокольчик.
Гарсон медленно записывал перед Николаем Ивановичем на бумажке франки за съеденное и выпитое. Николай Иванович нетерпеливо потрясал перед ним кредитным билетом в пятьдесят франков и говорил жене и спутнику:
— Ах опоздаем! Ах уйдет поезд! Бегите хоть вы-то скорей занимать места.
— А что хорошего будет, если мы займем места без тебя и уедем! — отвечала Глафира Семеновна и торопила гарсона: — Плю вит, гарсон, плю вит [9].
Тот успокаивал ее, что до отхода поезда еще много времени осталось.
— Нон, нон, ну савон [10], что это значит! В Лионе из-за этого проклятого расчета за еду мы еле успели вскочить в вагон, и я впопыхах тальму [11] себе разорвала, — говорила Глафира Семеновна гарсону по-русски. — Хорошо еще тогда, что услужливый кондуктор за талию меня схватил и в купе пропихнул, а то так бы на станции и осталась.
— Ah, madame! — улыбнулся гарсон.
— Что, «мадам»? Плю вит, плю вит. И ты тоже, Николай Иваныч, сидишь и бобы разводишь, а нет чтобы заранее рассчитаться! — журила она мужа.
Расчет кончен. Гарсону заплачено и дано на чай. Носильщик в синей блузе давно уже стоял перед путешественниками с их багажом в руках и ждал, чтобы отправиться к вагонам. Все побежали за ним. Иван Кондратьевич тащил свою громадную подушку и бутылку красного вина, взятую про запас в дорогу.
— Les russes... — сказал им кто-то вдогонку.
— Слышишь, Николай Иваныч? Вот и французские у нас бороды, а все равно узнают, что мы русские, — проговорил Иван Кондратьич.
— Это, брат, по твоей подушке. Еще бы ты с собой перину захватил! Здесь, кроме русских, никто с подушками по железным дорогам не ездит. В первую нашу поездку за границу мы тоже захватили с собой подушки, а уж когда нацивилизовались, то теперь шабаш.
Сели в купе вагона, но торопиться оказалось было вовсе незачем: до отхода поезда оставалось еще полчаса, о чем объявил кондуктор спрашивавшей его на ломаном французском языке Глафире Семеновне и в пояснение своих слов поднял указательный палец и пальцем другой руки отделил от него половину.
— Господа! Гарсон-то не соврал. Нам до поезда еще полчаса осталось, — заявила она своим спутникам.
— Да что ты! — воскликнул Николай Иванович. — Вот это я люблю, когда без горячки и с прохладцем. Это по-русски. Тогда я побегу в буфет и захвачу с собой в дорогу полбутылки коньяку. А то впопыхах-то мы давеча забыли захватить.
— Не надо. Сиди, когда уж сел. Ведь есть с собой бутылка красного вина.
Мимо окон вагонов носили газеты, возили на особо устроенной тележке продающиеся по франку маленькие подушки с надписью «Les oreillers» [12].
— Вот с какими подушками французы путешествуют, — указал Николай Иванович Ивану Кондратьевичу. — Купят за франк, переночуют ночь, а потом и бросят в вагоне. А ты ведь таскаешь с собой по всей Европе в полпуда [13] перину.
— Да что ж ты поделаешь, коли жена навязала такую большую подушку, — отвечал тот. — «Бери, — говорит, — бери. Сам потом рад будешь. Приляжешь в вагоне и вспомнишь о жене».
Глафира Семеновна прочла надпись на тележке с подушками и сказала:
— Вот поди же ты: нас в пансионе учили, что подушки по-французски «кусен» называются, а здесь их зовут «орелье» [14]. Вон надпись — «орелье».
— Цивилизация здесь совсем другая — вот отчего, — отвечал Николай Иванович. — Здесь слова отполированные, новомодные, ну а у нас все еще на старый манер. Ведь и у нас по-русски есть разница. Да вот хоть бы взять фуражку. В Петербурге, по цивилизации, она фуражкой зовется, а поезжай в Углич или в Любим — картуз.
Сказав это, он снял с себя шляпу котелком и, достав из кармана мягкую дорожную шапочку, надел ее на голову.
— И не понимаю я, Иван Кондратьич, зачем ты себе такой шапки дорожной не купил! И дешево, и сердито, и укладисто.
— Да ведь это жидовская ермолка. С какой же стати я, русский православный купец...
— Да и я русский православный купец, однако купил и ношу.
— Мало ли что ты! Ты вон в Париже улиток из раковин жрал, суп из черепахи хлебал, а я этого вовсе не желаю.
— Чудак! Выехал за границу, так должен и цивилизации заграничной подражать. Зачем же ты выехал за границу?
— А черт знает зачем. Я теперь и ума не приложу, зачем я поехал за границу. Ты тогда сбил меня у себя на блинах на Масленой [15]. «Поедем да поедем, все заграничные трактиры осмотрим, посмотрим, как сардинки делают». Я тогда с пьяных глаз согласился, по рукам ударили, руки люди разняли, а уж потом не хотел пятиться, я не пяченый купец [16]. Да, кроме того, и перед отъездом-то все на каменку поддавал [17]. Просто, будем так говорить, в пьяном виде поехал.
— Так неужто тебе за границей не нравится? Вот уж ты видел Берлин, видел Париж...
Иван Кондратьевич подумал и отвечал:
— То есть как тебе сказать... хорошо-то оно хорошо, только уж очень шумно и беспокойно. Торопимся мы словно на пожар. Покою никакого нет. У нас дома на этот счет лучше.
— Ах серое невежество!
— Постой... зачем серое? Здесь совсем порядки не те. Вот теперь пост Великий, а мы скоро́м жрем [18]. Ни бани здесь, ни черного хлеба, ни баранок, ни грибов, ни пирогов. Чаю даже уж две недели настоящим манером не пили, потому какой это чай, коли ежели без самовара!
— Да, чай здесь плох, и не умеют его заваривать, — согласился Николай Иванович. — Или не кипятком зальют, или скипятят его.
— Ну вот видишь. Какой же это чай! Пьешь его и словно пареный веник во рту держишь.
— Зато кофей хорош, — заметила Глафира Семеновна.
— А я кофей-то дома только в Христов день [19] пью. Нет, брат, заскучал я по доме, крепко заскучал. Да и о жене думается, о ребятишках, о деле. Конечно, над лавками старший приказчик оставлен, но ведь старший приказчик тоже не без греха. Из чего же нибудь он себе двухэтажный дом в деревне, в своем месте, построил, когда ездил домой на побывку. Двухэтажный деревянный дом. Это уж при мне-то на деревянный дом капитал сколотил, ну а без меня-то, пожалуй, и на каменный сколотит, охулки на руку не положит [20]. Знаю, сам в приказчиках живал.
— Плюнь. У хлеба не без крох.
— Расплюешься, брат, так. Нет, я о доме крепко заскучал. Веришь ты, во сне только жена, дом да лавки и снятся.
— Так неужто бы теперь согласился, не видавши Ниццы и Италии, ехать домой?
— А ну их! На все бы наплевал и полетел прямо домой, но как я один поеду, коли ни слова ни по-французски, ни по-немецки?.. Не знаю, через какие города мне ехать, не знаю даже, где я теперь нахожусь.
— В Марселе, в Марселе ты теперь.
— В Марселе... Ты вот сказал, а я все равно сейчас забуду. Да и дальше ли это от Петербурга, чем Париж, ближе ли — ничего не знаю. Эх, завезли вы меня, черти!
— Зачем же это вы, Иван Кондратьич, ругаетесь? При даме это даже очень неприлично, — обиделась Глафира Семеновна. — Никто вас не завозил, вы сами с нами поехали.
— Да-с... Поехал сам. А только не в своем виде поехал. Загулявши поехал. А вы знали и не сказали мне, что это такая даль. Я человек непонимающий, думал, что эта самая Италия близко, а вы ничего не сказали. Да-с... Это нехорошо.
— Врете вы. Мы вам прямо сказали, что путь очень далекий и что проездим больше месяца, — возразила Глафира Семеновна.
— Э-эх! — вздохнул Иван Кондратьевич. — То есть перенеси меня сейчас из этой самой заграницы хоть на воздушном шаре ко мне домой, в Петербург, на Клинский проспект [21], — без разговору бы тысячу рублей дал! Полторы бы дал — вот до чего здесь мне все надоело и домой захотелось.
Часовая стрелка приблизилась к полуночи.
— En voitures! [22] — скомандовал начальник станции.
— En voitures! — подхватили кондукторы, захлопывая двери вагонных купе.
Поезд тронулся в путь.
III
Поезд летел. В купе вагона, кроме супругов Ивановых и Конурина, никого не было.
— Ну-ка, Николай Иваныч, вместо чайку разопьем-ка бутылку красненького на сон грядущий, а то что ей зря-то лежать... — сказал Конурин, доставая из сетки бутылку и стакан. — Грехи! — вздохнул он. — То есть скажи мне в Питере, что на заграничных железных дорогах стакана чаю на станциях достать нельзя, — ни в жизнь бы не поверил.
Бутылка была выпита. Конурин тотчас же освободил из ремней свою объемистую подушку и начал устраиваться на ночлег.
— Да погодите вы заваливаться-то! Может быть, еще пересадка из вагона в вагон будет, — остановила его Глафира Семеновна.
— А разве будет?
— Ничего не известно. Вот придет кондуктор осматривать билеты, тогда спрошу.
На следующей полустанке кондуктор вскочил в купе.
— Vos billets, messieurs... [23] — сказал он.
Глафира Семеновна тотчас же обратилась к нему и на своем своеобразном французском языке стала его спрашивать:
— Нис... шанже вагон у нон шанже? [24]
— Oh, non, madame. On ne change pas les voitures. Vous partirez tout directement [25].
— Без перемены.
— Слава тебе, Господи! — перекрестился Конурин, взявшись за подушку, и прибавил: — «Вив ля Франс», — почти единственную фразу, которую он знал по-французски и употреблял при французах, когда желал выразить чему-нибудь радость или одобрение.
Кондуктор улыбнулся и отвечал: «Vive la Russie». Он уже хотел уходить, как вдруг Николай Иванович закричал ему:
— Постой... Постой... Глаша! Скажи господину кондуктору по-французски, чтобы он запер нас на ключ и никого больше не пускал в наше купе, — обратился он к жене. — А мы ему за это пару франков просолим.
— Да-да... Действительно, надо попросить, — отвечала супруга. — Экуте... Не впускайте... Не пусе... Или нет... что я! Не лесе дан ля вагон анкор пассажир... Ну вулон дормир... И вот вам... Пур ву... Пур буар... By компрене? [26]
Она сунула кондуктору два франка. Тот понял, о чем его просят, и заговорил:
— Oui, oui, madame. Je comprends. Soyez tranquille... [27]
— А вот и от меня монетка. Выпей на здоровье... — прибавил полфранка Конурин.
Кондуктор захлопнул дверцу вагона, и поезд полетел снова.
— Удивительно, как ты наторела в нынешнюю поездку по-французски... — похвалил Николай Иванович жену. — Ведь почти все говоришь...
— Еще бы... Практика... Я теперь стала припоминать все слова, которые я учила в пансионе. Ты видел в Париже? Все приказчики «Magasin de Louvre» и «Magasin au bon marché» [28] меня понимали. Во Франции-то что! А вот как мы по Италии будем путешествовать, решительно не понимаю. По-итальянски я столько же знаю, сколько и Иван Кондратьич... — отвечала Глафира Семеновна.
— Руками будем объясняться. Выпить — по галстуху себя хлопнем пальцами, съесть — в рот пальцем покажем, — говорил Николай Иванович. — Я читал в одной книжке, что суворовские солдаты во время похода [29] отлично руками в Италии объяснялись и все их понимали.
— Земляки! Послушайте! — начал Иван Кондратьевич. — Ведь в Италию надо в сторону сворачивать?
— В сторону.
— Так не ехать ли нам уж прямо домой? Ну что нам Италия? Черт с ней! Берлин видели, Париж видели — ну и будет.
— Нет-нет! — воскликнула Глафира Семеновна. — Помилуйте, мы только для Италии и за границу поехали.
— Да что в ней, в Италии-то, хорошего? Я так слышал, что только шарманки да апельсины.
— Как «что в Италии хорошего»? Рим... В Риме папа... Неаполь... В Неаполе огнедышащая гора Везувий. Я даже всем нашим знакомым в Петербурге сказала, что буду на огнедышащей горе. А Венеция, где по всем улицам на лодках ездят? Нет-нет... Пока я на Везувии не побываю, я домой не поеду.
— И я тоже самое... — прибавил Николай Иванович. — Я до тех пор не буду спокоен, пока на самой верхушке горы об Везувий папироску не закурю...
— Везувий. Папа... Да что мы — католики, что ли? Ведь только католики папе празднуют, а мы, слава Богу, православные христиане. Даже грех, я думаю, нам на папу смотреть.
— Не хнычь и молчи, — хлопнул Конурина по плечу Николай Иваныч. — И чего ты в самом деле!.. Сам согласился ехать с нами всюду, куда мы поедем, а теперь на попятный. Назвался груздем, так уж полезай в кузов.
— Подъехать к самой Италии — и вдруг домой! — бормотала Глафира Семеновна. — Это уж даже и ни на что не похоже.
— А разве мы уже подъехали? — спросил Иван Кондратьич.
— Да конечно же подъехали. Вот только теперь проехать немножко в сторону...
— А много ли в сторону? Сколько верст отсюда, к примеру, до Италии?
— Да почем же я-то знаю! Здесь верст нет. Здесь иначе считается. К тому же в этой местности я и сама с мужем в первый раз. Вот приедем в Ниццу, так справимся, сколько верст до Италии.
— А мы теперь разве в Ниццу едем? — допытывался Конурин.
— Сколько раз я вам, Иван Кондратьич, говорила, что в Ниццу.
— Да ведь где ж все упомнить! Мало ли вы мне про какие города говорили. Ну а что такое эта самая Ницца?
— Самое новомодное заграничное место, куда все наши аристократки лечиться ездят. Моднее даже Парижа. Юг такой, что даже зимой на улицах жарко.
— А... Вот что... Стало быть, во́ды?
— И во́ды... и все... Там и в море купаются, и во́ды пьют. Там вот, ежели у кого нервы, — первое дело... Сейчас никаких нервов не будет. Потом мигрень... Ницца и от мигреня... Там дамский пол от всех болезней при всей публике в море купается [30].
— Неужели при всей публике? Ах, срамницы!
— Да ведь в купальных костюмах.
— В костюмах? Ну, то-то... А я думал... Только какое же удовольствие в костюмах! Так, в Ниццу мы теперь едем. Так-так... Ну а за Ниццей-то уже Италия пойдет?
— Италия.
— А далеко ли она все-таки оттуда будет?
IV
Кондуктор, взяв два с половиной франка «пур буар» [31], хоть и дал слово не впускать никого в купе, где сидели Ивановы и Конурин, но слова своего не сдержал. На одной из следующих же станций спавший на диване Конурин почувствовал, что его кто-то трогает за ногу. Он открыл глаза. Перед ним стоял мрачного вида господин с двумя ручными чемоданами и говорил:
— Je vous prie, monsieur... [32]
Он поднимал чемоданы, чтобы положить их в сетку.
— Послушайте... Тут нельзя... Тут занято... Тут откуплено!.. — закричал Конурин. — Кондуктор! Где кондуктор?
Пассажир продолжал говорить что-то по-французски и, положив чемоданы в сетку, садился Конурину на ноги. Конурину поневоле пришлось отдернуть ноги.
— Глафира Семеновна! Да что же это такое с нами делают! Скажите вы этому олуху по-французски, что здесь занято! — будил он Глафиру Семеновну, а между тем схватил пассажира за плечо и говорил: — Мусью... Так не делается. На ноги садиться не велено. Выходи.
Тот упрямился и даже оттолкнул руку Конурина. Глафира Семеновна проснулась и не сразу поняла, в чем дело.
— Позовите же кондуктора. Пусть он его выпроводит, — сказала она Конурину.
— Матушка. Я без языка... Как я могу позвать, ежели ни слова по-французски!
— Кондуктер! Мосье кондуктер! — выглянула она в окошко.
Но в это время раздалась команда «en voitures», и поезд тронулся.
— Вот тебе и франко-русское единство! — бормотал Конурин. — Помилуйте, какое же это единство! «Вив ля Франс, вив Рюсси», взять полтора франка, обещать никого не пускать в вагон — и вдруг, извольте видеть, эфиопа какого-то посадил! Это не единство, а свинство. А еще «вив Рюсси» сказал.
— Да уж, это «вив Рюсси»-то я еще в Париже в ресторане Бребан [33] испытал, — сказал тоже проснувшийся Николай Иванович. — И там гарсон сначала «вив Рюсси», а потом на шесть франков обсчитал.
Пассажир угрюмо сидел в купе и расправлял вынутую из кармана дорожную шапочку, чтобы надеть ее на голову вместо шляпы. Ехали по туннелю. Стук колес раздавался каким-то особенным гулом под сводами.
— Все туннели и туннели... — сказала Глафира Семеновна. — Выедем из туннеля, так надо будет открыть окно, а то душно здесь, — прибавила она и стала поднимать занавеску, которой было завешано окно.
— Из Ниццы Италия уж совсем недалеко.
— Ну а все-таки дальше, чем от Петербурга до Новгорода?
— Ах, как вы пристаете, Иван Кондратьич! Ей-ей, не знаю.
— И ты, Николай Иванович, тоже не знаешь? — обратился Конурин к спутнику.
— Жена не знает, так уж почем же мне-то знать! Я человек темный. Я географии-то только моря да реки учил, а до городов не дошел, — отвечал Николай Иванович.
Конурин покачал головой.
— Скажи на милость, никто из нас ничего не знает, а едем, — сказал он и, подождав немного, опять спросил: — Простите, голубушка... Я опять забыл... Как город-то, куда мы едем?..
— Ах, Боже мой! В Ниццу, в Ниццу! — раздраженно произнесла Глафира Семеновна.
— В Ниццу, в Ниццу... Ну, теперь авось не забуду. Не знаете, когда мы в нее приедем?
— Да на станции в Марселе говорили, что завтра рано утром.
— Утром... Так... так... Вот тоже, чтобы и Марсель не забыть. Марсель, Марсель... А то ездил по городу, осматривал его и вдруг забудешь, как он называется. Марсель, Марсель... Жена спросит дома, в каких городах побывал, а я не знаю, как их и назвать. Надо будет записать завтра себе на память. Марсель, Ницца... В Ниццу, стало быть, завтра утром... И наконец едем без пересадки. Так... Коли завтра утром, то теперь можно и основательно на покой залечь, — бормотал Конурин, поправил свою подушку и, зевая, стал укладываться спать.
Вынули из саквояжей свои небольшие дорожные шелковые подушечки и Николай Иванович, и Глафира Семеновна и тоже стали устраиваться на ночлег.
Конурин продолжал зевать.
— А что-то теперь у меня дома жена делает? — вспомнил он опять. — Поди, уж третий сон спит. Или нет... Что я... Вы говорите, Глафира Семеновна, что когда здесь, на юге, ночь, то у нас день?
— Да... вроде этого... — отвечала Глафира Семеновна.
— Второй час ночи, — посмотрел Конурин на часы. — Здесь второй час ночи; стало быть, в Петербурге...
— А там два часа дня... — подсказала Глафира Семеновна.
— Да ведь еще давеча вы мне говорили, часа два назад, что три часа дня было.
— Ну, стало быть, теперь в Петербурге пять часов вечера. Нельзя же так точно...
— А пять часов вечера, так она, пожалуй, после чаю в баню пошла. Сегодня день субботний, банный. О-хо-хо-хо! А мы-то, грешники, здесь без бани сидим! — зевнул он еще раз и стал сопеть носом.
Засыпали и Николай Иванович с Глафирой Семеновной.
Но вот туннель кончился, мелькнул утренний рассвет — и глазам присутствующих представилась роскошная картина. Поезд шел по берегу моря. С неба глядела совсем уже побледневшая луна. На лазурной воде беловатыми точками мелькали парусные суда. По берегу то тут, то там росли пальмы, близ самой дороги по окраинам мелькали громадные агавы, разветвляя свои причудливые, рогатые, толстые листья, то одноцветно-зеленые, то с желтой каймой. Вот показалась красивая двухэтажная каменная вилла затейливой архитектуры и окруженная садиком, а в садике апельсинные деревья с золотистыми плодами, гигантские кактусы.
— Николай Иванович! Иван Кондратьич! Смотрите, вид-то какой! Да что же это мы? Да где же это мы? — воскликнула в восторге Глафира Семеновна. — Уж не попали ли мы прямо в Италию? Апельсины ведь это, апельсины растут.
— Да, настоящие апельсины, — отвечал Николай Иванович.
— И пальмы, пальмы. Даже латании. Такие латании, как в оранжереях или в зимнем саду в «Аркадии» [34]. Вот так штука! Господи Иисусе! Я не слышала, чтобы в Ницце могли быть такие растения. Право, уж не ошиблись ли мы как-нибудь поездом и не попали ли в Италию?
— Почем же я-то знаю, матушка! Ведь ты у нас француженка, ведь ты разговаривала.
— Да ведь кто ж их знает! Разговариваешь, разговариваешь с ними, а в конце концов все равно настоящим манером ничего не понимаешь. Смотри, смотри, целый лес пальм! Вот оказия, если мы ошиблись!
— Да не проспали ли мы эту самую Ниццу-то — вот что? — вмешался в разговор Иван Кондратьевич. — Ведь вы сказывали, что Италия-то за Ниццей. Ниццу проспали, а теперь в Италии.
— И ума приложить не могу! — разводила руками Глафира Семеновна, восторгаясь видами. — Смотрите, смотрите, скала-то какая и на ней домик. Да это декорация какая-то из балета.
— Совсем декорация... — согласился Иван Кондратьевич. — Театр — одно слово.
— Батюшки! забор из кактусов. Целый забор из кактусов... — кричала Глафира Семеновна. — И лимонная роща. Целая лимонная роща. Нет, мы наверное в Италии.
— Проспали, стало быть, Ниццу! — сказал Иван Кондратьевич. — Ну, плевать на нее. В Италию приехал так в Италию, тем лучше, все-таки к дому ближе. А только что же я шарманщиков не вижу? Ведь в Италии, говорят, весь народ — шарманщики [35]. А тут вон уж идет народ, а без шарманок.
— Боже мой! И шляпы на мужиках итальянские, разбойничьи. Нет, мы положительно приехали в Италию, — продолжала Глафира Семеновна.
— Так спроси вон этого эфиопа-то, что к нам в купе давеча влез, чем сомневаться, — сказал Николай Иванович. — Он туточный, он уж наверное знает, куда мы приехали.
Глафира Семеновна откашлялась и начала:
— Монсье... се Итали? — кивнула она в окошко. — У сом ну анрезан? [36]
— Tout de suite nous serons à Cannes, madame... [37] — отвечал пассажир, осклабившись в легкую улыбку и приподнимая свою дорожную шапочку.
— Ну что? Проспали Ниццу? — спрашивает Николай Иванович жену.
— Постой... Ничего не понимаю. Надо еще спросить. Ну а Ницца, монсье? Нис? Ну завон дорми и не савон рьян... Нис... Ну завон пассе Нис?
— О, non, madame. А Nice nous serons à six heures du matin [38].
— Слава Богу, не проехали! — произнесла Глафира Семеновна. — Фу, как я давеча испугалась!
— Да ты спроси, Глаша, хорошенько.
— Мэ се не на Итали? — снова обратилась Глафира Семеновна к пассажиру.
— Non, non, madame. Soyez tranquille. L’Italie c’est encore loin [39].
— Мерси, монсье. Нет-нет, не проехали. В Ницце мы будем в шесть часов утра. А только скажите на милость, какой здесь климат! Совсем Италия. Пальмы, апельсины, лимоны, кактусы. Да и лица-то итальянские. Вон мужик идет. Совсем итальянец...
— Без шарманки, так, значит, не итальянец, — заметил Конурин.
— Молчите, Иван Кондратьич! Ну что вы понимаете! Дальше своего Пошехонья [40] из Петербурга никуда не выезжали, никакой книжки о загранице не читали, откуда же вам знать об Италии! — огрызнулась Глафира Семеновна и продолжала восторгаться природой и видами: — Водопад! Водопад! Николай Иваныч, смотри, какой водопад бьет из скалы!
А с моря между тем поднималось красное зарево восходящего солнца и отражалось пурпуром в синеве спокойных, величественных вод. Начиналось ясное, светлое, безоблачное утро. Из открытого окна вагона веяло свежим, живительным воздухом.
— Ах, как здесь хорошо! Вот хорошо-то! — невольно восклицала Глафира Семеновна.
— Да, недаром сюда наши баре русские денежки возят, — отвечал Николай Иванович.
— Cannes! — возгласил кондуктор, когда остановились на станции.
Поезд опять тронулся, и дальше пошли виды еще красивее, еще декоративнее. Солнце уже взошло и золотило своими лучами все окружающее. Справа синело море с вылезающими из него по берегу громадными скалами, слева чередовались виллы — виллы без конца, самой прихотливой архитектуры и окруженные богатейшей растительностью. Повсюду розовыми цветками цвел миндаль; как бы покрытые белым пухом, стояли цветущие вишневые деревья.
— Господи Боже мой! И это в половине-то марта! — воскликнул Николай Иванович. — А у нас под Питером-то что теперь! Снег на полтора аршина [41], и еще великолепный, поди, санный путь.
Проехали Грасс. Опять справа море и слева виллы без конца, прилепленные почти к отвесным скалам. Наконец поезд опять въехал в туннель, пробежал по нему несколько минут и выскочил на широкую поляну. Виднелся город. Еще минут пять — и паровоз стал убавлять пары. Въезжали в обширный крытый вокзал и наконец остановились.
— Nice! — закричали кондукторы.
— Ницца... — повторила Глафира Семеновна и стала собирать свой багаж.
V
На подъезде к станции толпились коммиссионеры гостиниц в фуражках с позументами [42] и выкрикивали названия своих гостиниц, предлагая омнибусы [43]. Супруги Ивановы и Конурин остановились в недоумении.
— Куда же, в какую гостиницу ехать? — спрашивала Глафира Семеновна мужа.
— Ах, матушка, да почем же я-то знаю!
— Однако надо же...
— Модное слово теперь «вив ля Франс» — ну и вали в «Готель де Франс». «Готель де Франс» есть? — спросил Николай Иванович по-русски.
Коммиссионеры молчали. Очевидно, под таким названием в Ницце гостиницы не было или омнибус ее не выехал на станцию.
— «Готель де Франс»... — повторил Николай Иванович.
— Постой, постой... Спроси лучше, в какой гостинице есть русский самовар, — туда и поедем, а то нигде за границей чаю настоящим манером не пили, — остановил его Конурин и, в свою очередь, спросил: — Ребята! У кого из вас в заведении русский самовар имеется?
Коммиссионеры, разумеется, русского языка не понимали.
— Русский самовар, пур те... [44] — опять повторил Николай Иванович и старался пояснить слова жестами, но тщетно. — Не понимают! — развел он руками. — Глаша! Да что же ты! Переведи им по-французски.
— Самовар рюсс, самовар рюсс. Пур лобульянт пур те... Эске ву аве дан ля готель? [45] — заговорила она.
— Ah! madame désire une bouilloire!.. [46] — догадался какой-то коммиссионер.
— Нет, не булюар, а самовар рюсс, с угольями.
— Самовар! — крикнул Конурин.
— Mais oui, monsieur... Samovar russe c’est une bouilloire [47].
— Что ты все бульвар да бульвар! Не бульвар нам нужно, давай комнату хоть в переулке. Что нам бульвар! А ты дай комнату, чтобы была с самоваром.
— Иван Кондратьич, вы не то толкуете. Оставьте... Ни вы, ни они вас все равно не понимают, — остановила Конурина Глафира Семеновна.
— Обязаны понимать, коли русские деньги брать любят.
— Да что тут разговаривать! — воскликнул Николай Иванович. — Дикие они насчет самоваров. Брось, Иван Кондратьич, и залезай на счастье в какой попало омнибус. В какую привезут гостиницу, та и будет ладна. Ведь мы все равно не знаем, какая хуже. Вон омнибусы стоят. Вали!
Иван Кондратьич подбежал к первому попавшемуся омнибусу и, сказав: «Вот этот как будто омнибусик поновее», сел в него. Полезли за ним и супруги Ивановы.
Живо ввалили на крышу омнибуса их сундуки, взятые из багажного вагона, и омнибус поехал, минуя роскошный сквер, разбитый перед железнодорожной станцией. В сквере росли апельсинные деревья с золотящимися плодами, пальмы, латании, агавы, олеандры и яркими красными цветами цвели громадные камелии.
— Боже мой, в какие места мы приехали! — восторгалась Глафира Семеновна. — Оранжереи под открытым небом. Смотрите, смотрите, лимоны! Целое дерево с лимонами.
Иван Кондратьевич мрачно покосился и сказал:
— Лимоны у подлецов есть, а самоваров к чаю завести не могут.
— Оглянитесь, оглянитесь, господа, назад! Ах, какая гора! — продолжала Глафира Семеновна. — А вон и осел везет в тележке цветную капусту. Цветная капуста уж здесь поспела. А у нас-то! Я у себя перед отъездом лук на окошке посадила, и тот к Масленице еле-еле перья дал. Еще осёл. Два осла... Дамы-то здешние, дамы-то в марте в одних бумажных зефировых платьях [48] по улицам ходят — вот до чего тепло.
Проезжали по Avenue de la gare [49] — длинному проспекту, обсаженному гигантскими деревьями. Было еще рано, уличная жизнь только начиналась: отворяли магазины, кафе, кухарки в соломенных шляпках и с корзинками в руках шли за провизией. Показался англичанин, мерно шагающий по бульвару, длинный, худой, весь в белом и с зеленым вуалем на шляпе. Иван Кондратьич тотчас же обратил на него внимание и сказал:
— Эво какой страшный! Это, должно быть, поп здешний, итальянский.
— Нет-нет, это англичанин, — отвечала Глафира Семеновна. — Мы таких в прошлую поездку много видели в Париже на выставке.
Наконец омнибус въехал на двор гостиницы и остановился. На дворе опять апельсинные и лимонные деревья с плодами, мирты в цвету, у подъезда два толстые, как бревно, кактуса лезут своими верхушками к окнам третьего этажа. Швейцар зазвонил в большой колокол. Выбежал пожилой мужчина с эспаньолкой [50] и с карандашом за ухом.
— Комнату об одной кровати и комнату о двух кроватях... — сказал Николай Иванович. — Глаша, переведи по-французски.
— Уговаривайтесь уж, голубушка, заодно, чтоб нам апельсины и лимоны из сада даром есть, — сказал Иван Кондратьич.
Мужчина с эспаньолкой повел показывать комнаты, сказал цену и стал предлагать взять комнаты с пансионом, то есть со столом.
— Nous avons deux déjeuners, diner à sept heures... [51] — рассказывал он.
Глафира Семеновна поняла слово «пансион» совсем в другом смысле.
— Как пансион? Коман пансион? Николай Иваныч, вообрази, он нам какой-то пансион предлагает! Почему он вообразил, что у нас дети? Нон, нон, монсье. Пуркуа пур ну пансион? — сказала она. — Ну навон па анфан. Пансион!
— Si vous prendrez la pension, madame, ça vous sera à meilleur marché [52].
— Опять пансион! Да что он пристал с пансионом!
— Учитель, должно быть, что ли... — отвечал Николай Иванович.
— Да ведь он видит, что при нас нет детей.
— А может быть, у него пансион для взрослых, для обучения русских французскому языку? Ты спроси, какой у него пансион. Ведь можешь спросить. Настолько-то теперь уже по-французски насобачилась.
— Все равно нам не надо никакого пансиона. Так берем эти комнаты? За одну восемь франков, за другую двенадцать в день хочет, — пояснила Глафира Семеновна.
— Двенадцать четвертаков по сорока копеек — четыре восемь гривен на наши деньги, — сосчитал Николай Иванович. — Дорогонько, ну, да уж нечего делать.
— Ницца... Ничего не поделаешь. Сюда шалая публика только затем и едет, чтобы деньги бросать. Самое модное место из всех заграниц. Хочешь видеть, как апельсины растут, — ну и плати. Берем, что ли, эти комнаты? — продолжала она.
— Постойте, постойте. Нельзя ли ему «вив ля Франс» подпустить, так, может быть, он из-за французско-русского единства и спустит цену, — сказал Конурин.
— Какое! Это только у нас единство-то ценится, а здесь никакого внимания на него не обращают. Ты видел сегодня ночью кондуктора-то? Взял полтора франка, чтоб никого к нам в купе не пускать, — и сейчас же к тебе пассажира на ноги посадил. Нет, уж где наше не пропадало! Надо взять. Берем, мусье, эти комнаты! — решил Николай Иванович и хлопнул француза с эспаньолкой по плечу.
— Avec pension, monsieur? [53] — снова спросил тот.
— Вот пристал-то! Нон, нон. У нас нон анфан [54]. Мы без анфанов приехали. Вуаля: же, ма фам и купец-фруктовщик с Клинского проспекта — вот и все.
Николай Иванович ткнул себя в грудь, указал на жену, а потом на Конурина.
VI
Переодевшись и умывшись, супруги Ивановы и Конурин вышли из гостиницы, чтобы идти осматривать город. Глафира Семеновна облеклась в обновки, купленные ею в Париже, и надела такую причудливую шляпу с райской птицей, что обратила на себя внимание даже француза с эспаньолкой, который часа два тому назад сдавал им комнаты. Он сидел за столом в бюро гостиницы, помещавшемся внизу у входа, и сводил какие-то счеты. Увидав сошедших вниз постояльцев, он тотчас же заткнул карандаш за ухо, подошел к ним и, не сводя глаз со шляпки Глафиры Семеновны, заговорил что-то по-французски.
— Глаша, что он говорит? — спросил Николай Иванович.
— Да говорит, что у них хороший табльдот в гостинице и что завтрак бывает в двенадцать часов дня, а обед в семь.
— А ну его! А я думал, что-нибудь другое, что он так пристально на тебя смотрит.
— Шляпка моя понравилась — вот и смотрит пристально.
— Да уж и шляпка же! — заговорил Конурин, прищелкнув языком. — Не то пирог, не то корабль какой-то. В Петербурге в такой шляпке пойдете, то за вами собаки будут сзади бегать и лаять.
— Пожалуйста, пожалуйста, не говорите вздору. Конечно, ежели вашей жене эту шляпку надеть, которая сырая женщина и с большим животом, то конечно...
— Да моя жена и не наденет. Хоть ты озолоти ее — не наденет.
— Зачем ты бриллиантовую-то браслетку на руку напялила? Ведь не в театр идем, — сказал жене Николай Иванович.
— А то как же без браслетки-то? Ведь здесь Ницца, здесь самая высшая аристократия живет.
Супруги и их спутник вышли на улицу, прошли с сотню шагов и вдруг в открывшийся проулок увидели море.
— Море, море... — заговорила Глафира Семеновна. — Вот тут-то на морском берегу все и собираются. Я читала в одном романе про Ниццу. Высшая публика, самые модные наряды...
Они ускорили шаги и вскоре очутились на набережной, на Jetté Promenade [55]. Берег был обсажен пальмами, виднелась бесконечная голубая даль моря, сливающаяся с такими же голубыми небесами. На горизонте белелись своими парусами одинокие суда. Погода была прелестная. Ослепительно-яркое солнце делало почти невозможным смотреть на белые плиты набережной. Легкий ветерок прибивал на песчано-каменистый берег небольшие волны, и они с шумом пенились, ударяясь о крупный песок. Около воды копошились прачки, полоскавшие белье и тут же, на камнях, расстилавшие его для просушки.
Компания остановилась и стала любоваться картиной.
— Почище нашего Ораниенбаума-то будет! — сказал Конурин.
— Господи! Да разве есть какое-нибудь сравнение! — воскликнула Глафира Семеновна. — Уж и скажете вы тоже, Иван Кондратьич! А посмотрите, какое здание стоит на сваях [56], на море выстроено! Непременно это городская дума или казначейство какое!
— Не хватило им земли-то, так давай на море на сваях строить, — проговорил Николай Иванович.
Они направились по набережной к зданию на сваях. Это было поистине прелестное здание самого причудливого смешанного стиля. Тут виднелся и мавританский купол, и прилепленная к нему китайская башня. Навстречу Ивановым и Конурину попадались гуляющие. Мужчины были почти все с открытыми зонтиками серых, гороховых и даже красных цветов.
— Скажи на милость, какая здесь мода! — пробормотал Конурин. — Даже мужчины зонтиками от солнца укрываются, словно дамы.
— Что ж, и мы купим себе по зонтику, чтоб моде подражать, — отвечал Николай Иванович.
— Уж покупать, так покупать надо красные. Приеду домой в Петербург, так тогда свой зонтик жене подарить можно. «Вот, мол, под какими красными зонтиками мы из себя дам в Ницце изображали». А что-то моя жена теперь, голубушка, дома делает! — вспомнил Конурин опять про жену, посмотрел на часы и прибавил: — Ежели считать по здешнему времени наоборот, то, стало быть, теперь ужинает. Долбанула, поди, рюмочку рябиновой и щи хлебать принимается. Ведь вот, поди ж ты: мы здесь только что кофею напились утречком, а она уж ужинает. Дела-то какие!
Разговаривая таким манером, они добрались до здания на сваях, которое теперь оказалось гигантским зданием, окруженным террасами, заполненными маленькими столиками. С набережной вел в здание широкий мост, загороженный решеткой, в которой виднелось несколько ворот. У одних ворот стоял привратник, была кассовая будочка, и на ней надпись: «Entrée 1 fr.» [57].
— Нет, это не дума, — проговорила Глафира Семеновна. — Вот и за вход берут.
— Да, может быть, здесь и в думу за вход берут, кто желает ихних прениев послушать, — возразил Конурин. — Ведь здесь все наоборот: у нас в Питере теперь ужинают, а здесь еще за завтрак не принимались, у нас в Питере мороз носы щиплет, а здесь эво как солнце припекает!
Он снял шляпу, достал носовой платок и стал отирать от пота лоб и шею.
— Кескесе са? — спросила Глафира Семеновна сторожа, кивая на здание.
— Théâtre et restaurant de Jetté Promenade, madame [58], — отвечал тот.
— Театр и ресторан, — перевела она.
— Слышу, слышу... — откликнулся Николай Иванович. — А ты-то: дума, казначейство. Мне с первого раза казалось, что это не может быть думой. С какой стати думу на воде строить!
— А с какой стати театр на воде строить?
— Да ведь ты слышишь, что тут, кроме театра, и ресторан, а рестораны и у нас в Петербурге на воде есть.
— Где же это?
— А ресторан на пароходной пристани у Летнего сада, так называемый поплавок. Конечно, у нас он плавучий, а здесь на сваях, но все-таки... Потом есть ресторан-поплавок на Васильевском острове. А то вдруг: дума. Ведь придумает тоже... Зачем думе на воде быть?
— А ресторану зачем?
— Как, Глафира Семеновна, матушка, зачем? — заговорил Конурин. — Для разнообразия. Иной на земле-то в трактире пил-пил, и ему уж больше в глотку не лезет, а придет в ресторан на воду — опять пьется. Перемена — великая вещь. Иной раз в Питере загуляешь и из рюмок пьешь-пьешь — не пьется, а попробовали мы раз в компании вместо рюмок из самоварной крышки пить, из простой медной самоварной крышки — ну и опять питье стало проходить как по маслу. Непременно нужно будет сегодня в этот ресторан сходить позавтракать. Помилуйте, ни в одном городе за границей не удавалось еще на воде пить и есть.
— Да кто с вами спорит, Иван Кондратьич, что вы так жарко доказываете, чтоб на воде завтракать? Ну, на воде так на воде, — отвечала Глафира Семеновна, остановилась, взглянула с набережной вниз к воде и быстро прибавила: — Смотрите, там что-то случилось. Вон публика внизу на песке на берегу стоит и что-то смотрит. Целая толпа стоит. Да-да... И что-то лежит на песке. Не вытащили ли утопленника?
— Пожалуй, что утопленник, — сказал Николай Иванович.
— Утопленник и есть, — поддакнул Конурин. — Сойдемте вниз и посмотримте. Уж не бросился ли грехом кто-нибудь в воду из этого самого ресторана, что на сваях стоит? С пьяных-то глаз долго ли! В голову вступило, товарищи разобидели — ну и... Со мной молодым раз тоже было, что я на Черной речке выбежал из трактира да бултых в воду... Хорошо еще, что воды-то только по пояс было. Тоже вот из-за того, что товарищи мне пьяному что-то перечить начали. Пойдем, Николай Иванович, посмотрим.
— Да, пойдем. Отчего не посмотреть? У нас делов-то здесь не завалило! На то и приехали, чтоб на всякую штуку смотреть. Идешь, Глафира Семеновна?
— Иду, иду. Где здесь можно спуститься вниз? — обозревала она местность. — Вон где можно спуститься. Вон лестница.
Они бросились к лестнице и стали спускаться на берег к воде. Иван Кондратьевич говорил:
— То есть оно хорошо, это самое море, для выпивки, приятно на берегу, но ежели уж до того допьешься, что белые слоны в голову вступят, то ой-ой-ой! Беда... Чистая беда! — повторял он.
VII
На крупном песке вроде гравия, состоящем из мелких красивых разноцветных камушков, действительно что-то лежало, но не утопленник. Глафира Семеновна первая протискалась сквозь толпу, взглянула и с криком: «Ай, крокодил!» — бросилась обратно.
— Пойдемте прочь! Пойдемте! Николай Иваныч, не подходи! Иван Кондратьич! Идите сюда! Как же вы бросаете одну даму! — звала она мужчин, уже стоя на каменной лестнице.
— Да это вовсе и не крокодил, а большая белуга! — откликнулся Конурин снизу.
— Какая белуга! Скорей же громадный сом. Видишь, тупое рыло. А белуга с вострым носом, — возражал Николай Иванович. — Глаша! Сходи сюда. Это сом. Сом громадной величины.
— Нет-нет! Ни за что на свете! Я зубы видела... Страшные зубы... — слышалось с лестницы. — Брр...
— Да ведь он мертвый, убит...
— Нет-нет! Все равно не пойду.
А около вытащенного морского чудовища между тем два рыбака в тиковых куртках, загорелые, как корка черного хлеба, пели какую-то нескладную песню, а третий, такой же рыбак, подсовывал каждому зрителю в толпе глиняную чашку и просил денег, говоря:
— Deux sous pour la représentation! Doux sous... [59]
Подошел он и к Ивану Кондратьевичу и протянул ему чашку, подмигивая глазом.
— Чего тебе, арапская морда? — спросил тот.
— За посмотрение зверя просит. Дай ему медяшку, — отвечал Николай Иванович.
— За что? Вот еще! Стану я платить! Тут не театр, а берег.
— Да дай. Ну что тебе? Ну вот я и за тебя дам.
Николай Иванович кинул в чашку два медяка по десяти сантимов.
— Иван Кондратьич! Вы говорите, что этот крокодил мертвый? — слышался с лестницы голос Глафиры Семеновны, которая, услышав пение, несколько приободрилась.
— Мертвый, мертвый... Иди сюда... — сказал Николай Иванович.
— Да мертвый ли?
Глафира Семеновна стала опять подходить к толпе и робко заглянула на морского зверя.
— Ну конечно же это крокодил. Брр... Какой страшный! — бормотала она. — Неужели его эти люди здесь из моря вытащили? Зубы-то какие, зубы...
Рядом с ней стоял высокий, стройный, средних лет, элегантный бакенбардист с подобранными волосок к волоску черными бакенбардами, в светло-сером, ловко сшитом пальто и в такого же цвета мягкой шляпе. Он улыбнулся и, обратясь к Глафире Семеновне, сказал по-русски:
— Это вовсе не крокодил-с... Это акула, дикий зверь, который покойниками питается, коли ежели какое кораблекрушение. Здешние рыбаки их часто ловят, а потом публике показывают.
Услышав русскую речь от незнакомого человека, Глафира Семеновна даже вспыхнула.
— Вы русский? — воскликнула она.
— Самый первый сорт русский-с. Даже можно сказать, на отличку русский, — отвечал незнакомец.
— Ах, как это приятно! Мы так давно путешествуем за границей и совсем почти не встречали русских. Позвольте познакомиться... Иванова Глафира Семеновна... А это вот мой муж, Николай Иваныч, коммерсант. А это вот...
— Иван Кондратьев Конурин, петербургский второй гильдии... — подхватил Конурин.
Последовали рукопожатия. Незнакомец отрекомендовался Капитоном Васильевичем и пробормотал и какую-то фамилию, которую никто не расслышал.
— Путешествуете для своего удовольствия? — спрашивала его Глафира Семеновна, кокетливо играя своими несколько заплывшими от жиру глазками.
— Нет-с, отдыхать приехали. Мы еще с декабря здесь.
— Ах, даже с декабря! Скажите... Я читала, что здесь совсем не бывает зимы.
— Ни боже мой... Вот все в такой же препорции, как сегодня. То есть по ночам бывало холодно, но и по ночам, случалось, в пиджаке выбегал, коли ежели куда недалеко пошлют.
— То есть как это «пошлют»? — задала вопрос Глафира Семеновна. — Вы здесь служите?
Элегантный бакенбардист несколько смешался.
— То есть как это? Нет-с... Я для своего удовольствия... Пур... Как бы это сказать?.. Пур плезир [60] — и больше ничего... Мы сами по себе... — отвечал он наконец. — А ведь иногда по вечерам мало ли куда случится сбегать! Так я даже и в декабре в пиджаке, ежели на спешку...
— Неужто здесь зимой и на санях не ездили? — спросил в свою очередь Конурин.
— Да как же ездить-то, ежели и снегу не было.
— Скажи на милость, какая держава! И зимой снегу не бывает.
— Иван Кондратьич, да ведь и у нас в Крыму никогда на санях не ездят.
— Ну а эти пальмы, апельсинные деревья даже и в декабре были зеленые и с листьями? — допытывался Николай Иванович у бакенбардиста.
— Точь-в-точь в том же направлении. Так же вот выйдешь в полдень на берег, так солнце так спину и припекает. Точь-в-точь...
— Господи, какой благодатный климат! Даже и не верится... — вздохнула Глафира Семеновна.
— По пятаку розы на бульваре продавали в декабре, так чего же вам еще! Купишь за медный пятак розу на бульваре — и поднесешь барышне. Помилуйте, мы уж здесь не в первый раз по зимам... Мы третий год по зимам здесь существуем, — рассказывал бакенбардист. — Зиму здесь, а на лето в Петербург.
— Ах, вы тоже из Петербурга?
— Из Петербурга-с.
— А вы чем же там занимаетесь? — начал Николай Иванович. — Служите? Чиновник?
— Нет-с, я сам по себе.
— Стало быть, торгуете? Может быть, также купец, наш брат Исакий?
— Да разное-с... Всякие у меня дела, — уклончиво отвечал бакенбардист.
Ивановы и Конурин стали подниматься по лестнице на набережную. Бакенбардист следовал за ними.
— Очень приятно, очень приятно встретиться с русским человеком за границей, — повторяла Глафира Семеновна. — А то вот мы прожили в Берлине, в Париже — и ни одного русского.
— Ну а в здешних палестинах много русских проживает, — сказал бакенбардист.
— Да что вы! А мы вот вас первого... Впрочем, мы только сегодня приехали. Вы где здесь в Ницце остановившись? В какой гостинице?
— Я не в Ницце-с... Я в Монте-Карло. Это верст двадцать пять отсюда по железной дороге. На манер как бы из Петербурга в Павловск съездить. А сюда я приехал по одному делу.
— Как город-то, где вы живете? — допытывался Николай Иванович.
— Монте-Карло.
— Монте-Карло... Не слыхал, не слыхал про такой город.
— Что вы! Помилуйте! Да разве можно не слышать! Из-за Монте-Карло-то все господа в здешние места и стремятся. Это самый-то вертеп здешнего круга и есть... Жупел, даже можно сказать. Там в рулетку господа играют.
— В рулетку? слышал, слышал! А только я не знал, что это так называется! — воскликнул Николай Иванович. — Помилуйте, из-за этой самой рулетки жены моей двоюродный брат, весь оборвавшись, в Петербург приехал, а три тысячи рублей с собой взял, да пять тысяч ему потом выслали. Так вот она, рулетка-то! Надо съездить и посмотреть.
— Непременно надо-с, — поддакнул бакенбардист. — Это самое, что здесь есть по части первого сорта, самое, что на отличку...
— Так как же город-то называется?
— Монте-Карло, — подсказала мужу Глафира Семеновна. — Удивляюсь я, как ты этого не знаешь! Я так сколько раз в книгах читала и про Монте-Карло, и про рулетку и все это отлично знаю.
— Отчего же ты мне ничего не сказала, когда мы сюда ехали?
— Да просто забыла. Кто с образованием и читает, тот не может не знать рулетки и Монте-Карло.
— Съездите, съездите, побывайте там разок... Любопытно... — говорил бакенбардист и тотчас же прибавил: — Да уж кто один раз съездит и попытает счастье в эту самую вертушку, того потянет и во второй, и в третий, и в четвертый раз туда. Так и будете сновать по знакомой дорожке.
Шаг за шагом они прошли всю часть бульвара, называемую Jetté Promenade, и уже шли по Promenade des Anglais [61], где сосредоточена вся гуляющая публика.
VIII
— Здесь, в Ницце и в окрестных городах, по берегу страсть что русских живет! — рассказывал Капитон Васильевич, важно расправляя свои бакенбарды. — Некоторые из аристократов или из богатого купечества и банкирства даже свои собственные виллы имеют. Кто всю зиму живет, кто в январе, после Рождества, приезжает.
— Вилы? — удивленно выпучил глаза Конурин. — А зачем им вилы эти самые?..
— Иван Кондратьич, не конфузьте себя, — дернула его за рукав Глафира Семеновна. — Ведь вилла — это дом, дача!
— Дача? Тьфу! А я-то слушаю... Думаю: на что им вилы? Я думал, железные вилы, вот что для навоза и для соломы...
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Капитон Васильевич. — Этот анекдот надо будет нашему гувернеру рассказать, как вы дачу за железные вилы приняли, а он пусть графу расскажет. Вилла — по-здешнему дача.
Конурин обиделся:
— Как же я могу по-здешнему понимать, коли я по-французски ни в зуб... Я думал, что уж вила так вила.
— Да и я, братец ты мой, по-французски не ахти как... больше хмельные и съестные слова... Однако что такое «вилла», отлично понял, — вставил свое слово Николай Иванович.
— Ну а я не понял — и не обязан понимать. А вы уж сейчас и графу какому-то докладывать! Что мне такое ваш граф? Графа-то, может статься, десять учителей на разные манеры образовывали, а я в деревне, в Пошехонском уезде, на медные деньги у девки-вековухи [62] грамоте учился. Да говорите... Чихать мне на вашего графа!
— Иван Кондратьич, бросьте... Ведь это же шутка. С вами образованный человек шутит, а вы борзитесь, — останавливала Конурина Глафира Семеновна.
— Пардон, коли я вас обидел, но, ей-богу же, смешно! — похлопал Конурина по плечу Капитон Васильевич. — Вила! Ха-ха-ха...
— А у вас какой знакомый граф? Как его фамилия? — поинтересовалась Глафира Семеновна.
— Есть тут один. Здесь графов много. Да вот тоже русский граф идет. Он офицер. Он к нам ходит.
— Как офицер? Отчего же он в статском платье?
— Даже полковник. А в статском платье оттого, что им здесь в военной форме гулять не велено. Как за границу выехал — сейчас препона. Переодевайся в пиджак.
— Скажите, а я и не знала.
— Не велено, не велено. До границы едет в форме, а как на границе — сейчас и переоблачайся. А как им трудно к статскому-то платью привыкать! Вот и наш тоже. Одевается и говорит: «Словно мне это самое статское платье — корове седло». Подашь ему пиджак, шляпу, перчатки, палку, а он забудется да и ищет шашку, чтобы прицепить.
— Ах, и ваш знакомый граф тоже военный?
— Генерал-с.
— Вы с ним вместе живете, должно быть?
— Да-с, по соседству. Вы это насчет пиджака-то?.. Из учтивости я иногда... Почтенный генерал, так как ему не помочь одеться! — сказал Капитон Васильевич. — А вот и еще русский идет. А вон русский сидит на скамейке. Здесь ужасти сколько русских, а только они не признаются, что русские, коли кто хорошо по-французски говорит.
— Отчего же?
— Да разное-с... Во-первых, чтобы в гостиницах дорого не брали. Как узнают, что русский, — сейчас все втридорога — ну и обдерут. А во-вторых, из-за того не признаются, чтобы свой же земляк денег взаймы не попросил. Вот и еще русский с женой идет.
— Однако у вас здесь много знакомых, — заметила Глафира Семеновна. — Только отчего вы с ними не кланяетесь?
— Из-за этого самого и не кланяемся. Он думает, как бы я у него денег не попросил, а я думаю, как бы он у меня денег не попросил. Так лучше. А что я перед вами-то русским обозначился, то это из-за того, что мне ваши физиономии очень понравились, — рассказывал Капитон Васильевич.
— Мерси, — улыбнулась ему Глафира Семеновна. — А насчет денег будьте покойны — мы у вас их не просим.
На бульваре Promenade des Anglais были построены деревянные места со стульями и ложами, обращенными к конному проезду. На досках, на видных местах, были расклеены громадные афиши.
— Это что такое? Здесь какое-то представление будет, — сказала Глафира Семеновна.
— То есть оно не представление, а особая забава. Цветочная драка, — отвечал Капитон Васильевич.
— Как драка? — удивленно в один голос спросили все его спутники.
— Точно так-с... Драка... Цветами друг в друга швырять будут. Одни поедут в колясках и будут швырять вот в сидящих здесь на местах, а сидящие на местах будут в едущих запаливать. Так и будут норовить, чтоб посильнее в физиономию личности потрафить. Фет де прентам [63] это по-ихнему называется и всегда бывает в посту на Середокрестной неделе [64]. По-нашему Середокрестная неделя, а по-ихнему — микарем. Советую купить билет и посмотреть. Это происшествие завтра будет.
— Непременно надо взять билеты, — заговорила Глафира Семеновна. — Николай Иваныч, слышишь?
— Возьмем, возьмем. Как же без этого-то! На то ездим, чтоб все смотреть. Цветочная драка — это любопытно.
— Драку я всякую люблю. Даже люблю смотреть, как мальчишки дерутся, — прибавил Конурин. — Где билеты продаются?
— Да вот касса. Я сам нарочно для этого приехал сюда в Ниццу. Меня просили взять четыре первые места, — сказал Капитон Васильевич.
— Ах, и вы будете! Вот и возьмем места рядом... — заговорила Глафира Семеновна.
— Нет, сам я не буду. Самому мне нужно завтра по делам к одному... посланнику. А я для графа. Граф просил взять для него четыре кресла. Человек почтенный, именитый... Отчего не угодить?
— Ах, как это жаль, что вы не будете! Послушайте, приезжайте и вы... Ну, урвитесь как-нибудь... — упрашивала Капитона Васильевича Глафира Семеновна.
— Не могу-с... К посланнику мне зарез... Непременно нужно быть. Да и видел уж я это происшествие в прошлом году. А вы посмотрите. Очень любопытно. Иной так потрафит букетом в физиомордию, что даже в кровь...
— Да что вы!
— Верно-с. Потом ряженые в колясках будут ездить. Кто в масках, кто весь в муке и в белом парике, кто чертом одевшись, а дамы — нимфами.
— Стало быть, даже и маскарад? Ах, как это любопытно! И вы не хотите приехать!
— Посланник турецкий будет ждать. Согласитесь сами, такое лицо... Но ежели уже вам такое удовольствие, то я могу с вами послезавтра в настоящем маскараде увидеться. Послезавтра здесь будет маскарад в казино... Уже тот маскарад настоящий, в зале. И все обязаны в белом быть.
— Позвольте, позвольте... Да как же это у них маскарады в посту! — перебил Конурин. — Ведь в посту маскарадов не полагается.
— У них все наоборот. Как пост — тут-то ихнее пляскобесие и начинается. А карнавал-то здесь был... Господи Боже мой! По всем улицам народ в масках бегал. Целые колесницы по улицам с ряжеными ездили. Как кто без маски на улицу покажется — сейчас в него грязью кидают. Не смей показываться!
— А как же граф-то ваш знакомый?
— Сунулся раз на улицу без маски — нос расквасили. Тут уж когда народ маскарадный вопль почувствует, ему все равно: что граф, что пустопорожняя личность.
— Да неужели? Ах, какие порядки! И все в масках?
— Все-все.
— Жена моя ни за что бы маску не надела, — проговорил Конурин, вынул часы и стал смотреть на них. — Однако, господа, уж адмиральский час [65]. Пора бы и червячка заморить, — прибавил он.
— Дежене? Авек плезир [66], — ответил Капитон Васильевич. — Вот только билеты возьмем да и пойдемте завтракать.
Билеты на места взяты.
— А куда пойдем завтракать? Где здесь ресторан? — спрашивал Конурин.
— Да чего лучше на сваи идти! Вот в этот ресторан, что на сваях выстроен, и пойдемте. До сих пор все на земле да на земле пили и ели, а теперь для разнообразия на воде попробуем, — отвечал Николай Иванович.
Компания отправилась в ресторан на Jetté Promenade.
IX
Свайное здание, куда направилась компания завтракать, было и внутри величественно и роскошно. Оно состояло из зала в мавританском стиле, театра с ложами и ресторана, отделанного в китайском вкусе. Везде лепная работа, позолота, живопись. Ивановы и Конурин с большим любопытством рассматривали изображения на стенах и на плафоне.
— А уж и трактиры же здесь, за границей! Восторг... — произнес Конурин в удивлении. — Москва славится трактирами, но куда Москве до заграницы!
— Есть ли какое сравнение! — ответил Николай Иванович. — Странно даже и сравнивать. Москва — деревня, а здесь европейская цивилизация. Ты посмотри вот на эту нимфу... Каков портретик! А вот эти самые купидоны как пущены!
— Да уж что говорить! Хорошо.
— Вот видите, а сами все тоскуете, что за границу с нами поехали, — вставила свое слово Глафира Семеновна, обращаясь к Конурину. — Тоскуете да все нас клянете, что мы вас далеко завезли. Уж из-за одних трактиров стоит побывать за границей.
— Помещения везде — уму помраченье, ну а еда в умалении. Помилуйте, ездим-ездим по заведениям, по восьми и десяти французских четвертаков с персоны за обеды платили, а нигде нас ни щами из рассады [67] не попотчевали, ни кулебяки не поднесли. Даже огурца свежепросольного нигде к жаркому не подали. А об ухе я уж и не говорю.
— Французская еда. У них здесь этого не полагается, — отвечала Глафира Семеновна.
— Ну а закуски отчего перед обедом нет?
— Как нет? В Гранд-отель в Париже мы завтракали, так была подана на закуску и колбаса, и сардинки, и масло, и редиска.
— Позвольте... Да разве это закуска? Я говорю про закуску, как у нас в хороших ресторанах. Спросишь у нас закуску — и тридцать сортов тебе всякой разности несут. Да еще помимо холодной-то закуски, форшмак, сосиски и печенку кусочками подадут, и все это с пылу с жару. Нет, насчет еды у нас лучше.
Разговаривая, компания уселась за столиком. Гарсон с расчесанными бакенбардами, с капулем на лбу [68], в куртке, в белом переднике до полу и с салфеткой на плече давно уже стоял в вопросительной позе и ждал приказаний.
— Катр дежене... — скомандовал ему Капитон Васильевич.
— Oui, monsieur. Quel vin désirez-vous? [69]
Было заказано и вино, причем Капитон Васильевич прибавил:
— Е оде’ви рюс.
— Vodka russe? Oui, monsieur... [70] — поклонился гарсон.
— Да неужели водка здесь есть? — радостно воскликнул Николай Иванович.
— Есть. Держут. Вдову Попову сейчас подадут [71].
— Ну, скажи на милость, а мы в Париже раза три русскую водку спрашивали — и нигде нам не подали. Так потом и бросили спрашивать. Везде коньяком вместо водки пробавлялись.
— То Париж, а это Ницца. Здесь русских ступа непротолченная, а потому для русских все держут. В ресторане «Лондон-хоус» можете даже черный хлеб получить, икру свежую, семгу. Водка русская здесь почти во всех ресторанах, — рассказывал Капитон Васильевич.
Конурин просиял и даже перекрестился от радости.
— Слава Богу! Наконец-то после долгого поста русской водочки хлебнем, — сказал он. — А я уж думал, что до русской земли с ней не увижусь.
— Есть, есть, сейчас увидитесь, но только за нее дорого берут.
— Да ну ее, дороговизну! Не наживать деньги сюда приехали, а проживать. Только бы дали.
— Вон несут бутылку.
— Несут! Несут! Она, голубушка... По бутылке вижу, что она!
Конурин весело потирал руки. Гарсон поставил рюмки и принялся откупоривать бутылку.
— А чем закусить? — спрашивал собеседников Капитон Васильевич. — Редиской, колбасой?
— Да уж что тут о закуске рассуждать, коли до водки добрались! Первую-то рюмку вот хоть булочкой закусим, — отвечал Конурин, взяв в руку рюмку. — Голубушка, русская водочка, две с половиной недели мы с тобой не виделись. Не разучился ли уж я и пить-то тебя, милую? — продолжал он.
— Что это вы, Иван Кондратьич, словно пьяница, приговариваете, — оборвала его Глафира Семеновна.
— Не пьяница я, матушка, а просто у меня привычка к водке... Двадцать лет подряд я без рюмки водки за стол не садился, а тут вдруг выехал за границу — и препона. Вот уж теперь за эту водку с удовольствием скажу: вив ля Франс!
Мужчины чокнулись друг с другом и выпили.
— Нет, не разучился пить ее, отлично выпил, — сказал Конурин, запихивая себе в рот кусок белого хлеба на закуску, и стал наливать водку в рюмки вторично. — Господа! Теперь за ту акулу выпьемте, что мы видели давеча на берегу. Нужно помянуть покойницу.
Гарсон между тем подал редиску, масло и колбасу, нарезанную кусочками. Водкопитие было повторено. Конурин продолжал бормотать без умолку:
— Вот уж я теперь никогда не забуду, что есть на свете город Ницца. А из-за чего? Из-за того, что мы в ней нашу русскую православную водку нашли. Господа! По третьей? Я третью рюмку наливаю.
Собеседники не отказывались.
Гарсон подал омлет.
— Неси, неси, господин гарсон, назад! — замахал руками Конурин.
— Отчего? Ведь это же яичница, — сказал Капитон Васильевич.
— Знаем! В Париже нам в эту яичницу улиток зажарили. Да еще хорошо, что яичница-то, кроме того, была и незажаренными улитками в раковинах обложена, так мы догадались.
— Что вы, помилуйте, да это простая яичница с ветчиной. Видите, красная копченая ветчина в ней, — пробовал разубедить Конурина Капитон Васильевич.
— А кто поручится, что это не копченая лягушка? Нет, уж я теперь дал себе слово за границей никакой смеси не есть.
— И я не буду есть, — отрицательно покачала головой Глафира Семеновна, сделав гримасу.
Ели только Николай Иванович и Капитон Васильевич.
— Ведь это ты назло мне ешь, Николай Иваныч, — сказала ему жена.
— Зачем назло? Просто из-за того, чтобы цивилизации подражать. За границей, так уж надо все есть.
Вторым блюдом была подана рыба под соусом. Глафира Семеновна опять сделала гримасу и не прикоснулась к рыбе. Не прикоснулся и Конурин, сказав:
— Кусочки и под соусом. Не видать, что ешь. Кто ее ведает, — может быть, это акула, такая же акула, как давеча на берегу показывали.
— Да полноте вам... Это тюрбо [72]... Самая хорошая рыба, — уговаривал их Капитон Васильевич, но тщетно.
— Нет-нет, не буду я есть. Водки я с вами выпью, но закушу булкой, — сказал Конурин.
— А хоть бы и на самом деле акула? — проговорил Николай Иванович. — Я из-за заграничной цивилизации готов даже и кусок акулы съесть, коли здесь все ее едят. — И он придвинул к себе блюдо.
Кончилось тем, что Глафира Семеновна и Конурин ели за завтраком только ростбиф, сыр и фрукты. Конурин, раскрасневшийся от выпитой водки, говорил:
— Только аппетит себе разбередил, а сытости никакой. А уж с каким бы я удовольствием теперь порцию московской селянки на сковородке [73] съел, так просто на удивление! Хороша Ницца, да не совсем. Вот ежели бы к водке и селянка была — дело другое. Нет, пожалуй, не стоит и запоминать, что есть такой город — Ницца.
— Забудь ее, забудь, — говорил ему Николай Иванович.
Компания смеялась.
X
Выпив рюмок по пяти русской водки и по бутылке вина, мужчины раскраснелись, развеселились и, шумно разговаривая, начали уходить из ресторана.
— Почем за водку взяли? — спрашивала Глафира Семеновна.
— По французскому четвертаку за рюмку, — отвечал Конурин. — Вот оно, как нашу родную, российскую водочку здесь ценят.
— Стоит пить! Ведь это ежели на наши русские деньги, то по сорок копеек. А между тем здесь хороший коньяк по двадцати пяти сантимов за рюмку продается.
— Коньяк или простая русская водка, барынька! Перед едой ежели, то лучше нашей очищенной никакого хмельного товара не сыщешь.
— Да ведь вы рубля на два каждый, стало быть, водки-то выпили! Вот тоже охота!
— Эх, где наше не пропадало! — махнул рукой Конурин. — Зато нашу матушку-Русь вспомянули. Да и что тут считать! Считать нехорошо. Через это, говорят, люди сохнут.
Проходя по залу, они заметили расставленные столы и группировавшуюся около них публику.
— Это что такое смотрят? Уж опять какого-нибудь зверя не показывают ли? — спросил Николай Иванович Капитона Васильевича.
— А вот тут для вас может быть интересно, ежели хотите попытать счастья. Тут игра в лошадки и в железную дорогу.
— Как игра в лошадки? — воскликнул Конурин.
— Очень просто. По-здешнему это называется «рень», скачки, ну а наши русские зовут игрой в лошадки. Да вот посмотрите. Два франка поставишь — четырнадцать можешь взять.
— Рулетка? — спросили все вдруг — Конурин и супруги Ивановы.
— Нет, не рулетка, настоящая рулетка в Монте-Карло, а здесь на манер этого. Тоже для того устроено, чтобы с публики деньги выгребать. На лошадках приезжие обыкновенно приучаются к настоящей рулетке, ну а потом на ней же и кончают, когда в рулетку профершпилятся. В рулетке меньше пяти франков ставки нет, а здесь в игре в лошадки два франка ставка, а в железную дорогу так даже и последний франк принимают. Клади и будь счастлив, кроме осетра и стерляди [74], — рассказывал Капитон Васильевич, подводя к столу.
На круглом зеленом столе, огороженном перилами, вертелись восемь металлических лошадок с такими же жокеями, прикрепленные к стержню посредине, и приводились в движение особым механизмом. Механизм каждый раз заводил находившийся при столе крупье с закрученными усами. Другой крупье, гладкобритый и с красным носом, обходил с чашечкой стоящую вокруг публику, и продавал билеты с номерами лошадей, и взимал по два франка с каждого взявшего билет.
— Вот так штука! — произнес Конурин. — Как же тут играют-то?
— А вот берите сейчас билет за два франка, тогда узнаете, — отвечал Капитон Васильевич.
— Что же, можно попробовать. Будто бы на два франка две рюмки очищенной проглотил. Эй, мусью! Сюда билет. Вот два четвертака!
Крупье с красным носом принял от Конурина в чашечку два франка и дал ему билет.
— Четвертый номер, — сказал Конурин, развертывая билет. — Это что же, земляк, обозначает?