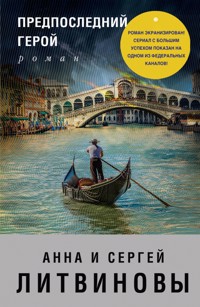
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Кажется, между ними – ничего общего. Настя Капитонова – девушка из богатой, влиятельной семьи. Арсений Челышев – сирота из провинции. Она – выпускница престижного вуза, он – бывший зэк. Единственное Сенино богатство – рецепт уникального лекарства, которое когда-то изобрел его дед. Говорили, что оно способно поднимать на ноги даже безнадежных больных. Сеня решает проверить – правда это или просто красивая легенда? Но, оказывается, существуют люди, которые совсем не хотят, чтобы дедово лекарство вновь явилось на свет и спасло еще сотни и тысячи жизней. И среди этих людей – его любимая Настя…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Анна и Сергей Литвиновы Предпоследний герой
Роман основан на подлинных событиях.
Однако авторы считают своим долгом предупредить: данный роман является художественным произведением. Поэтому любое совпадение или сходство с реальностью любых встречающихся в нем субъектов – образов героев, обстоятельств действия, собственных имен, географических названий или наименований – является целиком и полностью случайным.
Авторы за такие совпадения или сходство никакой ответственности не несут.
Пролог
Весна 1990 года Москва, СССР
Жить мне осталось недолго.
Может, два-три месяца. Не дольше.
Какая жалость. Как жалко себя! И как не хочется умирать. Всего-то сорок три года.
Считай, и не пожила. И жизнь, мне казалось, только-только начинается…
И еще очень обидно: все в мире останется по-прежнему – только без меня.
И дворник на Большой Бронной будет так же, как сегодня, шуршать по утрам метлой. А потом, ближе к осени, набухнут плоды рябины на любимом дереве на даче. И пожелтеют, а потом опадут листья, и ляжет снег… Только все это будет – без меня, без меня, без меня…
Боже, как не хочется уходить!..
Но приговор подписан. Врачи «Кремлевки» не ошибаются. Или ошибаются – но чрезвычайно редко. К тому же сам академик Блохин подтвердил диагноз. И в ответ на мой прямой вопрос отвел глаза и пробормотал, что, конечно, возможны чудеса и он лично всегда предпочитает верить в счастливый исход – даже если он кажется невероятным, но…
«Мне надо привести в порядок дела, – настойчиво спросила я его тогда. – Так сколько мне осталось? Только не надо врать!»
И он подтвердил. Он тоже назвал этот срок.
Два-три месяца.
Шестьдесят дней. Или девяносто.
Только и осталось времени: составить завещание. Отдать распоряжения по квартире, даче, машине… Решить, кому достанутся драгоценности, книги, картины…
И еще – хорошенько погулять напоследок. Пройти по всем любимым ресторанам. И пить только любимые напитки. И есть только любимые блюда. И еще хорошо бы снять мальчика: молодого, красивого, горячего – и провести с ним в постели двое, трое суток… Неделю… Обласкать, обцеловать, одарить подарками… Напоследок… Все – напоследок…
Единственное приятное – и в сем они, эти гребаные врачи, эти коновалы, были единодушны: больно мне не будет. До самого конца – не будет. Просто я стану все сильнее уставать и с каждым днем все больше спать… А потом однажды, в один прекрасный день – наверное, это будет уже осенью, глубокой осенью, – я засну и просто не проснусь…
И еще… Осталось еще одно… То, что мне обязательно надо сделать… То, от чего непременно надо избавиться… Мне надо рассказать все. Наконец-то рассказать все…
Избавиться от страшных тайн, мучивших меня всю жизнь. Тех тайн, о которых я даже не смела никому заикнуться. Тайн, о которых я старалась забыть, – но забыть не могла.
Рассказать… Поведать… Покаяться…
Но кому?
Не партсобрание же собирать. Хорошенькая будет повесточка: «Персональное дело Капитоновой Ирины Егоровны. И.Е. Капитонова расскажет сегодня собранию о своих смертных грехах…»
И в церковь я тоже не пойду. Я некрещеная.
Мне, видите ли, повезло родиться на излете культа личности. И вероятность того, что меня все-таки окрестили, стремится к нулю. Да и не люблю я церковь. И не понимаю в ней ничего. Все это золото, рясы… Камилавки, аналои какие-то… Не понимаю, почему я должна целовать руку жирному бородатому попу!.. Сроду я мужчинам не целовала руки. Даже в самый интимный момент…
Но боже мой, как хочется все рассказать!.. Неужели моя тайна так и уйдет со мной в могилу?.. (Надо же: я до сих пор способна на иронию. На самоиронию. На сарказм…)
Но, если серьезно, как же хочется раскрыть наконец свою тайну. Избавиться от нее. Поведать о ней хоть кому-то. Облегчить душу…
Даже не об одной тайне рассказать – о целой цепочке тайн: одна перетекает в другую и цепляется за третью… Неужели никто не узнает о них? И не оправдает меня – хотя бы после смерти?..
И не скажет: да, она была прохиндейкой и сволочью, но она много и тяжело страдала и много любила и потому заслуживает если не оправдания, то снисхождения?!
Боже мой, как же страшно, неприятно и тяжело уносить с собой – туда, в загробную жизнь (да есть ли она? А вдруг все же есть?), все накопившиеся в душе тайные тягости!..
Как хочется кому-то обо всем рассказать!..
Двумя месяцами позднее. Лето 1990 года. Где-то в Европе.
Красный «Фольксваген Гольф» второй серии с восточногерманскими номерами валялся под насыпью вверх колесами.
Одна из секций дорожной ограды была начисто сметена. На асфальте отпечатался черный змеистый след – от безуспешно тормозивших шин. С шоссе было видно: в кабине рухнувшей под откос машины есть один человек – водитель. Он не шевелился – видимо, потерял сознание.
Из низин медленно, клоками поднимался туман.
Тридцатидвухлетний архитектор Блажей Паник, ехавший в Карловы Вары, растерянно вышел из своей «Шкоды». Странный ступор охватил его при виде потерпевшей аварию машины. Мозг приказывал ему немедленно бежать на помощь пострадавшему, но тело отказывалось, не реагировало на приказ.
На противоположной стороне шоссе остановился грузовичок «Татра», перевозивший в Прагу керамическую плитку.
Его водитель при виде растерянного Блажея на обочине распахнул дверцу и крикнул:
– Эй, что там?
Этот вопрос вывел Паника из состояния грогги. Блажей все-таки бросился в сторону откоса – вниз, к покалеченной машине, на помощь застрявшему в ней человеку. По пути, на бегу, он крикнул водителю грузовичка:
– Авария!.. Человек разбился!..
И в этот момент рвануло.
Лежавшая кверху колесами машина мгновенно превратилась в огненный шар. В разные стороны полетели куски железа.
Архитектор инстинктивно закрыл глаза локтем, отвернулся, а потом и вовсе рухнул плашмя на обочину. Тут до него донесся грохот взрыва.
Архитектор возблагодарил судьбу (в бога он не верил) за то, что непонятный страх сковал его при виде машины, не дал ему сразу помчаться к пострадавшему. Если бы он кинулся к авто тут же, этот взрыв накрыл бы и его.
Паник медленно поднялся. Повернулся в сторону того, что еще пару минут назад было «Фольксвагеном». Черный остов проглядывал сквозь языки пламени. Огонь лизал черное неподвижное тело водителя. Теперь было очевидно: шоферу уже ничем не помочь.
К Блажею подошел водитель грузовичка.
– Езус Мария, – прошептал он.
– Надо вызывать полицию. И врачей, – проговорил Блажей. – Не знает ли пан, где здесь поблизости есть телефон?
– Телефон есть на заправке. Отсюда три километра, – ответил шофер грузовичка. – Да только врачи, наверно, уже вряд ли помогут пану. – Водитель кивнул в сторону горящей машины. – Мир праху его.
– Может, это пан, а может, и герр, – пожал плечами архитектор. И пояснил: – На машине восточногерманские номера.
– Да это уже все равно, – философски заметил водитель грузовичка. – Теперь парень уже на небесах. А там по нациям не разбирают.
Часть I АНАСТАСИЯ КАПИТОНОВА
НАСТЯ Весна 1990 года Москва, СССР
Настя стояла у зеркала в коридоре и улыбалась.
Какое это, оказывается, счастье: улыбаться себе – просто так. И не горевать, что любимая кофточка истончилась и вылиняла, а обои в квартире обвисли, и потолок вздулся страшными пузырями. Ну и ладно, пусть кругом полно проблем. А ей все равно весело. Весело – без всякого повода.
В коридор выскочил Сенька. Спросил мимоходом:
– На себя любуешься?
– Вот еще! – фыркнула Настя.
Хотя ее отражение заверяло: выглядит она очень даже неплохо. Модный цвет, в который Настя выкрасила волосы (кажется, он назывался «морозный каштан»), ей очень идет. И новые тени, серебристые, как холодный закат, – тоже. И россыпь веснушек – появились уже, красавицы! – ее совсем не портит. А главное, что на душе легко и бесшабашно. Как у неразумного детсадовца после двух порций мороженого. Так и хочется взвыть популярное: «Лайф! Лайф из лайф!» И изобразить перед зеркалом эффектный пируэт.
Приближение весны на нее, что ли, так действует?!
На термометре, правда, пока твердый минус, и сугробов кругом полно. Но небо уже высокое, и солнце смотрит все уверенней и обещает, что совсем скоро оно запалит в полную мощь, растопит снега, высушит грязь и сметет наконец с лиц горожан это дурацкое выражение: смесь озабоченности и тревоги.
Насте страшно надоело, что все кругом такие хмурые… Даже улыбнуться на улице или в метро боишься – как бы за дурочку не приняли.
Но неужели они, все эти люди, не чувствуют, что скоро наступит весна? И можно будет закинуть на антресоли кургузые шубы, выпрыгнуть из тяжелых сапог, и гулять по одевшимся в нежную зелень бульварам, и вдыхать терпкий запах сирени, и целоваться на едва подсохших лавочках…
Настя вот, в отличие от прочего московского населения, радуется весне. Ждет ее, предвкушает. Загодя примеряет перед зеркалом короткие юбки, тренируется в нанесении весеннего макияжа…
А Сенька, любимый циничный муж, над ней посмеивается:
– Какая весна? Февраль на дворе!
– Нет, пришла уже, пришла! – горячо возражала Настя. – Раз ты мне цветы принес – значит, все, наступила!
Николенька, любимый сынок, тоже безоговорочно встает на мамину сторону. Заявляет солидно:
– Конечно, весна-красна. Она пахнет! Весною!..
– Ну, раз сын говорит – весна, значит, точно весна, – соглашается Сеня, и Настя целует его глаза – синие, словно весеннее небо, – и лохматит светло-солнечные волосы… И думает: «До чего ж я люблю тебя, дурачок!»
А Николенька – он всегда радовался, когда родители улыбались друг другу, – болтается у их ног и обхватывает маму с папой в цепком объятии…
И Настя думает: «Как бы я жила без них обоих! Без сынули с его кучей «почему» и без Сени – такого невоспитанного, циничного, провинциального… и самого лучшего в мире!»
Что бы с ней сталось, если б не они! Малыш давал ей любовь к жизни. А Сеня, муж невенчаный, – дарил просто любовь… И нет ей счастья без Сениных бровей-кустиков, глаз-солнышек и рук – таких крепких, что в их кольце можно пережить любую драму-катастрофу… И еще – решительно невозможно обходиться без постоянных Сенькиных цветов.
Кухонный стол в их квартирке вечно цвел то астрами, то гвоздиками, а то и дорогущими розами. Из Сениных рук даже нелюбимые мимозы принимались, словно райские орхидеи. И самое плохое настроение проходило, едва Настя взглядывала на цветы.
Вслух, правда, она ворчала:
– Сеня! Ну сколько можно! Бросаешь деньги на ветер… А Николай, между прочим, джинсы в лохмы изодрал. Опять придется ему брючки где-то доставать.
– Обойдется. Поставь заплатки, – беззаботно советовал Сеня.
А Настя думала: «Да уж, заплатками здесь не обойдешься. Да и твои, Сенька, джинсы годятся, откровенно говоря, только на тряпки. На работу в них ходить стыдно. А на новые фирменные нам не наскрести…»
Но она молчала. Подумаешь, денег мало! У кого их сейчас много? У кооператоров да рэкетиров!.. А они с Сенькой – честные люди. Но им все равно грех жаловаться. И мясо с рынка в доме порой бывает, и фрукты, и шоколадки Николеньке. И квартирному хозяину они всегда в срок платят. Хотя, кто спорит, шубу хотелось бы… Только что же мечтать о несбыточном?
Сеня констатировал:
– Обычные трудности для молодой семьи. Сколько ни зарабатывай – любимая жена все равно на косметику промотает. Ты, наверно, у спекулянтов – самый любимый клиент.
Настя только хмыкала. Она и правда оставляла у «жучков» немалую часть семейного бюджета – ей ведь и тени нужны, и помада (под каждую кофточку желательно свою), и «морозный каштан» для волос. А в магазинных парфюмерных отделах – голяк и затишье, один зубной порошок в картонных коробках да духи «Красная Москва».
– Я когда в школе училась, иногда даже верила, что коммунизм будет, – вздыхала она. – И мечтала: вот красота! Прихожу в магазин и набираю – по потребности. И шоколадок, и джинсы, и ананасового компота…
– Не-е, коммунизма уже точно не будет, – заверял Сеня. – Какой теперь коммунизм!
Подростки во дворе всеми вечерами голосили под гитару песни Цоя: «Пе-ре-мен! Мы ждем перемен!»
Но пусть ждалось перемен и жилось непросто – Настиного хорошего настроения все равно не испортить. Особенно когда солнце пригревает все теплее, и пахнет мартом, и на носу у малыша Николеньки – как и у мамы! – нарисовались веснушки. К тому же Сенька ходил с загадочным видом – явно готовил сюрпризом что-то хорошее.
– Не иначе шубу мне купил. На Восьмое марта, – предполагала Настя.
– Нет! Нет! Мне констьюктёй! На день мужчин! – прыгал Николенька.
– Эх, меркантильные вы. Оба, – вздыхал Сеня.
– Что такое «мекатильные»? – немедленно спрашивал сын.
– Значит, жадные, – пояснял Сеня.
– Нет! Я не жадный!! – вопил Николенька. – Я Аньке из садика машинку свою покатать давал!
– Нет-нет, Коленька, ты не жадный, – спешила успокоить его Настя. – Совсем не жадный.
– А меркантильный – это скорее тот, кто слишком многого хочет, – поправлялся Арсений. – Впрочем, от мамы нашей чего ж ожидать!.. Она ведь женщина. Они все такие.
– Да, женщины – они такие… – мудрено подхватывал четырехлетний сын.
Настя, глядя на него, помирала со смеху.
– А у тебя, – продолжал Сенька, – Николай, ни стыда, ни совести. Прошлый конструктор весь растерял. Зачем ты его, спрашивается, на улицу носил? И в садик?
– Ане показать, – бесхитростно признался сын.
– Ну вот! А теперь пожалуйста: новый ему подавай! Эх, покажу я сейчас кому-то, где раки зимуют!
И он хватал Николеньку, стискивал в сильных руках, подкидывал… Сын бесстрашно подлетал к самому потолку и хохотал, а Настя думала: «Да никакой мне шубы не нужно! Только чтобы Николенька всегда смеялся и Сеня – вот так подбрасывал бы его к потолку: так же, как сейчас, бережно, сильно и нежно…»
…А когда в Москву пришел наконец апрель и город наполнился шумом капели, Сеня сообщил свою новость:
– Ну, дамы-господа, пакуйте манатки. Переезжаем!
В первую секунду Настя даже не поняла. Переспросила удивленно:
– Куда это еще?
Она настолько уже успела привыкнуть к съемной «однушке» в далеком Марьине, что казалось, они живут здесь вечно. И будут жить еще долгие годы.
– Тю-у! – присвистнул Сеня (отучить его от дурацкого южнороссийского «тю» оказалось решительно невозможно). – А кто мне весь год мозги компостировал – про даль, да про глушь, да про дух от Капотни?.. Нет уж, все, дети мои! Хватит с нас Марьина! Теперь в центре будем жить. Почти у самого Кремля.
– Кьемиль, Кьемиль! – запрыгал сынуля. – Мы будем жить в Кьемле! Как дядя Гогбачев!
Настя захлопала глазами:
– Сенька!.. Ты… Ты получил квартиру? Как?!
– Эк хватила! – хмыкнул Сеня. – Кто же мне ее даст-то?! Квартиру?! Не получил – а снял. По блату. Хорошая «двушка», на площади Ногина.
– И сколько стоит? – вскинулась Настя.
– Оплата – разумная, – ушел от ответа Сеня. – Только рыбок хозяйских нужно кормить. – И пояснил: – Помнишь, я тебе рассказывал про Черкасова? Ну, из нашей редакции? Он все с американцами переписывался… Вот и допереписывался… В Штаты его пригласили, лекции читать. Про новейшие, блин, тенденции в советской журналистике. На целый учебный год. С сентября. А пока он туда поехал язык свой английский доучивать… Так что до следующего мая мы в этой «двушке» – полные хозяева. Там у Черкасова натуральный уют – и мебель, и посуда, и ковры. Только вот телевизор теща забрала.
Сенькины глаза сияли. Он явно гордился тем, что раздобыл новую съемную квартиру. Да задешево, да с мебелью, да в центре… Да еще – на целый год. А Настя мимолетно подумала: «Эх, так всю жизнь по углам мы и прокантуемся…»
Но, конечно, вслух ничего не сказала. Во-первых, зачем расстраивать мужа? А во-вторых… В шалаше, конечно, рай сомнительный… Вряд ли бы они в натуральном лесном шалаше с Сенькой ужились. Там тесно, холодно и горячей воды нет. Но на съемной квартире – даже в далеком Марьине – живут прекрасно. А уж на площади Ногина как заживут!
– Далеко там до метро? – деловито спросила Настя.
– Два шага – по бульварам.
– А детский садик есть?
– Не хочу я в садик! – встрял Николенька.
– Может, и не пойдешь, – успокоила его Настя. И вздохнула, представила, сколько будет хлопот: устраивать ребенка в новый сад посреди года, да еще опять не по месту прописки…
Сенька, телепат доморощенный, прочитал ее мысли. Сказал:
– Постараюсь сразу ящик коньяка достать. Чтобы на всех тетенек в роно хватило. И конфет – десять коробок.
– Да, пожалуй, еще приплачивать придется, – задумчиво произнесла Настя. И тут же сменила тон, прогнала из голоса даже намек на недовольство: – Молодец, Сенька!.. Ты у меня – просто золото. Нет – даже не золото. Платина!
– Платина или Платини? – дурачился Сенька, очевидно, польщенный ее комплиментом. Обнимал ее.
– Кес кё се Платини? – отбивалась она.
– У-у, глупая! – шутливо тискал ее Сенька. – Платини – великий французский футболист, чемпион Европы восемьдесят четвертого года.
– Не знаю я никакого Платини. Тебя я знаю. И ты у меня – великий. От Капотни нас избавил!
Действительно, как здорово уехать наконец из нелюбимого Марьина! Забыть о штурмах автобусов и никогда больше не толкаться на перроне в ненавистных «Текстильщиках»: кажется, здесь пол-Москвы метро штурмует, да еще куча приезжих – с электричек из Подольска и Чехова.
…Собираться им было легко – особого имущества молодая семья не нажила. Четыре чемодана с одеждой, две коробки книг, ящик Николенькиных игрушек да немного «фамильных сокровищ» – сервиз от бабушки Арсения и печатная машинка.
– Плюс, конечно, будет баул с твоей косметикой, – закончил подсчет багажа Сеня. – Но… Без грузовика, думаю, обойдемся. Леньку попрошу. В его «Москвич» как раз все влезет.
Ленька, Сенин коллега, помогать вызвался охотно. Приехал, оглядел немудреный багаж и условия назначил такие:
– С вас бензин и пиво по приезде.
И резво потрусил по лестнице с первыми двумя чемоданами. Николенька помчался за ним. По дороге вопил:
– В Кьемь! Дядя Леня везет нас в Кьемь! К дяде Гогбачеву!
Настя улыбнулась:
– Совсем он помешался с этим Кремлем. Представляешь, меня воспитательница в саду на полном серьезе спрашивает: «А вы что, правда получили квартиру с видом на Кремль?»
– Получим еще! – заверил ее Сеня.
Он азартно уминал постельное белье в чемодане – тот распахнулся и никак не желал закрываться. Настя принялась помогать.
Сеня, красный от натуги, повторил:
– Говорю. Тебе. Получим! Или купим! В самом центре!
Баул наконец захлопнулся. А Настя не удержалась от шпильки:
– Ага, в центре. Кто нам там квартиру даст! Там и не строится ничего.
– Построят, – заверил Сеня. – Гостиницу «Интурист», например, снесут – и на ее месте построят. Или – снесут гостиницу «Москва».
– Ну ты фантазер! – ахнула Настя. – Кто же это даст их снести?! Неси лучше коробку, а то Леня тебя заждался.
…Все имущество действительно уместилось в «Москвич». Пассажирам, правда, мест не досталось. Леня деловито сказал:
– Могу только Николая взять. Вон, на заднем сиденье. Ну что, Колян, полезешь поверх того ящика?
Николенька с восторгом согласился. А Настя поспешно сказала:
– Ну и отлично! Езжай потихоньку. А мы с Сеней своим ходом доберемся.
– Штурманем на прощанье автобус! – поддержал ее Сеня и стал чертить другу схему, как найти их новое жилье…
Автобус штурмовать не пришлось: народу на удивление было немного. Даже сидячие места захватить удалось. Настя в последний раз (она надеялась, что в последний!) выхватывала взглядом знакомые магазинчики, пятиэтажки, кривобокие гаражики, аптеку, детскую поликлинику… И неожиданно выпалила:
– А мне жаль!
– Чего? – удивился Сеня.
– Жаль, что мы уезжаем из Марьина.
Сидевшая по соседству тетенька, слышавшая их разговор, наградила ее удивленным взглядом. А Настя поспешно сказала:
– Район, конечно, дрянь. На работу не доберешься. И запах этот из Капотни… Но разве нам с тобой здесь было плохо?
Сеня благодарно поцеловал ее в щеку, ласково провел ладонью по волосам.
Любопытная тетка досадливо отвернулась.
– А в новом месте будет еще лучше! – заверил ее Сеня. – На Бульварном кольце, говорят, соловьи живут…
– Ну, соловьев там, допустим, нет. Но все равно, конечно, здорово! Знаешь, как я соскучилась по центру… Слушай, а этот твой Черкасов из Америки раньше времени не вернется?
– Вернется – найдем что-нибудь еще! – легкомысленно сказал Сеня.
«Ага, и до смерти будем жить по съемным квартирам!» – снова подумала Настя.
Но опять, разумеется, промолчала.
Однако Сенька – колдун он эдакий – прочел ее мысли. Предложил:
– А хочешь, мою квартиру в Южнороссийске на Москву обменяем? Можно будет получить вполне приличную «однушку».
– Нет! – поспешно ответила Настя. – Нет! Ни за что.
И тут же предложила свой вариант:
– Давай лучше от Бронной кусочек оттяпаем!
Сеня тоже был короток:
– Нет. Даже и не думай об этом.
«Мы – великодушные, сентиментальные дурачки», – мысленно подвела итог Настя.
Но она, правда, не может даже представить, что Сениной квартиры больше не будет. Что в ней станут жить чужие люди…
Сенино родовое гнездо располагалось в приморском городе Южнороссийске. Старый (по-хорошему старый – с высокими потолками и большими окнами) дом на самом берегу моря. Слышен прибой и вздорные крики чаек. Балконы (целых два!) увиты диким виноградом. А деревянные полы до сих пор, кажется, хранят легкую походку Сениной бабушки и решительные шаги его деда…
Насте казалось, что Сенины родные и сейчас незримо присутствуют в этой квартире. Присутствуют ненавязчиво и нестрашно. Сидят вместе с Настей и Сеней за кухонным столом. Стоят вместе с ними на балконе и любуются рассветом… Сеня тоже говорил, что чувствует, что они оба, и бабушка, и дед, здесь – просто почему-то не могут показаться на глаза, поговорить с ними…
Разве можно такую квартиру менять? Просто кощунство какое-то. Да и неразумно: максимум, что можно получить за нее в Москве, – «однушку» в каком-нибудь гадком Марьине – Бескудникове. Или – еще хуже – комнату в коммуналке.
А куда они в таком случае будут ездить в отпуск? И как объяснят Николеньке, что уроки рыбалки, плавания в море и управления моторной лодкой отныне прекращаются?!
Существовала, правда, еще Настина квартира: огромная, пятикомнатная, в самом центре столицы, на Большой Бронной. Вот от нее Настя бы избавилась с огромным удовольствием. Удивительное эта квартира место: роскошная, бога-атая, но до чего же неуютная… Настя там и не бывала – уже почти год. А право на жилье имеет полное – на Бронной прописаны только она с Николенькой да ее мать, Ирина Егоровна. Обменять бы квартиру на две, скажем, хорошие «двушки» – и все проблемы решены.
Но тут уж заупрямился Сеня. Гордый он, понимаешь ли. Чужого ему не нужно. И одалживаться он не привык. Тем более у тех, кого не уважает (а Ирину Егоровну он и не уважал, и не любил).
Конечно, Настя могла бы настоять, чтоб квартиру на Бронной разменяли. Но только ей тоже не хотелось иметь с матерью никаких дел. А тем более – дел финансовых, скандальных (а какой же раздел имущества без скандалов?).
Так и получилось: формально они с Сеней жильем вроде бы оба обеспечены – ни в какую квартирную очередь не поставят! – а приходится мыкаться по съемным квартирам…
Впрочем… Впрочем, разве ж они «мыкаются»? Им ведь хорошо друг с другом – даже в чужом противном Марьине!
И Настя, не обращая внимания на любопытных автобусных попутчиков, потянулась к Сене целоваться…
* * *
– Молодец твой Черкасов. Умеет жить, – оценила Настя, обойдя новое жилье.
«Двушка» была обставлена с шиком. («С застойным шиком!» – уточнил Сеня.) Здесь имелось все, что полагалось по канонам «богатой советской жизни»: и горка, и стенка, и полки с «макулатурными» книгами: Дюма, Дрюон, Буссенар. Хрустальная люстра, голубая сантехника в ванной, китайский кнопочный телефон и даже – о, шик! – духовка с грилем. Все чистенькое, ухоженное. Ни пылинки. А ковер, кажется, недавно выбивали во дворе, на снегу. В уголке гостиной – «окно в природу»: здоровенный аквариум, пальма в кадке и аспарагус в настенном горшочке.
Николенька немедленно включил подсветку и кинулся разглядывать рыб. Стучал по стеклу, украшал аквариум рядом отпечатков. Рыбки были большие, губастые, Настя раньше сроду таких не видела – собрались на зов, рассматривали мальчика с интересом.
– Кушать хотят, – со знанием дела заключил сын.
Сеня сходил к холодильнику, принес свернутую кульком газетку. Протянул сыну: «Корми!»
В кульке оказались червяки – противные, темно-красного цвета.
– Мотыль, – объяснил Арсений. – Их на Птичьем рынке покупать нужно.
Настю от вида червей передернуло. А Николенька – ничего, быстро освоился, начал закидывать мотылей в аквариум.
Рыбы лопали с аппетитом. Коля с папой комментировали процесс и придумывали обжорам имена. А Настя заметила, что на стене, сбоку от аквариума, прицеплена записка: «Челышев! За рыб отвечаешь головой. Смотри, чтобы ни одна не сдохла».
– Тебе тут письмо, – Настя протянула записку мужу.
Тот прочитал, фыркнул:
– Черкасов у нас – по запискам спец… Посмотри, что он нам в спальне оставил!
Настя прошла во вторую комнату. Здесь центром композиции была огромная кровать, украшенная шелковым покрывалом и очередной запиской: «Попробуйте только сломать!»
Сеня тоже явился в спальню. Обнял Настю, шепнул:
– Эх, чует мое сердце – не выполню я завет Черкасыча. Сломаем мы ему ложе, как пить дать сломаем…
И Настя радостно подумала: «Кажется, на новом месте мы заживем неплохо!»
…И понеслась новая жизнь.
На площади Ногина действительно оказалось куда приятнее, чем в забытом богом Марьине. Улицы чище, магазинов больше, публика симпатичнее. Даже пьяницы более культурные, чем на марьинских выселках. Зальют глаза – и сидят себе тихонечко на бульварных скамейках, щурятся на весеннее солнце. Не то что по прежнему месту жительства – там алкаши громогласно гоняли жен и безобразничали на детских площадках.
Вопрос с детским садиком для Николеньки решился легко. «По-деловому», – сказал Сеня.
Заведующая, цепкоглазая дама в строгом костюме, внимательно выслушала Настю, небрежно закинула коробку конфет в ящик стола и попросту, без комплексов и затей, назвала сумму. Сумма оказалась изрядной.
– Зато мальчик пойдет в спецгруппу, – веско сказала заведующая. – А у них там английский, логопед и плавание два раза в неделю.
Устоять перед такими благами для сына было невозможно, и уже через неделю после новоселья Николенька отправился в детский сад. Прежний свой садик он ненавидел лютой ненавистью, и потому все утро прошло в капризах и плаче:
– Не хочу! Не пойду!
Настя опаздывала на работу и еле удерживалась, чтобы не влепить сыну несильный педагогический подзатыльник. А Сеня – он тоже спешил – легкомысленно пообещал Николеньке:
– Один раз сходишь – и все. Если не понравится – неволить не станем. Будешь дома сидеть.
Сынуля сразу воспрянул. Настя незаметно для малыша покрутила пальцем у виска: ты что, Сенька? Спятил?
Сеня вздохнул, пообещал Насте:
– Вечером я сам его заберу.
Весь день Настя со страхом предвкушала вечерний Николенькин рев. Она пораньше ушла с работы. Раздобыла в буфете симпатичную, почти не синюю, курочку, на рынке купила цветной капусты и даже дорогущих огурцов и болгарского перца. На скорую руку соорудила королевский ужин – салат из свежих овощей, курица-гриль и цветная капуста в сухарях. Для Николеньки – сок, для них с Сеней – бесконечный компот (осенью Сеня притащил три ящика яблок, и Настя наварила банок, наверно, сто).
Из тайника достала банку лимонных долек – готовилась умасливать Николеньку. Настя хорошо помнила, как сын привыкал к детскому садику в Марьине: неделю ревел целыми вечерами.
Но, к ее радостному удивлению, малышу в новом саду понравилось. Весь ужин Настя с Сеней выслушивали восторженные рассказы про огромные запасы игрушек, про бассейн, где плавают надувные гуси-круги, и про то, что по-английски его зовут Ником.
Николенька даже спать отправился без капризов. Важно сообщил родителям:
– У нас завтра напыщенный день! Елена Никитична сказала.
– Может, все-таки насыщенный? – робко предположил Сеня. В его глазах плясали чертенята.
– Ну, насыщенный! – отмахнулся сын. – А чем нас, папа, будут сытить?
– Манной кашей, – брякнул Сеня.
– Нет! – возмутился Николенька-Ник. – В моем новом садике манной кашей не когмят!
– А чем вас там кормят?
– Фьикадельками! – важно выпалил сын.
– Ах, «фьикадельками»!.. Ну, иди давай мыться перед сном, «фьикаделька»!
Сеня сделал вид, что гонится за ним, Николенька с хохотом помчался по квартире, и дело кончилось диким смехом, беготней, щекоткой, подкидываниями… Пока Настя не гаркнула:
– Ну-ка хватит мне ребенка разгуливать! Не уснет ведь! Марш зубы чистить!..
– Что ж, – констатировал Сеня, когда малыш уснул после первых двух страниц «Карлсона», – все идет удачно. Кажется, в этом садике он приживется.
– Не заболел бы только, – вздохнула Настя.
– Он сказал, что им на обед витаминки давали. Которые убивают злых микробов.
– Ремантадин, что ли?
– Нет, сказал, что сладкие. Аскорбинку, наверно.
– Ну что ж, дай бог, чтобы все было хорошо, – протянула Настя. И важно добавила: – Я тогда завтра рукопись на вечер домой возьму. А то с этими переездами недолго и квалификацию потерять.
– Ты не потеряешь. Но все равно – бери, – поддержал ее Сеня.
…Насте очень нравилось, что Арсений серьезно относится к ее работе. Все подружки говорили, что в мужьях это – редкое качество. Обычно на работу жен сильный пол взирает в лучшем случае снисходительно. Или даже хуже: насмехается и ворчит, что «дом запущен и хозяйство парализовано». А вот Сеня совсем не такой. Всегда выслушает, посоветует, поддержит.
Как только сыну исполнилось три годика, Настя, еще учась на четвертом курсе, поступила на работу в издательство «Вымпел». На самую низовую должность: секретаршей.
Первые пару месяцев рыдала горше Николеньки – но, в отличие от него, не на людях, а втихаря, в умывалке. Печатать у нее не получалось, селекторная связь с кабинетом начальника в ее руках постоянно выходила из строя, и даже кофеварка все время ломалась. Шеф, разумеется, злился. Едко говорил: «Вроде бы взрослая женщина, а запомнить не может, на какие кнопки нажимать».
Настя переживала из-за собственной никчемности, а Сеня придумывал для нее миллионы успокоительных слов.
– Я ничего не умею! Ничего! – причитала Настя.
Что же за карма у нее такая: абсолютно никаких способностей! Ни к чему!
– Настя, не глупи! – вразумлял ее муж. – Чего же ты хочешь: секретарских курсов не кончала, опыта никакого!.. Все у тебя получится!..
Муж снабдил ее учебниками по машинописи и предложил: вечерами, взамен никчемного телевизора, совместно учиться печатать «слепым» методом. Настя с радостью согласилась – и еще больше обрадовалась, когда поняла, что наука оказалась нехитрой и она схватывает ее даже быстрее мужа.
– Как ты быстро! – искренне восхищался Сенька, глядя, как лихо Настя лупит по клавишам.
Сам он «слепой» метод так и не освоил, зато у Насти дела быстро пошли на лад, и начальник ругаться на нее перестал. Даже сказал, что «секретарша-филолог – это для нашего издательства слишком хорошо». И предложил ей – в свободное от основной работы время! – редактировать рукописи.
Настя, конечно, испугалась: да кто она такая, чтобы править настоящих писателей! Она не раз слышала, как современные Толстые – Тургеневы являются к шефу с претензиями: «Ваши редакторы опять изгадили мою рукопись своими грязными лапами!»
«А вдруг мои руки они тоже назовут грязными?» – переживала Настя.
Но Сеня твердо сказал:
– Не трусь. Главное – ничего не вычеркивай. А ляп увидишь – перепиши своими словами. Чтобы смысл был тот же, но – грамотней.
– Да какие там ляпы, – пробормотала Настя. – Это ведь писатели, они, наверно, знают, что пишут…
Сенька только хмыкнул:
– Ого-го!.. Еще увидишь, на что способны эти писатели!
Настя увидела – очень скоро.
– Похоже, они и средней школы-то не закончили! – удивлялась она. – Падежи путают. Или вот, послушай: «В темноте тучи было не разобрать ни рук, ни голов».
Но Настя посмеивалась над писателями только в кругу семьи. А с их рукописями обращалась по-настоящему осторожно. Чтобы не обидеть, не оскорбить ранимые души. Изо всех сил старалась не вычеркивать явную глупость, а переписать ее: хоть как-то. Высшим пилотажем считала, когда писатели говорили: «Эта ваша Настя в моей рукописи и не поменяла ничего…»
Шеф, конечно, был доволен. А Настя – по-настоящему счастлива. Впервые у нее появилось дело, которое она делает хорошо. Лучше других! Начальник стал все чаще ее хвалить, да и ее зарплата в семье совсем не лишняя. А главное – уверенность в себе появилась (как ведь ее, заразы, раньше-то не хватало!).
А теперь к ней даже гений-Сенька обращается – просит свои журналистские материалы отредактировать. И Настя – ничего, справляется, говорит ехидненько мужу:
– Как это: «В ночи призывно горела бензоколонка»? Пожар там у них, что ли?
Муж оправдывается:
– Ну, это… витрина у них светилась.
– Вот так и напиши: «Светил огонек бензоколонки», – важно советовала Настя.
А Сенька чмокал ее в нос и искренне говорил:
– Умничка ты моя! Вот повезло мне с женой: и красавица, и хозяюшка, а уж редактор какой!
И Настя млела от его похвал и неуверенно спрашивала себя: «Неужели у меня теперь все в жизни будет хорошо?»
Подозрительно как-то, когда все идет так складно…
Однако – тьфу, тьфу, тьфу – слава богу, ничего такого не случалось. Николенька в своем спецсадике чувствовал себя прекрасно. Сеня вечерами спешил домой – часто с букетом, а два раза в месяц – с приличной зарплатой. И Настина карьера шла в гору – шеф прозрачно намекал, что с осени она займет должность ведущего редактора.
Поэтому пришлось согласиться: наконец-то и в ее жизни все наладилось.
Наконец-то она, Настя Капитонова, по-настоящему счастлива.
…И вот в один из таких счастливых, безмятежных дней той весны Насте вдруг позвонила мать.
Позвонила – и безапелляционным тоном потребовала немедленно приехать к ней.
Настя послушалась – безоговорочно, как в детстве.
Ехала и злилась: «Что там еще ей в голову взбрело?» И прикидывала, как будет отбиваться от мамашкиных претензий.
Однако разговор пошел совсем не так, как представляла Настя.
– Я умираю, – сказала мать, когда дочь приехала в ее квартиру на Большой Бронной.
Произнесены эти слова были настолько просто, безыскусно и спокойно, что Настя тут же с ужасом поняла: это – правда.
Мать не сразу ошеломила дочь страшной новостью. Сперва проводила Настю на кухню, усадила, налила чаю.
Ирина Егоровна была, как всегда, величественной и спокойной. Никакого надрыва. Никакого трагизма. Однако выглядела она ужасно. Всегда тщательно следившая за собой, мать обычно смотрелась лет на тридцать пять (вместо своих сорока трех).
Теперь Настя была поражена происшедшей с ней переменой. Перед ней предстала женщина глубоко за пятьдесят, старая и больная. Мешки под глазами. Растрепанные полуседые волосы. Исхудавшие, костистые руки. Желтое, иссохшее лицо.
– Боже, мама, – выдохнула Настя. – Почему… Почему ты вдруг так решила?.. Что с тобой?
– Рак, – спокойно ответила та, и короткое слово прозвучало как приговор. И припечатала – словно подвела черту под собственной жизнью: – У меня рак мозга.
– Боже мой… – пролепетала Настя. – Но… Но это же лечится… – Оглушенная вестью, она сама не верила в то, что говорит.
– Не в моем случае, – безапелляционно отрезала мать.
– Кто тебе сказал?
– Все. Сказали – все. Врачи в «Кремлевке». И в Онкоцентре. И сам академик Блохин.
Мать сидела напротив Насти за кухонным столом. Ее лицо, необычайно постаревшее, было, как всегда, спокойным.
Настя неотрывно смотрела на нее. Ирина Егоровна умела быть беспощадной. И к окружающим, и к самой себе. Она не признавала полутонов и всегда называла вещи своими именами. «Неудивительно, что именно матери врачи рассказали правду, – мелькнуло у Насти. – И о диагнозе, и о прогнозе. Рассказали – хотя никогда никому не рассказывают. И всех утешают… Но… Это же моя мать… Она заставит признаться кого угодно…»
Еще вчера Насте казалось, что она никогда в жизни больше не увидит мать. И даже нисколько не огорчится, когда вдруг узнает, что та – умерла. Слишком сильна была ее злость на мать. Злость и обида.
«Она искалечила мне всю жизнь», – считала Настя. И имела на то основания.
Но вот теперь, видя потерянное, опрокинутое лицо матери, она вдруг испытала к ней беспредельную жалость.
Или, может, причиной тому была знакомая с детства обстановка? Предметы, звуки и запахи? Отдаленный рокот редких машин, проезжавших по Бронной… Старая сахарница красного стекла с надписью «RIGA»… Запахи квартиры… Родной квартиры и кухни… И – матери…
– Давай-ка я налью тебе еще чаю, – с удивительной, несвойственной ей сердечностью проговорила мать. И добавила: – Мне надо тебе многое рассказать. Во многом признаться… Ешь конфетки. Вот «Мишки» – кажется, твои любимые?
За полгода до описываемых событий Декабрь 1989 года Чехословакия. Прага
За полгода до этого разговора между Настей и ее матерью Эжен Сологуб, официальный супруг Насти Капитоновой, перешел Уездову улицу. По ней катились такие же, как в Москве, трамваи производства ЧССР – вот только улица была совсем другая: с чистой брусчатой мостовой и вымытыми витринами, за которыми были выставлены товары: и колбасы, и одежда… А встречные люди – куда красивей одеты, чем москвичи, и имели они совсем иное, несоветское, выражение лиц – европейское и куда более расслабленное.
«Они уходят от нас, – с горечью и оттенком злобы подумал Эжен. – Да они никогда и не были нашими. Мы их заставляли быть нашими… Загоняли в соцлагерь, а они только притворялись, делали вид, что они – с нами… Чужие они, эти чехи, чужие… Враги! Только и думали всю жизнь, как от нас улепетнуть. И вот сейчас, радостные и счастливые, – уходят…»
«Впрочем, от нас – и собственная страна уходит… Предатели, предатели! – уже с несдерживаемой злобой подумал он, теперь имея в виду Горбачева и его компашку, заварившую в стране такую кашу. Кашу, которую ни сам Горбачев, ни кто другой не умел расхлебать. – Сволочи! Наемники ЦРУ!.. – Злоба вдруг захлестнула Эжена – с такой силой, что на секунду стало трудно дышать. – Разваливают Союз, разваливают соцлагерь!.. Раздаривают западникам все, за что отцы и деды воевали, за что крови не жалели! За тридцать сребреников продаются янки!.. За сладкие речи страну дарят, за комплименты и премии!..»
Сердце яростно забилось от ненависти, в глазах потемнело, и Эжену пришлось даже остановиться, несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы привести себя в норму. Нет, нет. Стоп. Сейчас не время для эмоций. Сейчас ему надо быть хладнокровным и ловким. И расчетливым. Слишком многое значит – и для него, и для всего их дела — предстоящая встреча. Слишком многое поставлено на карту.
Усилием воли Эжен успокоился, привел свои мысли в порядок. Приступ злобы отступил.
Он поднялся по ступенькам к фуникулеру, следующему на холм Петржин. По ходу проверился в витринах фуникулерной остановки. За ним никто не следил. Впрочем, его контрагент гарантировал, что никакой слежки не будет. Слишком высокое место занимал тот в чехословацкой партийной иерархии. Слишком многое зависело от этой встречи. Для него, чеха, прежде всего.
Впрочем… Впрочем, никогда ни в чем нельзя быть уверенным… В наше время – тем более… И место встречи вполне могут слушать… Слушать, и писать, и наблюдать… Наблюдать может кто угодно… И чехословацкая «беспека», и коллеги из КГБ или ГРУ, и штази, и цэрэушники… Слишком важные дела предстоит сегодня Эжену обсудить с агентом.
Эжен помнил расписание фуникулеров. Он вошел в павильон остановки как раз в тот момент, когда вагончик стоял с приветливо распахнутыми дверями, готовый к отправлению.
Эжен вскочил в фуникулер. Через секунду двери закрылись и вагончик потащился наверх в гору.
В вагоне никого не было. Не сезон. Декабрь – совсем не время гулять в парке на холме Петржин. В другом, первом вагоне притулилась парочка. Они сидели, обнявшись, спиной к Эжену. Девушка доверчиво прильнула к плечу парня.
На секунду Эжена пронзила зависть к незнакомому чеху.
Настя никогда так ласково и безоглядно не припадала к его плечу.
Настя… Предательница, изменщица… Она никогда его не любила. И тщетной оказалась его попытка приручить ее. Приучить к себе.
Сколько волка ни корми – он все равно в лес смотрит. Вот и она, Настена, – сколько ни привозил он ей заграничных шмоток, ни дарил бриллиантов – при первой же возможности ушла на сторону.
Сделала ноги. Оставила его, Эжена, с рогами.
«Ну ничего, – подумалось ему. – Мы еще посчитаемся. Она у меня еще попляшет. И он, этот ее злосчастный любовник – Арсений, – тоже. Они оба будут молить меня о пощаде. На коленях молить о прощении».
Фуникулер медленно катил в гору. Справа от него тянулась Голодная стена. Стена, ведущая из ниоткуда в никуда. Стена, никого ни от чего не защищающая.
Карл Четвертый повелел ее строить, чтобы спасти своих соотечественников, этих несчастных «кнедликов», от голода. Нет чтобы просто раздать им хлеб – как это сделал бы нормальный русский монарх вроде Алексея Михайловича. Так нет!.. Карл заставлял народ возводить никому не нужную стену – а по вечерам наделял голодных строителей пайкой за проделанную работу.
Этакая милостыня с воспитательными целями.
Вдали, за Петржином, за Голодной стеной, возвышался своими зубцами Град. Пражский кремль, в который вот-вот, похоже, въедет этот диссидент и подонок Гавел.
Советская власть в Чехословакии не просто шатается. Она держится на волоске и вот-вот рухнет. Так же, как только что рухнула в Румынии.
Хорошо, что «кнедлики» – люди вялые, спокойные. Они расстреливать, как в Румынии, не будут. Да и КПЧ1 чехам не так сильно досаждала, как Чаушеску2 – румынам. Здесь все пройдет тихо.
Но все равно неразбериха будет.
Вот он, Эжен, этой неразберихой и воспользуется.
Ланова драха3 доставила Эжена к конечной остановке. Парочка из соседнего вагона вышла. Она так ни на секунду и не разомкнула объятий.
Эжен не спеша покинул вагончик.
В парке было пустынно. Ни единого человека вокруг. Розы, главное украшение Петржинского парка, давно отцвели. Кусты были аккуратно подрезаны. То здесь, то там до сих пор валялись на земле полузасохшие алые лепестки.
Эжен не спеша пошел в гору по парковой аллее. Неподалеку маячила росхледна – смотровая вышка: кривая и маленькая копия Эйфелевой башни. «Она в точности как и вся эта Прага, – усмехнулся про себя Эжен. – Кривая и маленькая копия Парижа».
Парочка из фуникулера куда-то исчезла. Уже целовалась, наверно, где-то, дурея, на парковой скамейке.
Агент ждал Эжена, стоя лицом к мини Эйфелевой башне. Он оказался маленького росточка, седой, в габардиновом плаще. Похоже, он прибыл сюда пешком со стороны Градчан.
Агент обернулся на звук шагов Эжена.
Лицо его оказалось знакомо. Его портреты часто печатали в «Руде право», а порой носили на демонстрациях.
– Здравствуйте, – учтиво поклонился агент. Он прекрасно говорил по-русски. Впрочем, иначе бы он не сделал карьеры в ЦК КПЧ.
– Добрый день, – улыбнулся Эжен.
Агент едва доставал ему до плеча.
– У меня не так много времени, – вежливо проговорил чех.
– Много и не понадобится, – сказал Эжен.
Они пошли рядом по песчаной дорожке вокруг мини-Эйфелевой башни.
– Все готово, – продолжил Эжен. – Вы можете начинать сегодня.
– Я хотел бы слегка подробно знать, – с акцентом произнес чешский функционер, – каким образом будет организован процесс.
– Открыто пять разных счетов в пяти различных западных банках. Все банки контролируются нами. Вот номера счетов. – Эжен протянул товарищу бумагу, где были записаны банковские реквизиты. – Вы переводите туда ваши, то есть партийные деньги… Какова будет сумма?
– В районе десяти миллионов долларов.
– Прекрасно. Далее деньги в тот же день перебрасываются на несколько других счетов – в Лихтенштейне, на Кипре… Это делается для того, чтобы запутать следы. Чтобы скрыть место их происхождения… А на следующий день средства аккумулируются на одном из счетов в банке Цюриха. На номерном счете. К нему будете иметь доступ только вы.
Песок поскрипывал под ногами. Во влажном воздухе парок вырывался изо рта. Эжен с агентом сделали полный круг, обходя смотровую башню.
– Не только я один, – покачал головою чех. – Мои товарищи тоже. Надо предполагать, что чехословацкая компартия теперь перейдет на нелегальное положение. Нам будут необходимы деньги на продолжение борьбы с оппортунистами.
«Рассказывай», – усмехнулся про себя Эжен.
– На счет в Цюрихе будет переведена вся сумма? – поинтересовался чешский партиец.
– Вся, за вычетом наших комиссионных, – сказал Эжен.
А про себя добавил: «И еще кое-каких деньжат. Которые обеспечат мне спокойную жизнь. И спокойную старость».
– Я мог бы поинтересоваться величиной ваших комиссионных?
– Десять процентов.
Чех пожевал бледно-синими склеротическими губами.
– Не слишком ли велико ваше вознаграждение? – проговорил он.
Налетевший ветерок пошевелил венчик его седеньких волос.
«Зачем тебе вообще деньги! – подумал Эжен высокомерно. – Ты скоро умрешь». А вслух произнес:
– Вы можете найти других посредников. Например, американцев. Или МОССАД.
Чех криво усмехнулся, показав, что он оценил шутку.
– Вы не могли бы уменьшить сумму вашего гонорара? – тем не менее поинтересовался он. – Допустим, до восьми процентов?
«По этой причине они и лучше нашего живут, – мимолетно подумал Эжен. – Потому что за каждую крону удавятся».
– У нас есть один литературный герой, – произнес он, – который говаривал: «Торг здесь неуместен».
– Я знаю этого героя, – серьезно кивнул чех. – Его звали Остап Бендер… Каковы реквизиты моего конечного счета в Цюрихе? Пароль доступа?
– Вам сообщат это по обычным каналам связи. Сегодня же.
– А какие я имею гарантии, что здесь не будет происходить ошибки или обмана?
– А каких вы хотели бы гарантий? – пожал плечами Эжен. – Заверенного письма лично от Горбачева?
– Я оценил вашу иронию, – сказал чех. – Жалею, что у нас действительно нет выбора и времени, чтобы обратиться к кому-то еще. И получить более приемлемые условия. Как видите, я являюсь весьма откровенным с вами.
– Как и я – с вами, – слегка поклонился Эжен.
– Мне остается лишь надеяться на порядочность наших советских братьев. И – на вашу личную порядочность.
– Мы друзей в беде не оставляем.
– Я сегодня же начинаю переводить деньги.
– И это правильно.
Чех закусил губу, отвернулся и быстро зашагал по парковой дорожке прочь от Эжена. На ходу он вытащил из кармана плаща черный берет и нацепил его на свой седо-лысый череп. Глядя на удаляющуюся фигуру чеха, Эжен подумал, что тот похож не на одного из руководителей государства, а на провинциального бухгалтера. Впрочем, он, видимо, по своей сути им и являлся.
Эжен пошел по направлению к фуникулеру. Вагончик пойдет вниз через пять минут.
Операция с чехом – если она выгорит, конечно, – должна сделать лично его, Эжена, богачом. Речь идет не о тех комиссионных, за которые торговался чех. Те комиссионные пойдут в спецфонд его службы. Ему лично от них не перепадет ни черта. Разве что премия в двести-триста инвалютных рублей.
Но он разработал комбинацию по переброске денег так хитро, что не все они дойдут до адресата, в тот самый цюрихский банк на имя чеха. Кое-что достанется и ему, Эжену. И очень весомое «кое-что». Даже при условии, что ему тоже придется делиться. Все равно пятьсот тысяч долларов – это неплохая сумма. Ею можно и поделиться – с хорошим человеком. А потом жить долго и счастливо. И исполнять все свои прихоти.
А когда чех поймет, что его слегка пощипали, он уже не будет иметь никакой власти. Нигде – ни в Чехословакии, ни в Союзе. И никаких его жалоб никто рассматривать не станет.
Да и не будет он жаловаться.
…Эжен спустился вниз на фуникулере. Не спеша дошел до трамвайной остановки, сел в вагон. На углу митинговала небольшая кучка людей. Развевались чешские знамена, вздымались кулаки. Народ слаженно, но негромко скандировал: «Гавел – до Град! Гавел – до Град!..»4
«Кричите-кричите, – усмехнулся про себя Эжен. – Пешки. Оппортунисты. Быдло… Пушечное мясо… Смазка на колесах истории… Все равно настоящая власть, как и настоящие деньги, опять пройдет мимо вас…»
НАСТЯ Весна 1990 года
Настя сидела с матерью на кухне в их квартире на Большой Бронной – в квартире, от которой она уже успела отвыкнуть. За то время, пока они не виделись, в жилье не произошло никаких перемен.
Перемены произошли в матери. Когда они встречались последний раз, год назад, Ирина Егоровна была цветущей, полной сил женщиной. Теперь перед Настей сидела высохшая, болезненная почти старуха.
– Сиди и слушай, – строго, как всегда, сказала мать. И начала: – Я никогда и ничего не рассказывала тебе о моем детстве…
– В самом деле, – вздохнула Настя.
– Постарайся меня не перебивать, – отрезала Ирина Егоровна, и Настя подчинилась.
Так всегда, всю жизнь было у нее с матерью: та командует – Настя беспрекословно покоряется.
– На то, чтобы не посвящать тебя в подробности, у меня имелись свои причины, – внушительно продолжала мать. – Я не могу утверждать, что мое детство и юность были безрадостными. Но… Имелось в моей жизни одно обстоятельство, о котором мне никогда, ни в коем случае, не хотелось рассказывать… Одна тайна… Даже, вернее, две… Но теперь… Теперь, когда я ухожу, я сочла, что ты должна знать… Знать – все… Впрочем, – мать вздохнула, – я буду последовательной… Знаешь, при каких обстоятельствах ты, Настя, появилась на свет? – спросила мать строгим голосом.
– Н-ну… – на мгновение смешалась Настя.
Она снова почувствовала себя неловко – как и почти всегда, когда она общалась с матерью. Она опять боялась ошибиться. Сказать или сделать что-нибудь не так. Она снова попала под ее влияние. И для этого ей хватило всего-то каких-нибудь полчаса.
– Ты встретила моего отца в Сибири… – неуверенно произнесла Настя. – В студенческом стройотряде… Это была случайная встреча…
Все время, пока Настя осторожно – словно по минному полю шла – говорила, Ирина Егоровна смотрела на нее испытующе, строго.
– И ты больше ничего не знаешь? – выстрелила она вопросом.
– Н-нет…
– Никогда не слыхала? Не догадывалась? – Мать продолжала выспрашивать, пристально сузив глаза.
«Да что ж это за допрос такой!.. – в сердцах (однако же про себя) воскликнула Настя. – Я взрослая женщина!.. Мы с ней давно на равных!.. Почему же я до сих пор ее слушаюсь?!»
Однако воля матери и ее авторитет были настолько велики, что, несмотря на внутренний бунт, Настя покорно, как школьница, проговорила:
– Нет. Я ничего не знаю. Не слышала. Ничего и никогда.
– Да, с твоим отцом мы действительно познакомились случайно… В Сибири на стройке, – сказала Ирина Егоровна. – И познакомились, и, – она усмехнулась, – полюбились… Представь себе: палатка на берегу Енисея… Большая, солдатская, с деревянным настилом на полу… Двадцать кроватей, двадцать тумбочек… Закуток для нас, четверых девчонок… Он был огорожен от мальчишек фанерой… Ночи холодные. Резко континентальный климат. Красноярский край… Порой, чтобы не замерзнуть, мы спали, укрывшись матрацами, а на головы надевали ушанки… Зато днем – жарища… Сорок градусов…
– Господи, тебе же тогда всего восемнадцать лет было! – воскликнула Настя. – Как же тебя родители-то отпустили!..
– Об этом, Анастасия, – строго сказала мать, – я расскажу тебе позднее.
И продолжила:
– Мы с девчонками на кухне работали… Поварами, посудомойками, раздатчицами, уборщицами – всеми сразу… Мальчишки построили для кухни и столовой грубо сколоченный деревянный навес… Плита, раковины, прилавок – раздача… А рядом – длинный стол, где обедали-ужинали парни… И все это – на берегу Енисея, широкого, стремительного…
В голосе матери прозвучали мечтательные нотки. Настя украдкой глянула на нее – и поразилась. Глаза Ирины Егоровны, всю ее жизнь цепко выхватывающие, замечающие в окружающем мире любую мелочь, сейчас, чуть ли не впервые на памяти Насти, оказались словно бы развернутыми внутрь себя – навстречу собственным воспоминаниям.
– …Парни наши строили совхозный коровник, – продолжала мать. – А мы, четверо девчонок, кошеварили. Были «поварятами» или «поварешками» – как нас ласково называли ребята… Непростое дело, знаешь ли, – накормить двадцать мужичков, да еще занятых тяжелой физической работой. Поворочай-ка котлы, да перечисть двадцать кило картошки, да перемой посуду, да подмети, полы надрай, столы вытри…
В голосе матери зазвучал привычный для Насти назидательный тон. Вот, мол, какая я была работящая – не то что некоторые (как Настя!). Впрочем, Ирина Егоровна тут же спохватилась и опять перескочила на ностальгическую ноту:
– Мы с девчонками дежурили по двое. В день дежурства вставали в четыре утра, а до рассвета уже успевали приготовить кашу к завтраку, мясо для бульона вариться ставили… В шесть – подъем для всех, линейка, завтрак… А потом мы крутились на кухне день напролет, до позднего вечера… Сварим обед, раздадим, посуду помоем – а там уже и ужин готовить надо… Так и день проходит… И вот все уже спят, а ты за полночь или картошку чистишь, или котлы драишь… А я ведь домашняя девочка была – как посуду, допустим, мыть или ту же картошку чистить – и представления не имела… Все у меня, особенно поначалу, получалось хуже, чем у других девчонок, медленней, чем у них… А по утрам я просыпалась – и буквально пальцы не могла разогнуть, так их наламывала за день…
Но не могла же я позволить, – глаза Ирины Егоровны гордо сверкнули, – чтобы кто-то заметил, что я делаю что-то плохо! Или тем более покритиковал меня на собрании отряда!.. Я старалась, училась, подтягивалась…
«А я и не сомневалась, что ты старалась изо всех сил», – подумала Настя.
– Смену свою кухонную, – продолжила мать, – я сдавала обычно в четыре часа утра, ровно через сутки, как заступала… На сон в течение этих суток времени ни секундочки не было… И после пересменки я засыпала как мертвая… Один раз даже до палатки дойти сил не было. На обеденной скамейке уснула. Меня в шесть утра ребята разбудили, до палатки довели… Смеху было… Зато весь следующий день дежурные отдыхали… Отсыпались – нам, поварятам, даже послабление делали, разрешали на линейку не вставать… А потом можно было в день отдыха, счастливый день, помыться, простирнуть кое-что для себя, письмо домой написать… Искупаться в Енисее…
Настя никогда не слышала ни единой подробности о том, как мать работала в стройотряде. Знала (непонятно откуда, но знала), что в семье эта тема – табу. Ни сама мать, ни бабушка с дедом никогда о том эпизоде в жизни Ирины Егоровны не распространялись.
– Первое время мне очень тяжко было, – продолжала рассказывать мать. – Я плакала, страдала… Даже предательские мысли закрадывались: убежать из отряда… Больной прикинуться… Но потом, недели через две, я втянулась, привыкла. Появилась гордость за себя и свой труд… Думалось: вот я, комсомолка, занята общественно полезным делом… Мне еще только восемнадцать, а я уже приношу настоящую пользу своей стране… Это так все серьезно тогда казалось, так романтично… Я Маяковского вспоминала: «Это мой труд вливается в труд моей республики»… Мы тогда его безо всякой иронии цитировали, не то что сейчас… Шел шестьдесят четвертый год, еще Хрущева не сняли… Я вскоре даже научилась радоваться этой жизни, новой для себя. Очень приятно, например, было, когда парни искренне говорили нам после еды «спасибо»… Или когда хвалили именно мною приготовленные блюда… А купание в Енисее – холодном, быстром!.. И звездное небо по вечерам – столько звезд, как там, в Сибири, я больше никогда в жизни не видела…
Мать сделала паузу, на секунду задумалась и добавила вмиг помрачневшим тоном:
– И не увижу больше никогда…
Настя поняла, что именно она имеет в виду: свою болезнь. Неизлечимую болезнь.
Ирина Егоровна тряхнула головой, избавляясь от наваждения, и вернулась к воспоминаниям:
– А по вечерам, когда темнело, все мы – весь отряд, двадцать человек – собирались у нас в столовой под навесом. Обсуждали итоги дня: кто как поработал, что предстоит сделать завтра… У нас ведь настоящая коммуна была: все, что мы зарабатывали, решили поделить поровну, без обид. Поэтому все и работать должны были изо всех сил. И никто не сачковал, не филонил, не отлынивал – стыдно было перед товарищами… Ну, и, как положено в коммуне, деньги у нас там хождения не имели… Да и покупать нечего было… А кому нужен был одеколон, или конверты, или зубная паста – просто брал из ящика с припасами… Ну и кормили мы всех до отвала… Я тогда даже иногда думала – всерьез ведь думала! – да вот он, настоящий коммунизм!.. Может, мечтала я, такие же отношения – к работе, друг к другу – когда-нибудь наступят во всей стране? И каждый человек в Советском Союзе будет работать не за страх, а за совесть – потому что ему перед своими товарищами просто стыдно станет лениться?.. А за свою работу каждый будет получать бесплатно все, что ему нужно для жизни… И наступит настоящий коммунизм, о котором деды мечтали…
Мать иронично усмехнулась. Она смеялась над собой – молодой, наивной, глупой…
Потом продолжила, сменив тон:
– Ну, дальнейший ход исторических событий показал, что мои тогдашние мысли были не чем иным, как прекраснодушными мечтаниями… Наверно, для двадцати человек коммунизм еще можно построить… А вот для двухсот миллионов не получается… Поэтому мы и дошли до жизни такой…
Настя слушала ее – и ждала. Она понимала, что пока материн рассказ не более чем предисловие, разбег на пути к главному. К тому, что она в действительности хочет рассказать – а дочь услышать: кто был ее отцом? Каким он был? Как у них все случилось? И почему у них не задалась жизнь вместе?





























