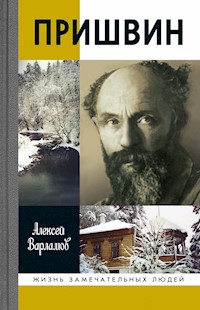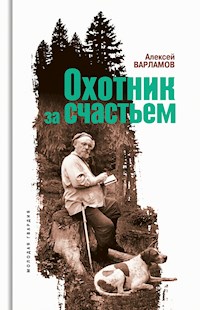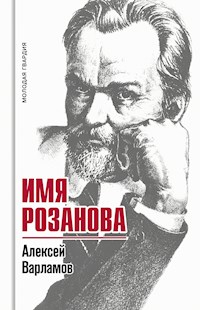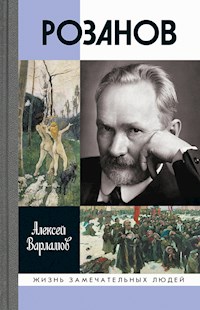
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Жизнь замечательных людей
- Sprache: Russisch
О Василии Васильевиче Розанове (1856—1919) написано огромное количество книг, статей, исследований, диссертаций, но при этом он остается самым загадочным, самым спорным персонажем Серебряного века. Консерватор, декадент, патриот, христоборец, государственник, анархист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, влюбленный во все еврейское, раскованный журналист, философ пола, вольный пленник собственных впечатлений, он прожил необыкновенно трудную, страстную и яркую жизнь. Сделавшись одним из самых известных русских писателей своего времени, он с презрением относился к литературной славе, а в конце жизни стал свидетелем краха и российской государственности, и собственной семьи. История Розанова – это история блистательных побед и поражений, счастья и несчастья, того, что Блок называл непреложным законом сердца: «радость — страданье одно». И всем этим чувствам, всем ощущениям, всем событиям и мгновениям жизни В. В. умел подобрать самые точные и волшебные, самые «розановские» слова, не утратившие обаяния и столетие спустя. Автор книги писатель Алексей Варламов не уклоняется от острых и трудных вопросов биографии своего героя и предлагает читателю вместе с ним искать ответы на них.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Алексей Варламов
РОЗАНОВ
МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2022
Информацияот издательства
Варламов А. Н.
Розанов / Алексей Варламов. — М.: Молодая гвардия, 2022. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1899).
ISBN 978-5-235-04492-0
О Василии Васильевиче Розанове (1856—1919) написано огромное количество книг, статей, исследований, диссертаций, но при этом он остается самым загадочным, самым спорным персонажем Серебряного века. Консерватор, декадент, патриот, христоборец, государственник, анархист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, влюбленный во все еврейское, раскованный журналист, философ пола, вольный пленник собственных впечатлений, он прожил необыкновенно трудную, страстную и яркую жизнь. Сделавшись одним из самых известных русских писателей своего времени, он с презрением относился к литературной славе, а в конце жизни стал свидетелем краха и российской государственности, и собственной семьи. История Розанова – это история блистательных побед и поражений, счастья и несчастья, того, что Блок называл непреложным законом сердца: «радость — страданье одно». И всем этим чувствам, всем ощущениям, всем событиям и мгновениям жизни В. В. умел подобрать самые точные и волшебные, самые «розановские» слова, не утратившие обаяния и столетие спустя. Автор книги писатель Алексей Варламов не уклоняется от острых и трудных вопросов биографии своего героя и предлагает читателю вместе с ним искать ответы на них.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
16+
© Варламов А. Н., 2022
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022
Автор выражает глубокую благодарность С. Р. Федякину за замечания и пожелания, высказанные по прочтении рукописи этой книги.
Издательство «Молодая гвардия» благодарит Государственный литературный музей им. В. И. Даля за предоставленные иллюстративные материалы.
Шило в мешке
Нет в русской литературе другого писателя, который вызывал бы столько неприязни и раздражения у самых разных людей, как герой этой книги. И при жизни, и после смерти. Как его только не гнали, как не обзывали, в чем не обвиняли, с кем уничижительно не сравнивали, от чего не отлучали. «Голый Розанов», «Обнаженный нововременец», «Бесстыжее светило, или изобличенный двурушник», «Гнилая душа», «Неопрятность», «Вместо демона — лакей», «В низах хамства», «Разложение литературы», «Позорная глубина», «Всеобщее презрение и всероссийский кукиш», «Опаснее врага», «Человек душевного мрака» — вот только несколько названий статей, которые были написаны в начале века, но кажутся прилетевшими из советского тридцать седьмого года. Известно резкое письмо Леонида Андреева Горькому, где он называет Розанова «ничтожным, грязным и отвратительным человеком» и сравнивает его с «шелудивой и безнадежно погибшей в скотстве собакой», в которую жалко бросить чистым камнем. «Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная», — писал Семен Венгеров Алексею Ремизову. «Редкий талант отвратительнее его», — отзывался о Розанове юный Александр Блок. «Что может дать духовно этот одаренный и проницательный писатель, который сам представлял собой какой-то безликий, аморфный студень?» — риторически вопрошал философ С. Н. Булгаков, ученик Розанова в гимназии Ельца.
Однако при этом никто и никогда из розановских недругов его талант сомнению не подвергал, и если продолжить, например, цитату из письма Венгерова, то и он признавал, что Розанов «писал почти — гениально». То же и Мережковский: «Считаю нужным оговориться, что я считаю Розанова, несмотря на все его заблуждения, не только в России, но и всемирно гениальным писателем». Нечастый случай, когда литературное дарование не оспаривается, а личность подвергается строжайшему разбору. Вот уж точно соединение гения и злодейства, но при этом и гения, и злодейства весьма своеобразного. «Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает», — вспоминал Андрей Белый, но и он Розанова ставил очень высоко.
Без этого человека не было бы в России Серебряного века, а если и был бы, то совсем другой, более пресный, гладкий, безопасный, полый и бесполый. Однако и Розанова невозможно представить в иную эпоху. Он стал ее эталоном, средоточием, тайным удом, не случайно о нем написано такое количество воспоминаний, научных исследований, статей и монографий. Его не перестают издавать, переводить, обсуждать, изучать, укорять, превозносить, ниспровергать, и когда читаешь эти эмоциональные публицистические либо сухие научные строки, странным образом ловишь себя на мысли, что все выступающие правы. И которые за, и которые против. И те, кто обвиняет, и те, кто оправдывает. И те, для кого он бесформенный студень, и те, для кого — острый нож.
В. В. — как часто называли его современники — настолько широк, всеобъемлющ и безразмерен, что, говоря о нем, невозможно промахнуться. Однако и он стреляет по нам в ответ. «Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка… баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, но спас мне честь и дыхание, — написал Венедикт Ерофеев. — Все тридцать шесть его сочинений вонзились мне в душу, и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна»1.
Уколы разной силы почувствовал, наверное, каждый из розановских читателей; даром, что ли, еще Пришвин заметил: Розанов как шило в мешке, его не утаишь. Хотя поразительным образом советской власти это почти удалось, и Розанова большинство из нас прочитало лишь тогда, когда ее не стало2. Во всяком случае, в первой половине восьмидесятых на лекциях по русской литературе студентам филфака МГУ о нашем знаменитом выпускнике ничего не рассказывали. Или, может быть, я прогуливал либо невнимательно слушал…
Происхождение героя
Историей своего рода Василий Васильевич не интересовался, честно признаваясь, что «дальше деда у себя ничего не помнит, и деда знает лишь из отчества отца: Василий Федорович, значит Федор», а в «Опавших листьях» подводил под это генеалогическое безразличие своеобразную теоретическую базу: «У русских нет сознания своих предков… от этого наш нигилизм: “до нас ничего важного не было”». Это важное сделали за него исследователи много лет спустя, и если коротко суммировать их изыскания, картина получается такая.
Будущий писатель В. В. Розанов по линии отца происходил из священнического рода, а по линии матери — из обедневшего дворянского. При этом фамилия, о которой он так сокрушался (все, конечно, помнят дивный пассаж про булочника Розанова из «Опавших листьев»; правда, подозреваю, что сокрушался В. В. делано, на самом деле «неестественно-отвратительная» фамилия ему ужасно нравилась, как нравилось и все, что было связано с ним самим), не была родовой. Его деда по отцовской линии звали Федор Никитич Елизаров, был он сыном священника, внуком священника и сам служил священником в храме Рождества Богородицы в селе Матвееве Кологривского уезда Костромской губернии. Розановым стал родившийся в 1822 году его сын Василий, после того как отрока отдали в семинарию. Такая была у «колокольных дворян» традиция: менять фамилии своим отпрыскам, посылая их на учебу.
Что касается того, почему розановский дед избрал именно эту, прекрасную, звучную, литературную, то существует убедительное предположение костромской исследовательницы Ирины Халидовны Тлиф, что это было сделано в честь любимого семинарского преподавателя отца Феодора. «В Костромской духовной семинарии в начале XIX века служил учителем Василий Федорович Розанов — выпускник Костромской и Лаврской семинарий. В семинарии он преподавал философию и французский язык, а во внеклассное время занимался постановками пьес на дозволенные семинарским правлением сюжеты. За любовь к драме получил замечание епископа, а впоследствии театральные действия и вовсе были отменены — “от семинаристов не комедиянтов, а добрых пастырей и духовных наставников ожидают”. Позже В. Ф. Розанов принял монашество (в монашестве Гавриил), был ректором различных семинарий, епископом Орловской епархии, архиепископом Екатеринославской, затем Тверской и Кашинской епархий. Написал несколько сочинений религиозно-поучительного характера. У Василия Федоровича обучались многие отцы будущих “Розановых”, в том числе Ф. Н. Елизаров, старший сын которого был полным тезкой семинарского учителя и первым Розановым в роду».
Отец нашего Розанова, стало быть, тоже Василий Федорович, окончил Костромскую семинарию в 1840 году, однако по духовной части не пошел, а поступил на службу в Костромскую палату государственных имуществ писцом второго разряда. Служил он, судя по всему, весьма усердно, и четыре года спустя его повысили и перевели в город Ветлугу, где предположительно он и познакомился со своей будущей женой Надеждой Ивановной Шишкиной. Она была дочерью небогатого дворянина, который вышел в отставку, овдовел и проживал в Буйском уезде под надзором полиции как человек, «склонный к разным буйствующим поступкам», «частовременно занимающийся пьянством и в этом положении производящий разные предосудительные поступки». Среди прочих преступлений его также подозревали «в причинении насильственного блудодеяния», иначе говоря, изнасиловании. Таким образом, рассуждая о пресловутой противоречивости, двойственности нашего протагониста и соединении несоединимого в его личности и судьбе, можно предположить, что шло оно в том числе от разных натур двух его дедов — благородного левита, всю свою жизнь прослужившего в одном селе, избиравшегося депутатом при одиннадцати церквях и награжденного набедренником, пользовавшегося огромной любовью и уважением у клира и мира («трезв, к должности рачителен, поведения честнаго, нравов кротких»3) и — буйного буйского помещика, замешанного в преступлениях на сексуальной почве. А если верно, что гены передаются через поколение, то знаменитое розановское «два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечная пререкание — моя жизнь» — возможно, тоже идет отсюда, о чем сам В. В., правда, не ведал, но недаром писал, что есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «неладно». Розанов родился «неладно», и потому такая «странная, колючая, но довольно любопытная биография». Впрочем справедливости ради, в «Последних листьях» он сам себя опровергал: «Моя душа — вечное утверждение. “В мире со всеми”, “в ладу со всем”. Никогда еще такого “ладного” человека не рождалось». И никакого противоречия тут нет.
Мерзость запустения
Ветлужский период в жизни ладно-неладного младенца Василия был очень недолгим, но относительно благополучным. Во всяком случае, никакими иными свидетельствами на сей счет мы не располагаем, а более позднее розановское признание: «мы были страшно бедны, когда я родился, и я не забуду рассказа матери, что этот немудрящий доктор, помогший моему рождению, положил желтенькую бумажку, старый наш русский рубль, ей под подушку: уж не знаю, на пищу роженице или на лекарство, им прописанное» — кажется несколько преувеличенным. Все-таки глава семьи, чиновник не самого низшего звания, каким был энергичный Василий Федорович Розанов, пусть даже исключительно честный, не берущий взяток, вряд ли был беден до такой уж степени. Несчастье случилось зимой 1861-го, в канун выхода царского манифеста об освобождении крестьян. Занимавший в ту пору должность помощника ветлужского окружного начальника и по совместительству заведующего Варнавинским лесничеством отец семейства заболел воспалением легких и скоропостижно скончался, оставив сиротами семерых детей и жену, беременную восьмым ребенком. Жития его было тридцать девять лет…
Розанов отца не помнил, но позднее называл его добрым, честным, простодушным, смелым человеком, а про мать писал, что при ее жизни не чувствовал и не любил ее. Тому были свои причины. После смерти мужа тридцатипятилетняя вдова с детьми переехала в Кострому. Там она купила небольшой дом на окраине города близ местной Сенной площади, где и прошло печальное Васино детство, о котором мы знаем опять же в основном с его слов. Полностью доверять этим словам сложно, не доверять — невозможно. Розанов называл свое детство страшным, больным, испуганным, замученным, опозоренным, страдальческим, а дом, в котором он вырос, — рухлядью, темным, мертвым и злым. А кроме того — бедность, бедность, бедность, «нищета голая», такая, что иногда ели месяцами один печеный лук. Он вспоминал Кострому как город бесконечных дождей, писал, что над ним всегда были «у-у какие большие», а он был «страшно придавлен» и стал «слабым, бесконечно слабым». Своим детям, когда они шалили и не хотели есть, рассказывал о своем голодном детстве и, сделавшись известным писателем, больше всего гордился не своей известностью, не славой, а тем, что у него за столом собирается десять человек и он всех кормит.
Опять же, так ли все было беспросветно в материальном отношении в его ранние годы, сказать трудно. Надежда Ивановна получала после смерти мужа пенсию 300 рублей в год, и это были совсем не маленькие по тем временам деньги. Еще сколько-то Розановы получали, сдавая второй этаж дома «нахлебникам» (так звали тогда постояльцев), плюс у семьи были свой большой огород и корова. В. В. оставил в одном из писем Эрику Голлербаху душераздирающее описание смерти этой коровы: «Она была похожа на мамашу, и чуть ли тоже “не из роду Шишкиных”. Не сильная. Она перестала давать молоко. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал рогами ее, к козлам или чему-то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил — и надавил: она упала на колени, и я тотчас упал (жалость, страх). Ужасно. И какой ужас: ведь — КОРМИЛА, и — ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о… Печаль, судьба человеческая (нищета). А то все — молочко и молочко. Давала 4—5 горшков. Черненькая и словом “как мамаша”».
После этого в семье «настала окончательная нищета». Однако письмо Голлербаху было написано в голодные послереволюционные годы в Сергиевом Посаде, когда Розанов действительно питался очень скудно и одно ощущение могло не просто наложиться, но затмить другое. А вообще-то в пору розановского детства корова стоила 5—7 рублей, так что при такой пенсии купить новую большого труда, наверное, не составляло. В. В. писал, что мать не умела пенсией распоряжаться, и деньги, которые они получали два раза в год по 150 рублей, разлетались за три-четыре месяца, а вот если бы получали каждый месяц по 25 рублей, то при своем домике и огороде могли бы существовать. И все же главное несчастье семьи состояло не в деньгах или в их недостатке.
Оно явилось в 1864 году в образе конкретного человека, своего рода злого гения Розановых. Это был некто Иван Воскресенский, «нигилист-семинарист», снимавший комнату в розановском доме, но в отличие от других нахлебников задержавшийся в этом месте надолго. Отроку Василию было восемь лет, когда Воскресенский сошелся с Надеждой Ивановной, будучи вдвое ее моложе, и фактически стал детям «вотчимом».
«Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старою — бессильною — несчастною любовью», — вспоминал Розанов незадолго до смерти, когда тон его по отношению к матери сделался примирительным и он «вызвал тень ее из гроба» и «страшно с нею связался» (письмо Голлербаху), «и ее грехи, слабости, несчастие — все так люблю, люблю и целовал бы ее худенькое, больное личико и худенькие руки» (письмо о. Павлу Флоренскому), однако в ту пору это была настоящая семейная война. Каким был по характеру мамин сожитель, зачем нужна ему была вдова с многочисленным потомством, действительно ли он хоть сколько-нибудь любил ее — все это доподлинно неизвестно, но нельзя исключить того, что исчезавшие за короткий срок пенсионные деньги тратились как раз на милого друга и двадцатилетний лоб сделался нахлебником в принятом ныне смысле этого слова.
Сам Розанов позднее писал про Воскресенского, что «м. б. он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели». Только вряд ли детская эта ненависть родилась на пустом месте. В воспоминаниях старшей дочери Розанова Татьяны, очевидно, ссылавшейся на рассказы отца, говорится, что Воскресенский «был человеком озлобленным и часто пил». Розанов называл его в письмах «странным и угрюмым, “с должностями человека”, но немыми, холодными, бездушными». Семинарист был явно безразличен к тому поприщу, для которого готовили. «Мама и мы ничего не понимали в его “идеях”, но, очевидно, он был “мыслящий реалист”, и когда я гимназист шел на исповедь, он говаривал сухо: И — и — и (заикался) дешь попу грехи сваливать. Сваливай, сваливай! (сухо, без шутки)».
Однако своеобразного педагогического задора Воскресенский был не лишен и, судя по сохранившимся документам, пытался своих пасынков и падчериц не просто воспитывать, а вымещать на них собственные комплексы и обиды. Не на старших, которые были по возрасту практически его ровесниками и в родном доме уже не жили, а на младших. Именно обаяние власти, осознание своего могущества, а не только и не столько влечение к маленькой, неграмотной, раздражительной женщине, какой запомнил Розанов свою матушку, удерживало семинариста в доме у Боровкова пруда на окраине Костромы в течение шести лет. То был вариант сержантской дедовщины, когда «мыслитель» гнобил и сек этих несчастных детей, пытался подчинить, заставить себя уважать, а они как могли сопротивлялись и, сидя на бревнах во дворе, строили планы обратиться в полицию и обсуждали взрослую сторону жизни. «А ее “Ванька” порол меня, и вообще “школил” ДО гимназии, т. е. лет 7—8—9—10—11, и Его-то я как дьявола и хуже дьявола ненавидел», — писал Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому.
Мать, вероятно, все это видела, понимала, но, «истерзанная бессилием, вихрем замутненных чувств», встала на сторону молодого любовника, боясь его потерять. «Она была очень несчастна. Полюбила 40 лет, в старости и вдовстве, молодого семинариста, нигилиста, “образованного”, а сама была богомолка. И так ревновала. И посылала меня (7—8 лет) подсматривать, кто у него сидит, не женщина ли?» — вспоминал В. В., и с этого момента в доме и началась мерзость запустения.
«Мамаша на нас совершенно остервенелась и стала для нас хуже чужой. Мы не имеем ни молока, ни куска хлеба, ни белья, ни чистой комнаты. Я живу в настоящее время на фабрике… Сергей ходит в худых штанах, которые никто не хочет ни починить, ни вымыть, и целый день грызёт горелую корку хлеба. Василий, когда уже выпал снег, долгое время ходил в гимназию в одной визитке…» — рассказывал в одном из писем той поры брат Розанова Федор.
Виктор Григорьевич Сукач, самый глубокий и проницательный из наших розановедов, недаром заметил: «Над детством Розанова хочется плакать». И это правда. Отроческие годы В. В., его взросление, возрастание, формирование мужского характера — все выпало на этот бесконечный период и было навсегда искалечено. Он попал под каток, под поезд, маленький, не очень сильный ни духом, ни телом ребенок, «задумчивый мальчик», «каких не было никогда», впечатлительный, все запоминающий, на все отзывающийся, ничего не пропускающий мимо себя и — уходящий в мечту.
«Еще в Костроме я, бывало, забирался на сеновал, садился там на маленькую, устроенную мною качель и, раскачавшись, оставался с зажмуренными глазами и уносился мыслью далеко, далеко от той ужасной и маленькой действительности, среди которой жил… одинокий и озябший мальчик, от всех отчужденный и ничего не любящий, кроме своего чудного и горячего мира, в котором жило мое воображение», — писал он своему гимназическому товарищу Барановскому в 1886 году, а еще позднее сформулировал свое понимание мечты как своего рода убежища, неприкосновенной территории, куда никому кроме него не было хода.
«Иное дело мечта, тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже в детстве». «Мне кажется такого “задумчивого мальчика” никогда не было. Я “вечно думал”, о чем — не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты».
Этот побег в мечту Василия Розанова спас, и он единственный из розановского рода, не считая старшего Николая, студента Казанского университета, а впоследствии учителя и директора гимназии, уцелел и выбился в люди. По братьям и сестрам семейная история ударила еще больнее.
Сестра Вера умерла в девятнадцать лет, брат Федор бросил учебу, бросил работу и стал странником, но не в религиозном смысле этого слова, а скорее бомжом. Сестра Павла была глубоко несчастна в замужестве. Брат Дмитрий попал в психбольницу (есть страшное письмо, где Розанов пишет о грубом обращении с братом, и невыносимое письмо самого Дмитрия с просьбой прислать ему хотя бы какие-нибудь обносочки). Брат Сергей рассорился со всеми и с семьей не общался. Все пошло враздробь, как чеховским интеллигентам и не снилось.
«Тут всё мертво, хотя и шевелится, и дышит. И воскресить ничего нельзя, а можно только утонуть возле этого, в связи с этим, распутывая это (…) Мы все были в ссоре (…) всё окончательно заледенело, захолодело, а главное, замусорилось. За всё время я не помню ни одной заботы, и чтобы сам о чём-нибудь позаботился. Все “бродили”, а не жили; и ни у кого не было сознания, что что-нибудь должно делать…» — писал Розанов в «Уединенном», а в письме Павлу Флоренскому прибавлял: «…как УЖАСНО мы жили в Костроме, Боже — какой это был нигилизм, какой это был холод вокруг, брат Федор (19 л.) пропивал деньги, данные “сходить в аптеку за лекарством”, сестра Павлуша (Бог ей простит) только неприличиствовала с семинаристами (“богословие” и “философия” старые), и все было до того физически и духовно ГОЛО, ПУСТЫННО, что этого нельзя выразить, нельзя вспомнить без содрогания…»
Конечно, обвинять во всех бедах розановского дома одного Ивана Воскресенского едва ли справедливо, но факт есть факт: Розанову дважды пришлось пережить распад своей семьи — в детстве и в старости. Потом к этому прибавился распад государства, и по сути вся его жизнь стала подробной фиксацией, исследованием этой тотальной катастрофы и отчаянной, бессильной и в то же время отчасти лукавой попыткой сопротивления — и в личной жизни, и в общественной. И там, и там В. В. сокрушительно проиграл, но оставил поразительное по откровенности свидетельство этого поражения, начиная с самых детских лет.
Патологии
Невыносимая, нечеловеческая жизненная ситуация семьи усугубилась в связи с болезнью матери, когда мальчику исполнилось четырнадцать. «Милой Коля, ты не можешь вообразить, в каком положении или лучше сказать состоянии она находится, — писал Розанов брату Николаю в апреле 1870 года. — Ее болезнь и страдания нельзя ни словом сказать, ни пером описать; но уже когда нельзя всего сказать или вообразить не только в письме, но даже и лично, то мы хоть что-нибудь скажем про нее, бедную, тем более что это в моем законе, ибо я не люблю ни от чего отступаться до тех пор пока не кончу. Хотя бы это было и так трудно, что и сказать не можно. Мамаша теперь не встает с постели, и лежит-то она бедная на соломе, да и то хоть бы недавно, а то уж скоро будет год, как бы ты взглянул на ее, то, я думаю, так бы и отступился назад, — одни те кости, да кожа, и я уже не знаю, наберется ли золотника ½ крови и мяса вместе, — буквально, Коля, потому-то я и говорю тебе, чтобы ты постарался быть хладнокровным. Но все-таки, Коля, к ее чести надо сказать, что она сделалась тиха, любит нас более, чем прежде, миролюбива и ни капли почти прежнего».
Много лет спустя в письмах Эрику Голлербаху, по своему характеру мемуарных, пронзительных и одновременно адресованных юному другу как материал для будущей биографии, Розанов писал о том, как ухаживал в детстве за больной матерью: «Теперь я Вам скажу кое-что Эдиповское. Моя мама, моя мамочка, моя дорогая и милая, всегда брала меня в баню: и с безмерным уважением я смотрел на мелкие, мелкие (нарисовано) складочки на ее животе. Я еще не знал, что это остается “по одной после каждых родов”, а нас было 12 у нее. Затем: она захварывала очень медленно. У нее были какие-то страшные кровотечения, “по тазу” (т. е. вероятно и мочею). “Верочка уже умерла”, когда мне было лет 5, а Павлутка не возвращалась из Кологрива, где училась. Федор — брат был разбойник, Митя добрый и кроткий ( “святой” ) был полусумасшедшим — (сидел в психиатрич. больнице), а “здоровым” был слабоумным. Сереже — 3 года; а мне от 6 и до 9—10, 11 лет. Когда мама умерла, мне было лет 11 или даже 13 (1870 или 71 год). И вот, за мамой с женской болезнью я должен был ухаживать. Раз я помню упрек такой: “как это можно, что она Васю заставляет ухаживать. Неужели никого нет”. Но — никого и не было.
Бедность. Ужас. Нищета голая. Конечно — никакой никогда прислуги. Лечение же заключалось в том, что мешая “в пропорции” молоко с шалфеем — я должен был раза 3—4 в сутки спринцевать ее (она сидит, вся открытая) ручною спринцовкою (нарисована спринцовка), какою пульверизируют пыль. Мистики половых органов мы совершенно не знаем. Я делал это со скукой (“хочется поиграть”): но кто знает и испытал просто зрительное впечатление, вполне полное, отчетливое, абсолютное».
Это опять же к вопросу о розановских патологиях… Многим русским писателям досталось не очень простое детство, но это по ужасу, по страданию, по полной беспросветности, унижению и извращенности зашкаливает. Да, конечно, был Горький, которому Розанов не случайно писал: «А моя мамочка из могилы жмет Вам за сына руку: ах, какая она была бедная и измученная. Вот это целая история — и под перо бы Вам. Да и вся наша семья в Костроме — Ваш сюжет, с “лирикой”».
В горьковской автобиографической трилогии тоже можно найти немало горестных страниц, но их герой — победитель, он сильнее своих обстоятельств. Про Розанова так не cкажешь. Он тоже вроде бы вырвался, добился успеха, но — покачаленный, изуродованный, больной, и эту свою рану не изжил, не излечил, а оставшись «вечным мальчиком» — так назовет он статью о самом себе, написанную к собственному 60-летию, — потащил в литературу, благо время, в которое ему выпало жить, тому располагало и всяческую темь, муть и жуть подхлестывало. Но все же самое важное в этом человеке «душевного мрака», как окрестили его современники, не пресловутые противоречия, не порнография, не юдофобия, не христоборчество и не юродство, а — страдание и сострадание («С детства мне было страшно врожденно сострадание…»), находящееся поверх всего. Вот что он вынес из Костромы, никогда не забывал, и все тридцать томов его книжек этим страданием переполнены.
И этим, кстати, он оказался очень близок к писателю из недалекого по отношению к нему будущего — Андрею Платонову, который Розанова очень ценил и одновременно с ним яростно спорил, к нему тянулся и от него отталкивался, ему следовал и его отрицал. Это — отдельная и весьма интересная тема, однако что касается сюжета розановского детства, о котором Платонов знать во всех подробностях, разумеется, не мог, то в каком-то смысле А. П. предугадал, невольно выписал Васю Розанова в выполняющем женскую работу по дому мальчике Семене из одноименного рассказа, да и вообще в своих «детях-старичках».
И еще одно очень важное семейное обстоятельство. Незадолго до смерти Надежды Ивановны ее родная сестра Александра писала своему племяннику Николаю, старшему брату Василия Васильевича и фактически — после смерти отца — главе семьи: «Милой Коля. Потому я так долго не отвечала на твое письмо, не находила случая, чем могла обрадовать тебя и в настоящее время нет для тебя утешительного — одно то, что его (то есть Воскресенского. — А. В.) нет в доме и комнаты приведены в прежнее положение. Пожалуйста будь настолько тверд в рассудке, не принимай так близко к сердцу, на все предел Божий; верно суждено испить твоим братьям такую жисть и надеюсь на твое доброе сердце, так наверное простишь своей мамаши как тяжко больной своей матери; она ужасно боитца за тебя. Ее одно желание дождаться тебя, но теперь просит тебя — пришли ей карточку, как ты есть в настоящем виде, очень желает видеть карточку. Я прошу за нее, пришли, если можно в первую, отходящей почтой, и даже говорила ей, что ты непременно вышлешь карточку. Конечно живого назвать умершим нельзя, но для больных опасное время будет писать ей письмо. Не оскорбляй ее, надеюсь скоро приедешь, сам можешь поговорить лично обо всем, но письмом и карточкой обрадуй. Она, как ребенок, напиши пожалуйста, когда можно иметь надежду видеть тебя. Я жду тебя, как отца семейства. Желаю тебе лучшего. Остаюсь многолюбящая тебя А. Шишкина. За все мои душевные страдания наверное исполнишь просьбу».
Судя по всему, Николай просьбу не исполнил, мамочку свою не простил, оскорбил ее, и для младшего брата, по которому на самом-то деле вся эта история ударила куда больнее, эта жестокость ли, принципиальность, твердость, бессердечность — как угодно можно назвать — стала очень важным, может быть, самым важным на всю жизнь уроком от противного. Василий Розанов был совсем иной породы, сердечный, снисходительный, милосердный и всепрощающий, или, по-другому, «беспринципный» — в чем его так любили обвинять — человек, и все это пришло к нему опять же в детстве. Позднее в «Опавших листьях» он напишет слова, которые обыкновенно цитируют в государственном, историческом, патриотическом масштабе, вряд ли задумываясь об их буквальном, конкретном смысле. А между тем они очевидно уходят туда, вглубь, в Кострому: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от нее…»
Как не отходил от своей бедной матушки и сам Вася Розанов.
Три гимназии
Рано повзрослевшего и столкнувшегося в жизни с тем, с чем его сверстники обыкновенно не сталкиваются, отрока Василия отдали учиться лишь в двенадцать лет, хотя большинство детей поступали в гимназию, когда им исполнялось десять. Учился мальчик скверно, о чем честно писал старшему брату: «Милый Коля! Я не понимаю, как ты говоришь и на каком основании “учись лучше”. Ты ничего не знаешь, милый мой, потому, как мне кажется, так и говоришь. Я так думаю, ты забыл нашу жизнь, потому попытаюсь ее припомнить и описать ее тебе в письме. Ванька живет у нас и делает то, чего не бывало, — день ото дню становится хуже с нами; учиться мне нет никакой возможности, потому что учебных книг нет». И в другом письме: «Я, брат, учусь плохо, но на это есть свои причины; во-первых, что у меня нет трех немецких книг… я совсем не понимаю латинского языка и математики, но ты в этом меня не вини, Коля, это потому что я пропустил бездну уроков, даже и теперь не хожу в гимназию, а сижу дома».
В Костромской гимназии он проучился два года, а после этого в 1870 году, сразу после смерти матери («От бедной моей мамы — ни креста, ни фотографической карточки. Только ее и помнит “Вася”, выносивший тазы с кровью»), старший брат взял опеку над младшими Василием и Сергеем и забрал их к себе в Симбирск. «Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не подбери меня старший брат Николай… Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом», — вспоминал Розанов позднее, хотя в «Последних листьях», опубликованных уже много лет спустя после смерти автора, есть и такая горькая запись: «Прежде всего я ненавидел брата Колю, который вытащил меня из Костромы, но имел неосторожность (в 3 кл. гимназии) подать мне 2 пальца и раз написал: «Ты все просишь денег (на карандаши и перья): но как ты сам учишься?»
Требовательный, по-прежнему не прощающий ошибок и заблуждений, Николай Васильевич работал учителем русской словесности в Симбирской классической мужской гимназии, куда и определил своего самолюбивого брата. В каком-то смысле по блату, потому что при норме в двести учащихся в гимназии училось четыреста, и все они сидели друг у друга на головах. Поскольку второй класс в Костроме окончить мальчику из-за болезни матери не удалось, ему пришлось повторить его в Симбирске, и, таким образом, отставание от сверстников сделалось еще на год больше.
Розановское отношение к отрочеству и ранней юности было сложнее, чем к костромскому детству. «С ничего я пришел в Симбирск… вышел из него со всем». Это — благодарное свидетельство более поздних лет, но в ту пору в письме товарищу по гимназии В. Ф. Баудеру Розанов писал: «Ты далеко не знаешь всей тяжести моей жизни в Симбирске. Те два года, которые я прожил там, я никогда не забуду; они наложили свой отпечаток на мой характер, совершенно исковеркав его».
И все же с точки судьбы Розанова эта гимназия («В этой подлой Симбирской гимназии совершилось мое взросление и становление») особенно важна. Он мог переехать в любой город Российской империи и учиться в любой другой гимназии, но учился именно в этой, чьей гордостью и позором несколько лет спустя станут два родных брата, два золотых медалиста. Первый будет государством в 1887 году казнен, второй казнит ровно через тридцать лет само это государство. Однако за десять лет до русской катастрофы, когда Розанов вспоминал гимназические годы, он, скорее всего, об Ульяновых не думал, но сделал одно чрезвычайно важное наблюдение: «Готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, а выделали Бюхнеров; надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, исполнительных и аккуратных, а увидели бурю и молнии».
И одна из причин тому — насильственный, казенный патриотизм и монархизм, которые вбивали детям и в головы, и в души, заставляя их каждую субботу петь перед портретом государя «Боже, Царя храни!»: «Нельзя каждую субботу испытывать патриотические чувства… Все мы знали, что это Кильдюшевскому нужно, чтобы выслужиться перед губернатором Еремеевым: а мы, гимназисты, сделаны орудиями этого низменного выслуживания. И, конечно, мы “пели”, но каждую субботу что-то улетало с зеленого дерева народного чувства в каждом гимназисте: “пели” — а в душонках, маленьких и детских, рос этот желтый, меланхолический и разъяренный нигилизм. Я помню, что именно Симбирск был родиной моего нигилизма…»
Монархист Розанов, а он, несомненно, был монархистом, да еще каким!4 — вынес приговор русской монархии и в этом диагнозе удивительным образом совпал с человеком совершенно иной судьбы и прямо противоположных взглядов. «Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае». Это слова Александра Ильича Ульянова на суде за несостоявшееся покушение на Александра Третьего. Он ненамного разминулся с Розановым по времени учебы, но у них были одни учителя, одни требования и принципы школьного воспитания, и они оба насильно пели по субботам гимн перед портретом монарха. Не будет большой натяжкой предположить, что пятнадцатилетний Василий мог испытывать в отрочестве не просто «смутное чувство недовольства общим строем», но полное его неприятие, да и оснований разрушить весь мир насилья у него было гораздо больше, нежели у Саши Ульянова с его милым, добрым детством в любящей семье. Но в революцию, как многие его современники, Розанов не пошел. Что-то остановило. Хотя читал Белинского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, хотя отшатнулся от Церкви и был, по собственному признанию, «социалистишкой». Однако потом, когда Россию захлестнет новая волна террора, какая и не снилась народовольцам, эта тема станет в его сочинениях ключевой, интерес к русской революции будет очень жадным, личным, пристрастным, а учеба в гимназии не случайно будет прочно ассоциироваться в его сознании с революцией, и в предисловии к книге «Когда начальство ушло» В. В. напишет: «Какая наступала восхитительная минута, когда, бывало, надзиратель отойдет от стеклянной двери нашего класса (“пошел к другим классам”), а учитель еще в нее не вошел… Электричество, что-то лучше и быстрее электричества, пробегало по нашим спинам и плечам; и “Алгебра Давидова” летит через две парты и попадает туда, куда ей нужно — в затылок склонившегося над Кюнером толстого и ленивого ученика. Он вздрогнул, размахнулся и, может быть, ударил бы ни в чем неповинного соседа: но “несправедливость” предупреждена тем, что кто-то схватил его за волосы и пригнул к задней парте… Теперь он парализован, бессилен и вращает глазами, как Патрокл, поверженный Гектором. В другом углу борются “врукопашную”, — по возможности без шума; летят стрелы в потолок, с мокрою массою на конце их, чтобы повиснуть там; кафедра учителя старательно обмазывается чернилами, а стул посыпается мелом… Кто-то “учит слова”, если его сейчас спросят: но благоразумнейшие пришпиливают “слова” к спине товарища, впереди сидящего, дабы “провести за нос’ учителя, всепонятно “болвана”, и ответить урок на “3 —”, зная его на “1 + b”…
Счастливые минуты: их одни я помню из поры ученья. Все остальное было скучно, бездарно, не нужно, антипедагогично. Но эта минута “без начальства”, когда мы оставались одни… Она была коротка и гениальна».
Это восхитительное мятежное чувство подарила ему именно русская гимназия…
В Симбирске Розанов прожил два года и впоследствии вспоминал с благодарностью улицы, набережные, разливы Волги, Венец, речку Свиягу и Карамзинскую библиотеку, где много читал и занимался самообразованием. В 1872 году переехал в Нижний Новгород, куда годом ранее отправился служить его старший брат, и Нижегородская гимназия стала в жизни В. В. третьей. В ней он проучился целых шесть лет, еще раз оставшись на второй год в седьмом классе, и отзывался о ней также не очень хорошо: «Гимназия была отвратительна… Кончил я “едва-едва”,— атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением кажется ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги»».
А уже упоминавшемуся Василию Баудеру летом 1876 года писал: «Оставаясь по-прежнему атеистом, я теперь имею больший, нежели прежде, запас доказательств против всякой идеи о Боге, но отношусь в то же время с большим уважением ко всякой религии, и особенно христианской. Было время, когда я увлекался года полтора назад различными учениями коммунистов и социалистов, но теперь после более серьезного размышления я нашел недостатки в тех и других и составил о государстве свое собственное понятие».
Впрочем, финал гимназической истории был хорошим. «Мы, человек 9 окончивших Нижегородскую гимназию, купили рублей на 10 вин и закусок (а все были беднота) и, отправившись в лесок, на берегу Оки, во-первых, выпили это вино, съели закуски, а во-вторых, и главным образом сожгли почти все учебники».
Розановские воспоминания о Нижнем — самые нежные из всех детских и юношеских, да и позднее именно юность он называл самым светлым периодом своей жизни. Тут не только в книгах, прочитанных или выброшенных, было дело. Гимназическая дружба, разговоры, выпивка, дух свободы и пение «Марсельезы», но главное — с подростком случилось что-то вроде гётевского «суха, моя друг, теория везде, но древо жизни пышно зеленеет». В жизнь маленького книжника («Я жадно (безумно), читал в гимназии») приходит любовь, о которой он с удовольствием вспоминал в примечаниях к «Опавшим листьям».
«Леля Остафьева, 24 лет, первая, чистейшая любовь».
«Вторая любовь — Юлия Каминская…. Ну что вам за дело, что она была некрасива. Для меня она была красива. Моя милая Юлья… Это был прекраснейший роман, ни от кого не скрытый. Я был в VII кл. гимназии. Мы чудно читали с ней Монтескье, Бентама и немного шалили. Разумеется — в постели, лежа на спине. Потом закрывали книжки, я повертывался к ней, и мы играли. Она была чистейшая девушка 19 л., мне было 18».
А в «Мимолетном» 1914 года появится запись, основанная не иначе как на личном опыте:
«…усиливался. Вспотел. И ничего не вышло. В первый раз.
На меня поднялись любящие глаза.
— Ну ничего, милый. Не смущайся. И Рим не в один день был построен.
Я б. поражен. Никогда не слыхал такой исторической поговорки (очевидно, и в такой момент услышать)… Прекраснее по кротости и прощению русской девушки никого нет (действительность)».
О какой именно кроткой девушке идет речь, неизвестно, но известно, что следующая — какая угодно, но только не кроткая — продырявила глаза булавкой на фотокарточках первым двум. Но при этом все три были его взрослее, и самая старшая сделалась его женой5.
Женился на Достоевском?
История с Аполлинарией Сусловой — а это именно она приревновала Розанова к его прежним пассиям, — безусловно, одна из самых ярких и драматичных страниц в биографии нашего героя, и на ней есть смысл остановиться подробнее, тем более что фантазии и спекуляции с обвинительным уклоном на эту тему продолжаются по сей день и, видимо, не закончатся никогда.
Определить точную дату знакомства Василия Васильевича с Аполлинарией Прокофьевной довольно сложно. Иногда цитируют письмо гимназического товарища Розанова Константина Кудрявцева от 17 августа 1876 года: «Разве quasi-вдовушка уехала из Нижнего? Или твоя симпатичная аmante изменила тебе, что люди опять начинают казаться тебе “копошащимися” червяками, и собственное твое “я” чуть-чуть не разлетается мыльным пузырем?»
Розанов, сам публикуя это письмо во втором коробе «Опавших листьях», снабжает слово amante примечанием «Должно быть — роман с Юльей (см. “Уед.”) — учительницей музыки». Что касается квази-вдовушки, то никаких авторских комментариев не последовало, однако большинство исследователей предполагают, что речь идет именно об Аполлинарии. Так это или нет, сказать трудно. В дневнике Розанов называет год знакомства с Аполлинарией Сусловой — 1878-й, в письме Н. Н. Глубоковскому утверждает, что «ей было 38 лет, когда я с нею встретился в 8-м классе гимназии». В любом случае они совершенно точно познакомились в Нижнем Новгороде, ему было двадцать или чуть больше, она — на шестнадцать лет старше. За плечами у нее сумасшедшая, жадная молодость, искания, метания, знакомство с великими людьми (не только с Достоевским, тут и Герцен, и Огарев, и Бакунин), любовь, измена, литературная деятельность, публикации, интерес к острым общественным вопросам, например, к подавлению Польского восстания, несколько написанных и опубликованных повестей и переводов, заграничные путешествия, романы, расставания, разрывы и новые романы — в общем, жизнь… Однако замуж девица Суслова так и не вышла, а писать и переводить бросила. В 1868 году сдала экзамен на звание домашней учительницы, после чего открыла школу-пансион для приходящих девиц в Иваново-Вознесенске, но вмешалась полиция, на Аполлинарию состряпали донос: человек неблагонадежный, замешана в сношениях с эмигрантами, носит синие очки, волосы подстрижены, «в своих суждениях слишком свободна и не посещает церковь», и школу через три месяца, к большому огорчению местных жителей, закрыли.
В 1872 году тридцатитрехлетняя Суслова стала слушательницей Высших женских курсов при Московском университете. По воспоминаниям более молодых сокурсниц, держалась она довольно обособленно, сосредоточенно, серьезно и строго, к учительству больше не возвращалась и жила преимущественно в родительском доме. Когда отец давал деньги, путешествовала, хотя, как признавалась Аполлинария в одном из писем, Прокофий Григорьевич был ею недоволен. Надо полагать, осуждал чересчур вольный образ жизни дочери, а еще больше переживал из-за того, что Поля засиделась в девках. А она увлекалась средневековой историей, преимущественно испанской, в память о своей единственной настоящей любви к испанскому юноше Сальвадору, ради которого изменила Достоевскому, ходила по гостям, переписывалась с давней, еще с Парижа знакомой — популярной писательницей Евгенией Тур (она же графиня Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, сестра драматурга, знакомая Лескова и Тургенева, и письма этой замечательной женщины, впервые полностью опубликованные Л. И. Сараскиной в книге «Возлюбленная Достоевского» — важнейшее альтернативное свидетельство всей этой истории), выглядела чудесно и, судя по всему, без труда вскружила голову великовозрастному гимназисту, который позднее назовет ее «опытной кокеткой», раскольницей поморского согласия, хлыстовской богородицей и «Катькой» Медичи.
В провинциальном нижегородском мире, по контрасту с учительской средой, где бывал Розанов благодаря брату, эта легендарная женщина действительно производила впечатление настолько необычной, экзотичной, ни на кого не похожей, что могла показаться впечатлительному юноше сбывшеюся мечтою, перед которой померкли все прежние идеалы. Во всяком случае, как полагает В. Г. Сукач, «роман с Каменской расстроился, и, видимо, расстроился из-за увлечения Розанова Сусловой, соперничество с которой было не под силу Каменской».
Уже стало общим местом считать, что розановский интерес к Аполлинарии Прокофьевне объяснялся исключительно или главным образом тем обстоятельством, что в молодости она была возлюбленной Достоевского, и будущий «философ пола» мистическим образом соединился с любимым писателем, чуть ли не «женился» на нем.
«Самая мысль, что он будет спать с той самой женщиной, с которой когда-то спал Достоевский, приводила его в мистически-чувственный восторг», — писал писатель-эмигрант Марк Слоним в книге «Три любви Достоевского».
«В этом, бесспорно, эксцентрическом жесте можно увидеть попытку приобщиться к бурным отношениям писателя и его юной любовницы — нигилистки», — утверждает американская славистка Ольга Матич.
«Трудно сказать, что побудило 24-летнего студента жениться на стареющей, неуравновешенной женщине, но, скорее всего, сыграл свою роль ореол “возлюбленной Достоевского”, писателя, перед талантом которого Розанов преклонялся», — предположил российский розановед А. Л. Налепин.
«Розанову необходимо было видеть в Достоевском человеческое, природное, мужское, а почувствовать это можно было лишь через женщину, через физическую с нею близость. “Суслиха”, эта феминистка, в духовном отношении являвшая собой полную противоположность Василия Васильевича, давала Розанову радость общения с Достоевским, она, со своим нигилистским сознанием, невольно связывала (через свое тело) двух гениев русской “консервативной революции”», — сделал глубокомысленный вывод другой современный автор, Александр Беззубцев-Кондаков.
«Известно, что Розанов буквально вырос из Достоевского. Он настолько увлекся его творчеством и его личностью, что в 1880 году (то есть еще при жизни Федора Михайловича) 24-летним молодым человеком женился на стареющей Аполлинарии Сусловой (что, конечно, было более, чем экстравагантно)», — написал Дмитрий Евгеньевич Галковский, которого самого иногда называют Розановым конца ХХ века.
«В 1881 г. В. В. Розанов женился на Аполлинарии Прокофьевне Сусловой, пленившись ею из-за прежней близости этой дамы с Ф. М. Достоевским», — замечает в новейшей книге 2021 года «В. В. Розанов. Ближние и дальние» А. В. Ломоносов.
Что на это все сказать? Версия о «пленительной женитьбе на Достоевском», спору нет, эффектная, а с учетом огромного интереса Розанова именно к этому писателю, кажущаяся неоспоримой, интригующей, выигрышной и, безусловно, давно всеми признанной. И правда, как с ней не согласиться, если Розанов писал о своем первом прочтении Достоевского: «Я вспомнил начало знакомства с ним. Мои товарищи по гимназии (нижегородской) уже все были знакомы с Достоевским, тогда как я не прочитал ничего из него… по отвращению к звуку фамилии. “Я понимаю, что Тургенев есть великий писатель, равно как Ауэрбах и Шпильгаген: но чтобы Достоевский был в каком-нибудь отношении прекрасный или замечательный писатель — то это конечно вздор”. Так я отвечал товарищам, предлагавшим “прочитать”. Мы делали ударение в его фамилии на втором “о”, а не на “е”: и мне представлялось, что это какой-то дьякон-расстрига, с длинными волосами и маслящий деревянным маслом волосы, рассказывает о каких-нибудь гнусностях:
— Достоевский — ни за что!.. И вот я в VI классе. Вся классическая русская литература прочитана. И когда нас распустили на рождественские каникулы, я взял из ученической библиотеки его “Преступление и наказание”.
Канун сочельника. Сладостные две недели “отдыха”… Впрочем, от чего “отдыха” — неизвестно, потому что уроков я никогда не учил, считая “глупостью”. Да, но теперь я отдыхаю по праву, а тогда по хитрости. Отпили вечерний чай, и теперь “окончательный отдых”. Укладываюсь аккуратно на свое красное одеяльце и открываю “Достоевского”…
— В., ложись спать, — заглядывает ко мне старший брат, учитель.
— Сейчас.
Через два часа:
— В., ложись спать!..
— Сию минуту.
И он улегся, в своей спальне… И никто больше не мешал… Часы летели… Долго летели, пока раздался грохот за спиною: это дрова вывалили перед печью. Сейчас топить, сейчас и утренний чай, вставать… Я торопливо задул лампочку и заснул… Это было первое впечатление… Помню, центром ужаса, когда я весь задрожал в кровати, были слова Раскольникова Разумихину, — когда они проходили по едва освещенному коридору:
— Теперь-то ты догадался?..
Это когда “без слов” Разумихин вдруг постиг, что убийца, которого все ищут, — его “Родя”. Они остановились на секунду: и вдруг добрый и грубый бурш Разумихин все понял. Как он понял — вот эта “беспроволочность телеграфа”, сказанная в каком-то комканьи слов (мастерство Достоевского, его “тайна”) — и заставила задрожать меня. Я долго дрожал мелкой, бессильной дрожью…»
Юный Розанов был, безусловно, сражен Достоевским, влюблен в него, ошеломлен, раздавлен и окрылен, из чего логично следует вывод: какой же трепетной дрожью должен был задрожать восторженный мальчик, когда увидел бывшую возлюбленную своего кумира, и разве мог иметь для него значение ее возраст?
Все это так, однако то, что лежит на поверхности, что выглядит столь привлекательно и буквально напрашивается в биографию нашего персонажа, не всегда отражает ее суть. И самый первый вопрос-возражение: а с чего все взяли, что В. В. был осведомлен о тех подробностях взаимоотношений Федора Михайловича и Аполлинарии Прокофьевны, которые стали известны благодаря дневнику Аполлинарии и опубликованной переписке между Достоевским и Сусловой? В самом деле, откуда он мог все это узнать?
Это был все-таки XIX век, и как бы эта удивительная женщина ни была эмансипирована, вряд ли она рассказывала направо и налево о том, что Достоевский был ее любовником. Знакомым, добрым другом, поклонником — да, но любовником? Или она все-таки не удержалась и в какой-то момент похвалилась этой связью перед молоденьким гимназистом с целью возвысить себя в его доверчивых глазах? Просто намекнула, дала понять? Может быть, и так, но вот вопрос: почему в таком случае сам Розанов, как только откровенно о Сусловой ни отзывавшийся, нигде именно это обстоятельство до определенной поры не подчеркивал, что с учетом его интереса к интимной сфере и любви к Достоевскому было бы совершенно органично. Но нет же! Достоевский и Суслова в известных нам ранних отзывах Розанова пересекались очень нечасто, а появятся эти упоминания лишь много лет спустя, когда Василий Васильевич и Аполлинария Прокофьевна уже давно расстанутся, когда он будет жить в Петербурге, прославится и станет творить из своей биографии легенду. А в пространном, полном претензий и упреков письме жене, написанном в 1890 году, Розанов действительно один-единственный раз помянул Достоевского: «Но я не драпировался в свою мысль, как Вы драпировались в Вашу любовь к Достоевскому и свои вечные занятия средневековою историей, что все звучит так красиво и имеет красивый вид: тщеславная женщина, зачем Вы всякой знакомой показывали единственное письмо Достоевского, зачем Вы не сохранили его у себя. Он Вас ценил и уважал, зачем же приписывать это к своей особе, как красивую ленту, и щеголять ею на площади…»
Однако эти обиженные, уязвленные и язвительные слова не только не раскрывают подлинный характер взаимоотношений Аполлинарии Прокофьевны и Федора Михайловича, где было больше и писем, и встреч, и событий, и чувств совсем других («уважал и ценил» к ним явно не относятся, это в чистом виде интерпретация самой Аполлинарии), но, напротив, свидетельствуют о том, что «вечный муж» Полины о сути ее отношений со своим кумиром не ведал. Суслова их тщательно замаскировала, и слово «любовь» тут не несет эротического оттенка. Свой личный дневник, в котором Аполлинария описала «годы близости с Достоевским», она, как уже говорилось, не показывала никому, включая молодого супруга. Найденная в ее бумагах после смерти и опубликованная впервые в 1928 году тетрадка стала сенсацией, что, кстати, опять же косвенно доказывает: эта связь так и осталась достоянием ближнего круга Федора Михайловича.
Как объяснить иначе, почему несколько лет спустя после разрыва с женой, представляя Аполлинарию в письме Страхову, Розанов писал: «Моя жена — старшая сестра Надежды Прокофьевны Сусловой, доктора очень известного в Спб. Может быть, Вы когда-нибудь слышали о ней, п. ч. в свое время она жила в Спб. Когда я встретился с нею (в период выхода моего из гимназии), она была уже далеко от него, и все, на что я надеялся, чего ждал и к чему стремился, и на что даже намека не было в окружающей жизни, я увидел в ней осуществленным. Она стояла необыкновенно высоко по ясности, твердости и светскости своих воззрений над всем окружающим, и была одинока и несчастна в то время так же, как и я все мое детство и юность: только друг в друге могли мы найти поддержку; и, несмотря на страшное неравенство лет, стали мужем и женой».
В этих достойных, точных словах нет ни слова о Достоевском! «Вы когда-нибудь слышали о ней, потому что она когда-то жила в Петербурге…» Прямо как в том рассказе О. Генри, где простодушная героиня приехала в Нью-Йорк, уверенная, что ей сразу же скажут, где тут живет ее парень. И это Розанов писал кому? Близкому знакомому Достоевского Николаю Николаевичу Страхову, с которым они о Достоевском часто говорили и кому накануне их личного знакомства В. В. признавался: «Я почти столько же, сколько рад буду (заинтересован) видеть Вас, буду в Вас заинтересован еще видеть человека, который близко знал Достоевского, так сказать, осязал его руками». Уж, наверное, если бы он «женился на Достоевском», то нашел бы для представления своей жены Страхову совсем другие слова, нежели упоминание о ее сестре Надежде! И точно так же рекомендуя Аполлинарию другому своему покровителю, Сергею Александровичу Рачинскому, Розанов признавался: «…в конце 3-го курса женился на Сусловой, сестре известной докторши; какая-то мистическая привязанность к много пожившей Irene (Ирина из “Дыма”) “avec l’озлобленный ум”».
Опять же Тургенев — не Достоевский! И больше того, сравнение именно с этой «тургеневской женщиной» (кто помнит «Дым» — поймет, о чем идет речь) начисто убивает само предположение о том, что Суслова хоть как-то ассоциировалась на тот момент в сознании В. В. с Достоевским и его героинями. Они все появятся позднее. Но самое интересное в этом сюжете то, что и Страхов, получив розановскую аттестацию Аполлинарии Прокофьевны, ответил своему подопечному в духе О. Генри: «Выходит, что Вашу жену я видел не раз когда-то, в 1861, 1862 годах. Она была очень молода и очень красива. Все еще никак не понимаю Ваших отношений, но от души желаю Вам спокойной и чистой развязки».
Николай Николаевич действительно видел Суслову много раз, потому что был сотрудником того самого журнала «Время», куда впервые пришла двадцатилетняя Аполлинария и где были напечатаны ее первые довольно слабые произведения исключительно на том основании, что молодая писательница полюбилась брату главного редактора. Страхов об этом не мог не знать, как не мог не знать и о совместных путешествиях Достоевского и Аполлинарии Прокофьевны по Европе. Но ни он Розанову об этом ни одной строки не написал, ни тот больше ни о чем не спрашивал. Странно, но факт! Они оба ходили вокруг этой темы близко-близко и — не касались ее. Боялись, избегали тронуть, таились, тактично промолчали или — попросту не придавали значения?!
Загробное чтение
Единственный по-настоящему серьезный аргумент в пользу расхожей версии о розановской женитьбе на Сусловой как любовнице Достоевского — свидетельство замечательного писателя Сергея Николаевича Дурылина, который был очень дружен с Розановым в последние годы жизни Василия Васильевича. Дурылин в своих воспоминаниях, вошедших в книгу «В своем углу», ссылается на некое письмо, которое Розанов передал ему незадолго до смерти и велел открыть и прочитать своим домашним, когда его не станет. Сергей Николаевич так и сделал, собрав вдову и взрослых дочерей, которые, по версии Дурылина, только тогда про первый брак их мужа и отца и узнали, и позднее изложил свое впечатление от этого письма, которое, к сожалению, как он пишет, не сохранилось.
«В<асилий> В<асильевич> ранее рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак от “психологии”, брак по Достоевскому, — но совсем не по Розанову, не по автору “Семейного вопроса” и “В мире неясного и нерешенного”. Брак — из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно “пожила”, — не только с Достоевским, но (знал ли это В<асилий> В<асильевич>, когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих “испанцах” в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой выписано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: “та, кого любил Достоевский!” — оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее саму жизнь: несмотря на “романтику”, на “Достоевского”, он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности “Бога Авраама, Исаака и Иакова” оказалось озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью “принципиально” бездетной; вместо возлюбленной и нежной — озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полу-нигилистка, полу-Настастья Филипповна (из “Идиота”), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой “колыбельной песни” в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины – “непрерывным раздражением пленной мысли”, озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, — и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой “Песни песней”, на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю.
Течение письма прерывалось восклицаниями: “Она измучила меня! Она ненавидела меня!’ {В дневнике Суслова писала 24.IX.1864 г.: “Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания” (с. 923). — Прим. мемуариста} (Достоевский предупреждал ее: “Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа”.)
Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел В<асилий> В<асильевич> и мог кричать это ей с особой силой, так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой — лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистические иглы вместо лона.
Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега, — волне, которая только что била, хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жмется к тихому и теплому лону земли, а волне шлет проклятия.
Когда чтение было окончено, Варвара Дмитриевна — земля с тихим и теплым лоном — приняла у меня письмо, — заплакала — тихо и кротко.
Все молчали.
Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В<асилий> В<асильевич> хотел, чтобы и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.
Что сталось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю».
Написано не менее изумительно, убедительно, поэтично и образно, как и всё у этого автора. Только надо иметь в виду, что сей дивный пассаж есть не что иное, как полемическая реакция Дурылина на вступительную статью литературоведа А. С. Долинина к публикации того самого дневника А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским», в которой (статье) Долинин берет Суслову под защиту от двух ее великих мужчин.
«Что за странная таинственная сила была в этой натуре, если и второй, почти гениальный человек, так долго любил ее, эту раскольницу поморского согласия, так мучился своей любовью к ней?» — вопрошал публикатор, и Дурылину это заступничество пришлось не по нраву. Особенно тот факт, что Долинин ставил под сомнения некоторые высказывания Розанова в адрес первой супруги. «Повторяем, мы имеем все основания с самого начала относиться несколько настороженно к характеристике, данной ей Розановым: факты, им же сообщенные, говорят против него. “Она исказила навсегда весь его характер и всю его деятельность”: — тогда ли, в те шесть лет, когда была его женой, или тем, что бросила его? И когда она стала для него “циничной”?» — писал Аркадий Семенович.
Вот тогда-то трижды романтический Сергей Николаевич, считавший себя в каком-то смысле розановским «душеприказчиком», и возвысил голос, и уронил слово горькое в ответ: «И вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в “лоне Авраамовом” то, что до безумия противоположно было этому лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии представило ему до ясности недавнее “счастье”, искомое в психологии, — и какой еще! В “психологии” бывшей любовницы Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы повторить евангельские слова: “У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе”».
И чуть дальше: «Когда В<асилий> В<асильевич> нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, — но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежно возлюбленную Рахиль, — вот — в свете книжки о Сусловой — все содержание того письма, которое я читал по воле В<асилия> В<асильевича> самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых. Медея — на то она и фуриозная особа — не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, — и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и детям их. На детях-то и проявляется нарочитая Медеина месть: пусть будут без законного отца (как ненавидел В<асилий> В<асильевич> эти слова: “незаконные дети” и “законные дети”), с поношению подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды видавший, твердый мужчина победоносцевской школы, Тернавцев воскликнул не менее фуриозно: “не баба, а черт в юбке”».
Речь о второй женитьбе Розанова пойдет в свой черед, но все же стоит заметить, что В. В. никакой тайны из первого брака никогда не делал и его домашние узнали о нем много раньше (см. далее воспоминания младшей дочери Розанова Надежды Васильевны), и трудно поверить, чтобы ему потребовалось так театрально эту сцену обставлять. Не в розановском это стиле, да и в подробных «Троицких записях» (то есть фактически в дневнике Дурылина за 1919 год) никаких упоминаний о подобном письме и столь важном семейном разговоре нет6. Оно появилось лишь в более позднем полемическом мемуаре.
Однако даже если Розанов нечто подобное и написал, то опять-таки лишь в конце своей жизни, подводя горестные семейные ее итоги, проклиная одну женитьбу и идеализируя другую (на самом деле далеко не идеальную, и единственный возможный посыл такого письма — мольба о прощении у Варвары Дмитриевны и дочерей, перед которыми он чувствовал вину). Изначально же его отношение к фуриозной первой жене было иным и — больше того, — даже если я не прав и В. В. об этой связи знал7, все равно сводить его юношескую влюбленность в Аполлинарию, плененность ею исключительно к ее давнему роману с Достоевским — в высшей степени несправедливо, неразумно, некорректно и есть, согласно «бритве Оккама», не что иное, как умножение числа сущностей сверх необходимого.
Полина, мой читатель, была хороша сама по себе!
Людская молва
Эту женщину повелось демонизировать и обзывать страшными словами. Еще хуже, чем самого Розанова, и дурылинский мемуар — ярчайшее тому доказательство8. И если в случае с Федором Михайловичем еще как-то жалеют за молодость и вспоминают к месту и не к месту Настасью Филипповну, Катерину Ивановну или «Полину» из «Игрока», то в истории с Василием Васильевичем жалеть как будто не за что. Связался черт с младенцем, или, как выразился философ Владимир Тернавцев в воспоминаниях Зинаиды Гиппиус: «Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой!» Сам В. В. позднее иронически вспоминал о том, как «потянулся, весь потянулся к осколку разбитой “фарфоровой вазы” среди мещанства учителишек (брат был учитель) и вообще “нашего быта”».
Проблема, как уже говорилось, заключается лишь в том, что в основном все наши сведения об этой паре мы черпаем из более поздних писем и воспоминаний Розанова и о Розанове, очень обиженных, зачастую неверных и рисующих картину весьма одностороннюю. Нельзя не согласиться с автором превосходной биографии Аполлинарии Прокофьевны Л. И. Сараскиной, когда исследовательница с присущим ей обостренным чувством справедливости писала: «Именно от Розанова, исключительно пристрастного к ней человека, а через него — от людей из его ближайшего окружения известны некоторые специфические подробности второй половины жизни А. П. Сусловой. Авторитетнейшие друзья и знакомые В. В. Розанова, писавшие о его первой (“плохой” ) жене, среди которых была даже поэтесса и литературная львица Зинаида Гиппиус, поставили на Аполлинарии Прокофьевне несмываемое клеймо: “исчадие ада”, “железная Аполлинария”, “тяжелая старуха”, “страшный характер”, “развалина с сумасшедше-злыми глазами”. Молва, идущая из этого же источника, была к ней беспощадна, приписав “старухе Сусловой” не только дурной характер (она и впрямь была далеко не ангел, но кто же ангел?), но и тяжелый деспотизм… фактом своего разрыва с Достоевским (равно как и фактом разрыва с Розановым) она как бы лишила себя исторического покровительства, а имя свое — благодарной памяти: статус “бывшей” возлюбленной или “бывшей” жены традиционно считается слишком эфемерным, чтобы быть неприкосновенным для злых языков. Женщине, самовольно вышедшей из любовного союза с гением, история ничего хорошего не гарантирует… Она оказалась беззащитна против публичных интерпретаций своей брачной жизни с В. В. Розановым — со стороны самого Розанова, который, кажется, не оставил без комментария ни одну, даже самую интимную, из деталей их брака».
Именно так все и было, и если обратиться к скупым документам начальной поры этой любовной истории, то акценты получаются другие. Татьяна Васильевна Розанова, старшая дочь писателя, процитировала в своих воспоминаниях юношеский дневник отца, и в нем есть такая запись: «Декабрь, 1878 год. Знакомство с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой. Любовь к ней. Чтение. Мысли различные приходят в голову. Суслова меня любит, и я ее очень люблю. Это самая замечательная из встречающихся мне женщин. Кончил курс. Реакция против любви к естествознанию. И любовь к историческим наукам, влияние Сусловой, сознание своих способностей к этому…» В 1886 году Розанов писал своему гимназическому товарищу про жену, которую любит «непостижимою, мистическою любовью». В других документах он называет ее гениальной, гордой, безудержной, фантастической, а свою любовь к ней слепой и робкой (и заметим, опять-таки ни там, ни там вне какой бы то ни было связи с Достоевским).
Полина действительно сыграла огромную роль в его судьбе, и не только разрушительную, но и созидательную. Не только забирала у него, но и давала. В каком-то смысле предопределила его путь, и не только в будущих розановских несчастьях, но и в его успехах есть ее несомненная заслуга. Что бы ни говорил В. В. позднее про осколки разбитой вазы, как бы ни ругал и ни проклинал Аполлинарию Прокофьевну за ее мстительность и неуступчивость9, что бы ни сочинял пристрастный Дурылин про стареющую, бесплодную, истеричную, озлобленную нигилистку, эта женщина направляла, вдохновляла, руководила Розановым тогда, когда это руководство было ему крайне необходимо. Вспомним фразу князя Курагина из «Войны и мира»: «Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин». Или как еще более точно вспоминал Лев Николаевич слова своей тетушки: «Ничто так не формирует молодого человека, как связь с женщиной порядочного круга». А Суслова таковою была. Пусть порядочность крестьянской дочери с ее взрывным характером была весьма своеобразной, все равно ни одна, даже самая лучшая гимназия, библиотека, университет не смогли бы дать Розанову того, что дала в какой-то момент она. Ее начитанность, остроту ума, ее стиль, натуру он всегда признавал, именно она сформировала Розанова, вынянчила, выпестовала, взрастила, подготовила, была его самой первой литературной «нянькой», и оценка ее личности в розановском письме Страхову тому порукой.
Аполлинария сумела занять его внимание, воображение, и, наконец, у них, что называется, было время проверить чувства. От знакомства до венчания прошло как минимум три года. За это время Розанов окончил, наконец, гимназию, уехал в Москву, сделался студентом Московского университета, отучился два курса и перешел на третий (именно на третьем курсе студентам дозволялось вступать в брак). Он мог сто раз свою нижегородскую любовь забыть, поменять, потерять, да и она могла к нему охладеть, одуматься, опомниться — на черта ей сдался этот бедный во всех смыслах слова сосунок c его детскими травмами, комплексами и обидами. Неужели нельзя найти более солидную партию при том, что она вовсе не была бесприданницей? Но нет же! Для влюбчивых натур обоих — это было достижение, подчеркивающее неслучайность их романа. А разница в возрасте и в жизненном опыте странным, фантастическим образом рифмовалась в его судьбе с судьбой его матери и ее связью с «мыслящим реалистом» Иваном Воскресенским, а в ее — с мучеником и мучителем Достоевским, когда юной Поле было чуть больше двадцати, а Федору Михайловичу около сорока. Совпадения, но какие важные!
Неравный брак
В отличие от тех сюжетов, этот закончился венчанием, хотя, наверное, с точки здравого смысла и дальнейшего развития событий было бы лучше, если б они действительно расстались, Аполлинария Прокофьевна вовремя отпустила бы Василия Васильевича с миром и осталась бы в истории русской литературы Музой без страха и упрека двух замечательных людей, про которую никто потом не станет писать ни гадости, ни глупости. Однако вышло иначе. В 1900 году в автобиографическом очерке «Иван Ляпунов» Розанов вспоминал свою тайную поездку из Москвы в Нижний «по делам любви и по делам брака».
«По некоторым обстоятельствам, затевавшийся роман был не только рискован, но он был рискован чрезвычайно, безрассудно, был похож на спуск воинов Аннибала “по ту сторону Альп”, когда половина или треть их попадала в пропасти. Нужно заметить, особенностью моего влюбления было всегда чувство особенной привязанности, прилипчивости, неспособности отстать, и это был fatum, роковое. Странно: гордый и самоуверенный человек, человек очень умный, как смею рекомендоваться читателю, я привязывался, как собака, и пока другая сторона не освобождалась от своей ко мне любви, этого было совершенно достаточно, чтобы я никогда не освободился от своей. Но при этой слабости сердца ум сохранял полную живость. Что мы идем куда-то в бездну, было видно и мне и ей, но мы оба ничего об этом не говорили — не говорили, конечно, друг с другом, а про себя каждый непрерывно об этом думал. И вот она мне написала в Москву грустное письмо, что она уезжает, уезжает далеко и надолго, так как, кроме печали, из нашей связанности ничего не выйдет и разойтись вовремя лучше. Письмо было исполнено любви. “Разойтись”… Тут и выступил мой fatum в связи с рассудительностью. Защемило сердце. Любовь — это феникс. Тонет, тонет в небе, дальше, выше, ничего не видно, а сердцу больно, больно! “Как разойтись! Никогда!” И в длинном письме рассудительный мой гений начертил всю карту неблагополучного будущего плавания, камни, рифы, мели, ураганы, туманы, но — “ничего, силы есть, и я выплыву, мы выплывем”. Тут и разыгралась история: “Как, так ты все видишь! Как лавочник, ты измерил аршином любовь, произвел вычитания и сложения и подвел итог, и подал мне мелочной счет на засаленной бумажонке”. Зачем я вижу! Боже, но ведь куда мне деть глаза! Быстро обменялись мы еще письмами, желчными, неумолимыми, а слабое сердце во мне все ныло, и, бросив все, перехватив откуда-то 15 руб., я сел в вагон и мчался incognito. Там все решится, там увидим…»
Тогда и было принято роковое решение.
«Мой первый брак был основан на словах, в морозную ночь, невесты-жены… Когда мы дошли до ворот ее дома, я сделал ей предложение. Она заплакала:
— Уже поздно. Мне 38 лет (мне было 19). Будем лучше так жить.
— Нет! Нет!
И мы стали “муж”, “жена”».
В этих более поздних строках из письма Розанова Павлу Флоренскому хромает арифметика (В. В. был очевидно на момент предложения старше, да и разница в возрасте с Аполлинарией составляла все-таки не 19, а 16 лет), и тем не менее в такой диалог вполне можно поверить. Больше того, при желании можно увидеть и в очерке, и в письме отменно разыгранную Аполлинарией партию принуждения к браку — угроза разрыва, женская обида, укоры, упреки, тайно примчавшийся молодой любовник (он ужасно боялся, что узнает его старший, правильный брат, который был против этого союза), счастливое объяснение в «номерах Бубнова» в Нижнем и авторское признание постфактум: «хотя позднее я узнал, что это была одна из мрачнейших душ, истинно омраченных, непоправимо: но на день, на неделю, как сквозь черные тучи солнце, душа эта могла сверкать исключительно светозарно».
Вот за эту редкую исключительную светозарность Аполлинарии Прокофьевны В. В. и расплачивался всю жизнь. Но это был — его выбор.
«…сошлись 2 несчастные существа и привязались друг к другу в каком-то первом экстазе; экстаза хватило года на два, затем наступили годы сумрака, который темнел все больше и больше… в браке моем, т. е. в побуждениях к нему, все было исключительно идейное, с самым небольшим просветом простой, обыкновенной любви, и то лишь с надеждою на самое короткое ее продолжение», — писал он позднее Страхову. Эти строки тем более важны, что в дальнейшем Розанов отзывался о Сусловой крайне пренебрежительно, грубо, даже цинично.
«Мы с нею “сошлись” тоже до брака. Обнимались, целовались, — она меня впускала в окно (1-й этаж) летом и раз прошептала: — Обними меня без тряпок. Обниматься, собственно дотрагиваться до себя — она безумно любила. Совокупляться — почти не любила, семя — презирала (“грязь твоя”), детей что не имела — была очень рада, — писал он А. С. Глинке-Волжскому. — Меня она никогда не любила и всемерно презирала, до отвращения. И только принимала от меня “ласки”. Без “ласк” она не могла жить. К деньгам была равнодушна. К славе — тайно завистлива. Ума — среднего, скорее даже небольшого. С нею никто не спорил никогда, просто не смел. Всякие возражения ее безумно оскорбляли. Она “рекла”, и все слушали и восхищались “стилем”».
«Я полюбил ее последний день, и хотя она соглашалась любить и жить со мной “так” (и была уже), я (ведь знаете мальчишеский героизм) потребовал венчания…» — вспоминал в письме Н. Н. Глубоковскому.
«Лицо ее, лоб — было уже в морщинах и что-то скверное, развратное в уголках рта. Но удивительно: груди хороши, прелестны — как у 17-летней, небольшие, бесконечно изящные. Все тело — безумно молодое, безумно прекрасное. Ноги, руки (не кисти рук), живот особенно — прелестны и прелестны; “тайные прелести” — прелестны и прелестны. У нее стареющим было только лицо. Все под платьем — как у юницы — 17—18—19 лет, никак не старше. В сущности, я скоро разгадал (“потрогай меня”), что она была онанисткой, лет 20, т. е. с 18. Я это не осуждаю. “Судьба”. И “что делать старым девушкам”. Скорее от этого я еще больше привязался к ней».
Впрочем, стоит отметить, что все отзывы В. В. о жене остались исключительно в его частной переписке, да и шли они от более поздних обид, взаимного раздражения, от розановского интереса к «тайне пола» и даже напускного щегольства интимными подробностями, до которых он сделался так охоч после сорока. Однако в молодости с его стороны это было чистое восхищение, влюбленность, тяга. А с ее?
Что она искала в этой любви, какой уже по счету в ее жизни? Угадала в нем тот же мерцающий огонь гениальности, что когда-то и в Достоевском? Или Розанов был прав и это был ее «последний час»? К сожалению, в архиве Аполлинарии Прокофьевны не сохранились или же до сих пор не найдены ее свидетельства о Розанове, однако Л. И. Сараскина опубликовала в своем исследовании в высшей степени примечательное и в отличие от других источников довольно редко цитируемое обиженное письмо, которое В. В. написал своей жене в 1890 году, через несколько лет после их разрыва.
Альма-мачеха
«Вы рядились в шелковые платья и разбрасывали подарки на право и лево, чтобы создать себе репутацию богатой женщины, не понимая, что этой репутацией Вы гнули меня к земле, сделали то, что в 7 лет нашей счастливой жизни я не мог и глаз поднять светлых и спокойных на людей, тревожно искал в их словах скрытой мысли — не думают ли они, что я продал себя Вам за богатство. Все видели разницу наших возрастов и всем Вы жаловались, что я подлый распутник; что же могли они думать иное, кроме того, что я женился на деньгах… Легко мне было… Сынок со стороны, ждущий наследства… Вы хвастали, что содержали меня. Я и жениться решился на Вас, только получив стипендию, мысль, что на меня будут смотреть как на женившегося на деньгах, жгла меня еще до брака».
И опять мотив унижения, придавленности, а точнее — ощущение этого унижения, болезненная реакция на один только намек, будто бы он женился из-за денег. К этому письму мы еще обратимся, а новой загадкой в розановской судьбе становится его учеба на историко-филологическом факультете Московского университета. Тут возникает сразу несколько вопросов. Как он решился туда поступить с очень посредственным аттестатом, в котором в основном были тройки, включая русскую словесность и историю? Почему выбрал именно Московский, а не Казанский, где учился его старший брат? Почему не петербургский? Ведь в девятнадцатом веке такой абсолютной славы у МГУ (а, впрочем, он назывался тогда не государственным, а императорским) не было. Или же на его выбор повлияла Суслова? Последнее представляется более чем вероятным, потому что именно в Москве на университетских женских курсах профессора Герье одно время училась Аполлинария, и это был тот самый Владимир Иванович Герье, кто будет читать лекции и Василию Розанову, а впоследствии станет его адресатом. Вот, кстати, еще один «Поленькин» след в розановской судьбе.
Но самое главное — почему университетские годы, в отличие от гимназических, прошли для Розанова практически бесследно? Если верить его свидетельствам, то университет он «проспал». На «постылых» лекциях ковырял в носу, отвечал по шпаргалкам, что тоже выглядит довольно странно, ибо в эту пору там читали лекции Буслаев, Веселовский, Тихонравов, Фортунатов, Соловьев, Ключевский, Корш, Герье, Цветаев10