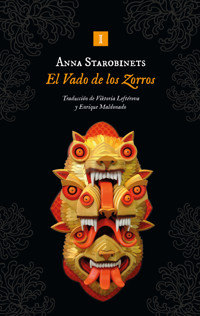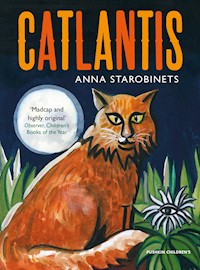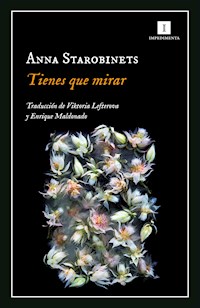Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Вимбо
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Russisch
«Убежище 3/9» — остросюжетная фантасмагория, не имеющая аналогов в русской литературе. Фотокорреспондентка Маша во время парижской командировки вдруг с недоумением замечает, что от нее шарахаются окружающие. То, что начинается как классический "обмен телами", трансформируется в жуткую и затягивающую многоуровневую феерию. Будничная жизнь внезапно оборачивается страшной сказкой. Любое действие, произведенное в привычной реальности, зловещим эхом отзывается в сказочном отражении. А вскоре и конец света становится по-настоящему близок и страшен. Внимание! Текст содержит нецензурную брань.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Анна Старобинец
Убежище 3/9
Анна Старобинец
Убежище 3/9. — М.: Вимбо, 2024.
ISBN 978-5-00224-453-9
Иллюстрация: Юлия Стоцкая
© Анна Старобинец
© ООО «Вимбо»
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Живая живулечка,
Сидит на живом стулечке,
Живое мясцо теребит.
Русская народная загадка
Великая империя вскоре будет перенесена
В маленькое место, которое очень скоро увеличится,
Место весьма ничтожного, незначительного графства,
В середине которого Он водрузит свой скипетр.
Предсказание Нострадамуса
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Детеныш
Главный фокус Ковра-Самолета заключался в том, что в какой-то момент он переворачивался кверху дном и на несколько секунд застывал в таком положении. И люди висели вниз головой, причем, что странно, — очень мало кто визжал. В основном все молчали, вцепившись в ремни. Так и висели — напряженные, краснолицые, с выпученными или зажмуренными глазами. На огороженный прямоугольник асфальта, черневший внизу, громко позвякивая, сыпалась мелочь из их карманов.
Этот момент нравился Мальчику больше всего. Это был момент — ну вечности, что ли.
Потом гигантские шестеренки Ковра-Самолета снова приходили в движение, и нелепо разукрашенная махина, скрежеща, неохотно возвращала людей в естественное положение…
II. Путешествие
Я смотрела сверху и немного сбоку. Луна была яркой — достаточно яркой для того, чтобы я могла различать все предметы. Внимательно присмотревшись, я поняла, что лежало там, на тропинке. Маленькие белые камушки. Даже, скорее, не белые, а перламутровые. Они блестели в лунном свете. Было очень тихо.
Немного погодя послышался легкий хруст. Кто-то медленно шел по тропинке, приближаясь ко мне. Я не видела кто. Как загипнотизированная, я смотрела на камушки и пыталась убедить себя, что бояться нечего. Вряд ли это был кто-то большой или агрессивный: слишком тихо и неуверенно звучали шаги. Я смотрела на камушки и думала, что нет смысла бежать.
Особенно если я не могу убежать.
Потом шаги стихли.
В воздухе послышался какой-то странный шорох. Прямо у меня над головой. Я зажмурилась, стараясь не думать о звуках и ничего не чувствовать. Не чувствовать, как ночной ветер остужает и делает ледяными капельки пота, проступившие у меня между лопаток. Как они скатываются по спине маленькими градинами, оставляя за собой влажный холодный след…
Потом шорох прекратился — вернее, переместился вниз, на тропинку, и превратился в сдержанное клокотание.
Чуть помедлив, я открыла глаза. Камушков больше не было. На тропинке неуклюже копошились воробьи и голуби. Утробно курлыкая, они клевали что-то — кажется, хлебные крошки — и время от времени вяло дрались.
На меня птицы не обращали никакого внимания и, в общем-то, вели себя довольно обычно. Как всегда ведут себя голуби и воробьи, когда какая-нибудь сердобольная старушка бросает им хлеб. Только вот никакой старушки на этот раз я не видела. Кроме того, была ночь. А ночью голуби спят. И воробьи тоже.
Наблюдая за птицами, я пыталась понять, кто же накидал им столько хлеба. Если не старушка. Если кроме меня там никого не было. Если — какая поразительная, готовая вот-вот оформиться мысль — даже меня там, наверное, не…
Мой самый бессмысленный, самый тоскливый ночной кошмар снова прервался как раз в тот момент, когда я уже почти поняла что-то очень важное и окончательное.
Я проснулась в тесном гостиничном номере тесной чужой страны, быстро и неприятно — как будто меня смачно выплюнули из сна и я ударилась о кровать. Еще какое-то время я лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Надеялась, что, если ничем себя не обнаружу, возможно, мне удастся как-то обмануть недружелюбную предрассветную действительность и снова вернуться туда, на тропинку.
Минут через двадцать я окончательно поняла, что больше уже не засну, и слегка пошевелилась, отлепляя плечи и спину от влажной гостиничной простыни. В парнике синтетического постельного белья было жарко и холодно одновременно. Я открыла глаза. Потянулась за мобильным и посмотрела на время: полшестого утра. Сумасшествие. Впрочем, в Москве — уже полвосьмого. Эта мысль меня почему-то утешила.
Я встала, нашла пульт и включила маленький телевизор, пристегнутый ремнями к сложному цилиндрическому приспособлению под потолком. На экране за плотной вуалью помех едва вырисовывались женские и мужские лица. …Jamais… Personne… Rien… Кто-то объяснял кому-то что-то по-французски, временами срываясь на крик. Я не понимала французский, но тишина в этом зашторенном душном номере размером с сортир была бы еще хуже. Дополнительные голоса создавали иллюзию «расширения пространства». Да ладно, чего уж… Я просто не могла выносить тишину. Не только там — дома тоже.
Я быстро надела майку и джинсы. Стянула с кровати белье и, скатав его в большой бело-розовый ком, закинула на кресло. Потом взялась за край кровати, приподняла ее и поставила вертикально, прислонив к стене.
Когда я въехала в этот номер, то подумала, что в таких же, наверное, французские шлюхи принимают клиентов. Но когда портье научил меня трюку с кроватью, поняла, что от этого номера шлюха бы отказалась.
Моя комната была устроена таким образом, что ходить по ней, а главное, открывать двери — и входную, и ведущую в ванную — можно было только в случае, если кровать стояла у стены. В своей более традиционной позиции — на четырех ножках, в центре комнаты — она блокировала все входы и выходы.
Девушку Олю Маркелову, оформлявшую мне в Москве эту командировку, я очень просила забронировать нормальный номер. Нормальный. Впрочем, я не догадалась сказать ей, что ни в коем случае не стоит бронировать номер в гостинице с названием «Ideal». И с двумя звездочками.
— Брэкфаст? — без особой надежды поинтересовалась я у всклокоченного араба, клевавшего носом на ресепшене.
— Уи, брэкфаст ноу, — дружелюбно улыбнулся араб крупными белыми зубами, подмигнул мне и снова закрыл глаза. — Пардон, мадаммэ, — бормотнул уже, кажется, во сне.
Я громко поставила перед ним большую деревянную грушу-брелок с номером одиннадцать, толкнула тяжелую прозрачную дверь и вышла на улицу. Тоскливо брякнул подвешенный к двери колокольчик.
У меня никогда не было привычки гулять в шесть утра, но сидеть в номере, в котором не помещается кровать, тоже как-то не хотелось. Клаустрофобия.
Быстрым шагом я прошла пару кварталов по улице Эмиля Золя и наугад свернула направо.
Потом еще раз направо. Петляя среди совершенно одинаковых, кукольных парижских двориков, я пыталась припомнить, была ли у меня когда-нибудь в жизни еще более ужасная командировка, чем эта. Международная парижская ярмарка детской литературы.
Конечно, была… Например, несколько лет назад я ездила в Кострому фотографировать школьного учителя, признанного виновным по статье 135 Уголовного кодекса «Растление несовершеннолетних». Унылые неровности казенно-зеленых стен, высокий худой человек с тупым изумлением на лице, раздраженная судья с красными волосами и очень плохой кожей, полуседой полусонный адвокат («Прошу принять к сведению, что обвиняемый является победителем областного конкурса “Учитель года”»)… В гостинице — стада тараканов и неотапливаемые обледеневшие «удобства» на этаже. Все это было тоскливо, нелепо, отвратительно. Казалось бы, как можно сравнивать? Здесь ведь — Париж… детские книжки с красивыми картинками… кофе, бутерброды, пресс-конференции и круглые столы… А настроение — хуже некуда.
Некуда.
* * *
Бессмысленно шатаясь по улицам, я старалась думать про пятнадцатиградусный мороз, ожидавший меня дома. Старалась вспомнить, как это — мороз… Я приехала из Москвы в зимних ботинках, и уже второй день мучила совершенно неуместным здесь бараньим мехом свои взопревшие ноги. В Париже было очень тепло. Март — а уже настоящее лето.
Двухчасовая прогулка не доставила мне удовольствия.
Он совсем не нравился мне, этот громкий бежевый город. Нависающие над головой, всех оттенков бежевого дома — словно ряды гигантских пыльных тортов с вычурными барочными узорами из подгнившего заварного крема.
Смуглые ленивые люди, вгрызающиеся хищно в нежную плоть круассанов, наглыми смеющимися глазами разглядывающие прохожих, обжигающие свои быстрые, картаво воркующие языки неароматной черной бурдой.
Люди, которые с раннего утра облепляют маленькие серые столики уличных кафе, точно нарочно выставленные в самых замусоренных и самых узких местах тротуара — так близко от проезжей части, что до движущихся мимо машин легко можно дотянуться рукой.
Кофе, сдоба, пыль и бензин — их бесконечный маленький завтрак. Сумасшедший эйт-о’клок.
Фотографировать не хотелось.
Ближе к одиннадцати я спустилась в метро. В вагоне было очень людно, но я отыскала-таки свободное место: стоять не было сил. От недосыпа кружилась голова, кисло-горький кофейный привкус во рту вызывал тошноту. Напротив меня сидела влюбленная пара. Они держались за руки и, разомлев, неторопливо обсуждали что-то. Он — молодой улыбчивый бородач русой масти, она — неопределенного возраста пухлая негритянка с мутными собачьими глазами и прыщавым лбом. Время от времени он наклонялся и целовал ее в этот лоб.
Они тоже вызывали тошноту.
Они вышли на станции Port de Versailles, там же, где и я.
Почти шатаясь, я выбралась из-под земли в подсвеченную солнцем уличную пыль, в дребезжащий строительный скрежет. Неожиданно сильно заболело горло.
Внутри, в павильоне, было еще хуже. Жарко и чересчур людно. Там пахло ковровым покрытием, влажной газетной бумагой и все тем же вездесущим химически-кофейным. Перекрикивая ярмарочный гул и марионеточно жестикулируя, посетители прохаживались между книжными стеллажами, волоча за собой визжащих, орущих, жующих, сосущих детей.
Я вытащила фотоаппарат и сфотографировала пару-тройку картонных Гарри Поттеров, украшавших издательские стенды. Потом сфотографировала двух мальчиков-близнецов, идентичными веснушчатыми носами уткнувшихся в комиксы. Потом увидела давешнюю парочку из метро и сфотографировала их. Они помахали мне руками. А потом стала медленно пробираться к российским стендам, то и дело натыкаясь на идущих навстречу французов. Каждый раз, когда мы сталкивались, они издавали громкий отрывистый звук — как детские резиновые игрушки с дырочкой, если на них надавить. Упс. Упс. А затем поднимали на меня доверчивые глаза и тоненьким певучим голоском чирикали «пар-дон». И выжидательно смотрели на меня. Мне полагалось тоже чирикнуть «пар-дон». Или хотя бы «упс». Но я молчала. У меня болело горло и поднималась температура.
Антон стоял, опасно облокотившись на фанерную «стену» одного из российских стендов и, свесив поверх брюк нечеловеческих размеров живот, прихлебывал капучино из пластикового стаканчика. Листал какую-то большую книгу с картинками. Я с трудом доплелась до него.
— Бонжур, — улыбнулся он, лениво изучая меня маленькими опухшими глазками. — А ты очень неважно выглядишь, мон амур.
— Что-то конкретное нужно сегодня фотографировать? — спросила я и не узнала свой голос. Он был совсем охрипшим.
Нас с Антоном отправили в командировку вместе. От него требовался культурный репортаж. От меня — к этому репортажу фотоиллюстрации. То есть я была как бы при нем. А он мне не нравился. Совсем.
— Ты, кажется, простудилась, Мари. — Голос у него был громкий и надтреснуто-высокий. — В этой теплой благодатной стране. Позволь, я угощу тебя горячим кофе.
— Нет, спасибо, — я вяло отмахнулась. — Что-то конкретное нужно фотографировать?
— А нафиг? — каркнул Антон удивленно.
— Ну, для статьи…
У меня вдруг закружилась голова. Я положила фотоаппарат в сумку и присела на корточки, чтобы не упасть.
— Статьи? Какой статьи?
— Антон… — У меня не было сил даже на то, чтобы говорить раздраженно. — Я действительно не очень хорошо себя чувствую. Так что давай без этих твоих шуток-прибауток. Просто скажи, нужно ли тебе, чтобы я сфотографировала что-то… кого-то… ну, чью-то морду… или пресс-конференцию… для твоей статьи. Для статьи, которую ты напишешь про эту чертову ярмарку детской литературы.
Слишком много слов. К концу этой тирады голос у меня совсем сел.
— Маш… Маш. Ты что? Я ведь не буду писать никакую статью.
Я посмотрела на него, снизу вверх. Поднимать глаза было больно. Шевелиться было очень неприятно.
Кажется, он говорил серьезно.
— Почему? — спросила я шепотом.
— Но… мы же вчера уже говорили про это, нет? Ты разве не помнишь?
Я попыталась вспомнить. Что-то действительно… смутно шевельнулось у меня в голове.
Мы сидели в номере… в моем?.. в его?.. и пили… И он действительно говорил, что… Я была пьяна. Я не помню.
— Я не помню.
Антон посмотрел на меня немного испуганно. И зачем-то протянул мне свой недопитый капучино.
— Спасибо, не хочу.
Он выкинул стаканчик в урну и положил мне на плечо свою большую толстую руку с розовыми пальцами-сосисками. Я почувствовала, что меня вот-вот вырвет. Эта рука… Я вдруг поняла, что эта рука… что я откуда-то знаю, какая она на ощупь… шершавая… и как она глупо трясется… И…
— Ты совсем ничего не помнишь? Мне казалось, ты была все же не настолько пьяна, чтобы…
— Подожди, я сейчас приду. Ты, пожалуйста, подожди.
Я поднялась на ноги и насколько могла быстро побежала через весь павильон к лестнице, и на второй этаж, и в тошнотворно-цветочное благоухание уборной, и в маленькую тесную кабинку, в которой меня наконец вывернуло наизнанку, наизнанку, наизнанку этим их чертовым кофе и круассанами, и просто ничем — до рези в пустом желудке, до слез.
Потом я вернулась к нему.
— Напомни мне только, почему ты не будешь писать статью. Только это.
Он смотрел на меня своими маленькими мышиными глазами и молчал.
— Антон? Как ты объяснишь в редакции, что съездил в командировку и ничего не написал?
— Понимаешь… Маша. Ну, я просто… я просто не собираюсь возвращаться туда.
— Куда, в редакцию?
— В редакцию. И вообще в Москву. В Россию.
Антон опустил глаза, поскреб пальцем неприятное желтое пятно на брюках.
— И тебе тоже, Маш, не советую. Туда возвращаться. Там сейчас начинается плохое время… Ты же знаешь. В такой ситуации получить здесь политическое убежище — не проблема. И у меня, кстати, есть здесь неплохой проект. Сетевой. Ладно… Пойду.
Он неопределенно махнул распухшей пятерней, сунул мне в руки свою большую книжку с картинками, повернулся спиной и стал решительно протискиваться к выходу, наступая на ноги веселым резиновым французам.
Упс — пардон. Упс — пардон.
Я снова присела на корточки и раскрыла книгу.
…Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек с женой и двумя детьми: мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жил дровосек впроголодь; и наступила однажды в той земле такая дороговизна, что ему не на что было купить даже кусок хлеба. Вот как-то вечером лежит он в кровати, не спит, а все с боку на бок переворачивается…
III. Путешествие
До вечера я провалялась в номере, накрывшись тремя одеялами, чтобы не знобило.
Мне снились какие-то хищные синие ромбы и квадратики, которые я должна была расположить в строгом порядке, от самых крупных к самым мелким, но мне это никак не удавалось: они все время меняли свой размер. Далекие фигурки из детства, они приползли ко мне с родительских обоев двадцатилетней давности, чтобы теперь мучить меня, увеличиваться, уменьшаться, увеличиваться, уменьшаться…
Потом снился Антон. Мы были с ним вместе на какой-то сомнительной, очень зыбкой и расползающейся по швам (по стыкам стен?) кухне. Он стоял у плиты, над кастрюлей с кипящей водой, и говорил: «Сейчас я приготовлю обед». И опускал в кипящую воду свои красные, распухшие пальцы. «Уже почти готово… Тебе понравится… Пальчики оближешь… Оближешь…»
А потом я снова была там, на тропинке. Я шла по ней в свете луны и считала белые камушки, но все время сбивалась со счета. Тогда я возвращалась в то место, откуда начала, и снова принималась считать. Но их было много, слишком много… Кажется, вся тропинка была выложена ими.
Потом позади меня раздались шаги, и я поняла, что я там не одна. Я испугалась. Усилием воли я поднялась над тропинкой и теперь смотрела сверху и немного сбоку.
Кто-то медленно шел по тропинке, приближаясь ко мне. Я не видела кто. Как загипнотизированная, я смотрела на камушки и пыталась убедить себя, что бояться нечего. Вряд ли это был кто-то большой или агрессивный: слишком тихо и неуверенно звучали шаги. Я смотрела на камушки и думала, что нет смысла бежать…
Я проснулась около восьми вечера. Подушка и простыня подо мной были совершенно мокрыми от пота.
Однако же после сна мне стало лучше. Заметно лучше. И температура, кажется, спала.
Делать было, в общем-то, нечего. То есть — нет. Не так. У меня было дело. Мне нужно было серьезно подумать об одной очень важной вещи, но страшно было начинать. Чтобы оттянуть время, я стала читать.
…и наступила однажды в той земле такая дороговизна, что ему не на что было купить даже кусок хлеба. Вот как-то вечером лежит он в кровати, не спит, а все с боку на бок переворачивается, вздыхает и наконец говорит жене:
— Что теперь будет с нами? Как нам детей прокормить, нам и самим-то есть нечего!
— А знаешь что, — отвечала жена, — заведем завтра утром детей пораньше в лес, в самую чащу…
Что-то мне в этой сказке не нравилось. Очень не нравилось. Настолько, что я не стала читать дальше.
Пришло время подумать.
* * *
Я залезла в ванну, включила душ и стала думать о том, что со мной что-то не так. С моей головой. С памятью.
Что я, видимо, очень больна.
И что это началось не вчера. Пора себе в этом признаться.
Это началось несколько лет назад. Сначала я не обращала внимания: мне казалось — это нормально. Ну, забывать какие-то мелочи, незначительные события и разговоры — нормально.
Но сейчас. Сейчас. То, чего я не могу вспомнить сейчас — так ли уж это незначительно?
Возможно, я сама виновата. Возможно, да. Ведь кое-что я действительно хотела забыть. Ведь кое-что я забыла специально.
А остальное стало забываться само. Просто стираться. Моя память — мозаика из сотен, из тысяч экранчиков-воспоминаний. Только одни светятся, а другие погасли. Маленькие черные квадраты. В них — темнота.
То, чего я не могу вспомнить сейчас — так ли уж это незначительно?
«И тебе не советую возвращаться. В Россию. Там сейчас начинается плохое время». Так он сказал, Антон.
Что я об этом помню?
Я помню, что было очень-очень много разговоров о переизбрании на очередной срок. Я не слишком много смотрела телевизор и слушала радио, но об этом говорили все. Одни утверждали, что нет подходящей замены. Что нужно закончить реформы. Ну и так далее. Другие заявляли, что если он останется на очередной срок — это уже, безусловно, будет диктатура.
Потом прошли эти самые выборы. И… вроде кого-то выбрали. Ну то есть, естественно, кого-то выбрали. Кажется, не его. Кого? Кто управляет сейчас моей страной? Я не помню. Не помню.
Зато я помню, что, когда уезжала в Париж, мои друзья прощались со мной так, словно я уезжаю навсегда. Они говорили: ты не вернешься. И что-то насчет того, что, мол, повезло… получила шенгенскую визу… политическое убежище… не упусти свой шанс… Кажется, так.
После душа я почувствовала себя еще лучше. В том, что касалось простуды. А в остальном…
Антон жил в той же гостинице, что и я — этажом ниже. Я кое-как вытерлась жестким, совершенно неспособным впитывать влагу полотенцем, оделась и пошла к нему.
Моему приходу он не слишком обрадовался. Да что там — заметно огорчился. Он стоял на пороге, рассеянно почесывал оголенный фрагмент тугого волосатого брюха и смотрел на меня с этаким недоуменным омерзением. Он не предложил мне войти.
Я, впрочем, совершенно не хотела входить. Я хотела спросить у него кое-что.
— Кто победил на выборах?
Спросила. Заметив про себя, что мой голос по-прежнему совершенно охрипший, чужой.
— На каких выборах? — Он смотрел на меня подозрительно. Щурил мышиные глаза.
— Ну, на выборах. В России. Кто стал президентом? Почему туда нельзя возвращаться?
— Ты зайдешь? — спросил он и быстрым взглядом окинул коридор позади меня.
— Нет. Просто скажи мне. Кто?
— Я не уверен, что стоит об этом разговаривать. Тем более вот так… в коридоре. Ты лучше зайди.
— Кто?
— Зачем ты спрашиваешь?
— Мне нужно. Нужно, чтоб ты ответил.
— Нужно, чтоб я произнес его имя вслух? Или нужно, чтоб я сказал, что про него думаю? Тебя кто-то прислал? У тебя в кармане лежит диктофон?
Он тяжело шагнул ко мне и неожиданно сильно схватил своей красной клешней за запястье. Другой клешней принялся ощупывать карманы моих джинсов.
— Зачем тебе? Ну-ка, зачем тебе? Ну-ка, зачем это, сука, тебе? — Он говорил тихо и зло и дышал мне прямо в лицо гнилым луком и пивом.
Задержав дыхание, я ждала, пока это кончится. Когда он, наконец, прекратил лапать меня, я сказала:
— Мне это нужно затем, что я не помню. Действительно не помню.
Он стоял напротив меня, хрипло дышал и щурился.
Он сказал:
— Я тоже не помню.
И захлопнул передо мной дверь.
* * *
— А знаешь что? — отвечала жена. — Заведем завтра утром детей пораньше в лес, в самую чащу; разведем там костер и дадим им по кусочку хлеба. А сами пойдем на работу и оставим их одних. Не найти им дороги обратно — вот мы от них и избавимся…
* * *
Ближе к ночи мне захотелось есть. То есть не то чтобы прямо захотелось, но я подумала, что ужин пришелся бы очень кстати: за весь день я съела только один круассан, да и тот во мне надолго не задержался.
Я взяла кошелек, мобильник и ключ от номера; поразмыслив, засунула все это в полиэтиленовый пакет с надписью Beneton — чтобы не разгуливать по ночному Парижу с кошельком и телефоном в руке. Потом еще положила туда сказки братьев Гримм. Зачем-то. И спустилась вниз.
На ресепшене сидел, покачиваясь из стороны в сторону, все тот же араб. Я отдала ему деревянную грушу и спросила:
— Is there any cafe somewhere near?
— Уи, — сказал араб. — Саппер ноу. Саппер а-ля кафе.
И помахал мне рукой на прощание.
Кроме меня, на улице никого не было. Я шла по Эмиля Золя и слушала собственные шаги. Странное ощущение. В Москве, даже в спальном районе, невозможно слышать свои шаги. Их всегда заглушают еще чьи-то шаги, или голоса, или машины, или музыка из открытых окон… В любое время суток.
А вот в Париже — пожалуйста. После девяти вечера город вымирает. Ну, кроме разве что самого центра.
Ничего похожего на кафе — по крайней мере, на открытое кафе — я нигде не видела.
Я шла и думала о своем муже. О своем бывшем муже.
…Я помню всякие мелочи. Дурацкие, неинтересные подробности.
Он, например, пил много воды. На ночь ставил рядом с собой двухлитровую бутылку, практически не просыпаясь, из нее отхлебывал, и к утру она была пустой.
Он, например, любил готовить что-то вроде овощного рагу. Сначала он мелко нарезал зелень. Потом — помидоры. Потом — грибы. Потом — морковь. Капусту-брокколи. Шпинат. Картошку. Пока нагревалась сковорода, все это лежало, очень аккуратно, на деревянной дощечке. Ровными опрятными кучками. Отдельно одно от другого. Если кусок помидора случайно попадал в кучку с грибами, он вытаскивал его оттуда и клал на место. К другим помидорам. А потом, когда сковорода достаточно накалялась, он брал нож и смахивал в нее с деревянной доски все эти кучки. Последовательно. Одну за другой. А потом брал ложку и все перемешивал. Все. Перемешивал…
Я едва не проскочила открытое кафе — на очередном перекрестке двух одинаковых, безлюдных улиц. Зашла внутрь. Села за столик и стала рассматривать заламинированный пластиковый прямоугольник меню. Есть хотелось уже по-настоящему. Я решила, что возьму порцию картофеля фри и горячий бутерброд с идиотским названием «Bonjour, Monsieur» — с ветчиной, сыром, шпинатом и яйцом. Был еще вариант «Bonjour, Madame». Без яйца. Официант все не подходил.
Я вынула из пакета «Сказки».
…Сели Гензель и Гретель у костра, а в полдень они съели свой хлеб. Они все время слышали стук топора и думали, что это где-нибудь недалеко работает отец. А постукивал-то вовсе не топор, а сухой сук, который отец подвязал к старому дереву. Сук раскачивало ветром, он ударялся о ствол и стучал. Сидели они так, сидели, от усталости у них стали закрываться глаза, и они крепко уснули. Когда они проснулись, в лесу было уже совсем темно. Заплакала Гретель…
— Bon soir! — Официант, маленький и вертлявый, вопросительно навис надо мной. Он широко улыбался.
— Good evening, — просипела я. Снова начинало болеть горло.
Услышав английский, он как-то сразу помрачнел и сник. Улыбка стала шире и ненатуральней.
— Qu’est ce-que vous desirez?1 — продолжил он по-французски. Он все еще надеялся наладить со мной нормальный человеческий контакт.
— Excuser moi, je ne parle pas francais, — оттарабанила я. — I would like to order fried potatoes…2
Его взгляд приобрел свинцовую бессмысленность.
— …Hot sandwich «Bonjour, Monsieur», one fresh orange juice and one tea with lemon.3
Официант смотрел сквозь меня и широко улыбался. Я немного подождала. Потом в точности повторила предыдущую реплику, воодушевленно тыкая при этом пальцем в соответствующие пункты меню.
Официант закивал и чему-то очень обрадовался:
— Malheuresement, la cuisine est fermйe apres 8 heures et vous pouvez commander seulement les boissons.4
— Excuse me, — сказала я, уже догадываясь, что ужин мне здесь не светит, — I don’t understand. I’d like to eat a sandwich. Can I?5
— Ноу, — просиял официант и утвердительно кивнул. — Китчен нот уорк. Ту лэйт. Pas possible.
Я закрыла меню, закрыла книжку и вышла из кафе. И побрела дальше.
…Да, а еще он курил, мой муж.
Перед тем как выйти на лестничную клетку курить, он всегда вежливо спрашивал: «Ты не возражаешь, если я выйду покурить?» И выходил только после того, как я говорила: «Конечно».
Еще — он всегда принимал душ ровно пятнадцать минут. А перед этим всегда говорил: «Я зайду в душ минут на пятнадцать».
Это я помню. И еще много всякой ерунды.
Но я не помню ни одного нашего разговора. Я не помню, как мы с ним встретились. Я не помню, как мы прикасались друг к другу. Я не помню любви. Я даже не помню, как его звали. Что заставило меня жить с ним? Наверное, было ведь что-то? Не помню. Не помню. Он молчит, сидит, суетится в освещенных квадратиках моей памяти — совершенно постороннее существо. Забавное, механическое. Что-то вроде одушевленного кухонного комбайна. А чего он хотел? Что любил и чего боялся? О чем думал, мечтал?
И — наконец — куда он делся? Где он сейчас?
Кажется, было много каких-то гадостей. Мелкого вранья и путаных объяснений. Кажется, кто-то кого-то предал. Кажется, я много плакала. Все это в каком-то тумане.
Как бы то ни было, теперь я одна.
В тумане…
В следующем кафе все повторилось. Кухня закрыта. Еды нет. Только напитки. Но сердобольная брюнетка с заячьими зубами жестами объяснила мне, где находится круглосуточный ресторан. Ресторан, в котором food можно есть tout la nuit.
Я действительно нашла его, этот ресторан. Вернее — бар. Там было жарко и накурено. Мрачный мужик с трехдневной щетиной поглощал дымящуюся пиццу прямо за стойкой. Еще один — с желтыми крошками в бороде — прихлебывал темное пиво.
Симпатичный бармен энергично размазывал мутные разводы по стенкам пивных кружек, орудуя сомнительной чистоты полотенцем.
— Excuse me, — сказала я.
Он не обращал на меня никакого внимания.
— Excuse me, — сказала я громче и закашлялась, — do you have food?
Он поднял на меня глаза и отрицательно покачал головой.
— Food, — повторила я, — food. Манжэ.
И показала пальцем на пиццу того мужика со щетиной.
— Non, — лениво выдавил из себя бармен и снова покачал головой из стороны в сторону.
Я продолжала стоять напротив него.
Тогда он повернулся ко мне спиной, наклонился куда-то под стойку бара, а потом извлек оттуда большой бумажный пакет. Для мусора.
Он сунул мне его прямо в нос, демонстрируя, что пакет пуст. И, издевательски ухмыльнувшись, сказал:
— Je suis desole, mais nous n’avons rien a vous proposer ce soir.6
Демонстрация пакета была столь наглядна, что я прекрасно поняла, что именно он сказал.
Я почувствовала, что краснею. Стремительно краснею. Что мое лицо, и уши, и кожа головы — все становится пунцовым. А на глаза наворачиваются слезы. От злости. От возмущения. От невозможности объяснить.
— Merde, — хрипло сказала я. Это слово я знала.
Я вышла из бара и быстро пошла обратно, в гостиницу Ideal.
Потрясающе. Потрясающе. Меня приняли за бомжа. Разве я похожа на бомжа? Разве я одета в вонючее тряпье? Впрочем… как я одета? Джинсы, коричневые зимние ботинки, довольно потасканный свитер. Для европейского бомжа — в самый раз. К тому же еще этот полиэтиленовый пакет с непонятным барахлом в руках.
Уже подходя к гостинице, я заметила круглосуточный магазинчик с китайской едой. Сонная аутичная китаянка упаковала мне в большую пластиковую коробку пережаренные куриные крылышки в каком-то сомнительном оранжево-желтом желе и салат из чего-то скользкого и зеленого. А еще я купила холодный чай — Ice Tea — в запотевшей жестяной банке.
Я вошла в гостиницу и подошла к арабу. Он спал, положив худое напряженное лицо на свои красивые смуглые руки.
— Онз, — произнесла я хрипло.
Онз. Одиннадцать. Это было волшебное слово. После него араб выдавал мне ключ от номера.
Очень хотелось спать.
Араб вздрогнул и проснулся. Несколько секунд таращился на меня, не узнавая. Потом сказал:
— Va d’ici.7
— Pardon?
Он быстро и изящно, по-кошачьи, выпрыгнул из-за деревянной стойки. Больно ткнул меня острыми длинными пальцами в грудь. И показал на дверь.
Он сказал:
— Casse-toi. Va te faire foutre.8
И вот тогда я посмотрела на себя в зеркало.
И вот тогда я посмотрела на себя в большое зеркало в позолоченной раме, которое висело в гостиничном холле.
И вот тогда все началось.
А меня не стало.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Ты, чертище, вели своей чертище,
Чтоб она, чертища, распустила волосища;
Как жила она с тобой в челнище,
Так жил бы и он со своей женой в избище.
Чтоб он ее ненавидел.
Заговор на остуду между мужем и женой
I. Детеныш
Гигантские шестеренки Ковра-Самолета снова пришли в движение, и нелепо разукрашенная махина, скрежеща, неохотно возвратила людей в естественное положение.
Мальчик вышел за ограду и оглянулся на огромную, уродливую, свежевыкрашенную башку старика Хоттабыча, невесть зачем прибитую к Ковру. Приятно кружилась голова.
Потом были Американские Горки… Страшненько так. Щекотно под ребрами и в желудке. И все ужасно орали, даже взрослые. Даже мама. Хотя в целом ведь — ничего особенного.
На самом деле гораздо больше истеричных, бессмысленных американских горок Мальчику нравилась обыкновенная карусель — та, что располагалась в самом конце Чудо-Града, с маленькими пластмассовыми креслами, подвешенными на длинных железных цепях. Это был его самый любимый аттракцион. Каждый раз, когда Мальчик приходил в Парк Культуры, он собирался первым делом идти туда, к Карусели. Но дойти до нее было непросто. Казалось бы, что тут такого? Входишь в огромную каменную арку ЦПКиО имени Горького, идешь вперед, огибая фонтан. Дальше — белоснежные ворота, ведущие в Чудо-Град. А дальше — от этих ворот прямо к Карусели тянется широкая прямая аллея, и идти-то по ней всего минут семь, не больше…
Но ни разу еще Мальчику не удалось сразу, быстро и целеустремленно, пройти по аллее до самого конца — туда, к своей цели. К летающим по воздуху креслам, к пронизывающему ветру, от которого слезятся глаза, к оглушительно-громкой попсе… а-а-а он тибя цылу-ует, га-ва-рит, что любит, и на-чами обнима-а-а-ет, к сердцу прижимает, а-а-а я му-чи-юсь от бо-оли, са сва-ей любовью, фа-та-графии в альбо-о-оме… к бездонным воздушным ямам, к визжащим девчонкам, к вертящемуся миру. Прямая аллея пестрила симпатичными коричневыми дощечками указателей («Кафе», «Авторалли», «Тир», «Кораблекрушение», «Американские Горки»), хитро ветвилась дополнительными тропинками, уводящими то вправо, то влево, к другим удовольствиям и развлечениям. А на обочинах продавали с лотков разноцветную сладкую вату, и мороженое, и кока-колу, и чипсы… Так что Карусель — чистый восторг, чистый полет, единственное, чем стоило бы заниматься весь день, раз за разом покупая узкий хрустящий билетик и выстаивая длинную очередь, — Карусель всегда оставалась на потом. Когда времени уже было в обрез и мать торопилась домой…
Вот и теперь они направлялись вроде бы к Карусели — но Мальчик остановился на полдороге, под указателем «Пещера Ужасов», и просительно поглядел на мать.
— Да зачем тебе? Это же для маленьких! — удивилась она.
— Но я же никогда еще там не был, — заныл Мальчик. — Ну ма-ам… Ну дава-ай…
— Может, лучше на Колесе обозрения покатаемся? — она указала влево, на застывшую в небе неповоротливую громадину.
— Нет, не хочу. Оно скучное. И вертится медленно.
— Ладно, — равнодушно пожала плечами мать, и они свернули вправо, к Пещере.
* * *
Очередь за билетами была длиннющая. Задрав голову и приоткрыв рот, Мальчик рассматривал огромные — в три человеческих роста — и нелепые фанерные физиономии, приколоченные к стене Пещеры. Их было четыре. Гигантские подбородки состояли из множества неровных брусочков — как бы вырезанные из камня в как бы скале. Лбы же были вполне гладкими — работая над ними, неизвестный скульптор, по-видимому, забыл, что вырезает по камню, а не лепит из папье-маше. Все четыре монстра были одинаково мрачными; трое — неопределенного пола, один — точно мужчина: с усами. Плотно сжав тонкие злые губы, все они пристально смотрели вдаль выпученными глазами.
— Мам, а кто это? — спросил Мальчик.
Лично ей физиономии казались очень знакомыми — про себя она идентифицировала их как Христофора Колумба, Петра Великого, Екатерину Вторую и президента Буша — однако кого на самом деле имели в виду авторы скульптурной группы, было неясно. Ее версия сразу отпадала — никакой логики в подобном подборе персонажей не наблюдалось. Всем историческим деятелям, за исключением разве что Колумба, нечего было делать на стене здания аттракционов. Впрочем, если вдуматься, Колумб тоже не имел ни малейшего отношения к детским страшилкам…
— Не знаю, — ответила мать. — Хотя вон тот, кажется, Буш, — добавила, не удержавшись.
— А-а, — понимающе кивнул Мальчик и потерял к физиономиям интерес.
Очередь двигалась медленно.
— Мам, а какой это дом? — спросил Мальчик.
— В смысле — дом?
— Ну, вот это здание, в котором аттракцион, — у него же есть какой-то номер? Номер дома? Или нет? Или на аттракционах не бывает номеров?
— Честно говоря, не знаю, — ответила мать.
— А можно я сбегаю, посмотрю?
— Нет, стой здесь. Мы уже почти у кассы.
Через минуту они действительно подошли к кассе, и она купила в окошке один билет.
— А ты что, со мной не пойдешь?
— Не пойду — чего я там забыла? Это же совсем для малышей… Вон, смотри, с трехлетними детишками оттуда мамы выходят.
— Ну, зато там, наверное, смешно, — неуверенно возразил Мальчик.
Он сам уже жалел, что притащился сюда и потратил столько времени зря. Судя по всему, в этом аттракционе ничего смешного — а уж тем более страшного — не было. Так, по крайней мере, казалось снаружи: в стене Пещеры, сверху, между физиономиями, было «вырублено» довольно большое окно, и в нем проплывали, раскачиваясь на толстом металлическом тросе, люди в дурацких красных креслах. Лениво улыбаясь, эти люди смотрели сверху на очередь в кассу, без энтузиазма махали друзьям и родственникам, или плевались, или кидали вниз фантики и снова ныряли в темноту Пещеры. Лица у них были какие-то вялые и рассеянные. Кажется, им было скучно.
— Все, иди, твоя очередь, — мать подтолкнула его ко входу в Пещеру.
Он вошел в узкий, тускло освещенный коридорчик и остановился — очередь продолжалась и там. Огляделся. Стены и потолок были покрыты какой-то черной пупырчатой гадостью, претендовавшей, кажется, на сходство со сталактитами. Поборов отвращение, Мальчик дотронулся до шершавой поверхности пальцем. Пенопласт. Стало совсем скучно.
— Я боюсь, — тихо сказала симпатичная кудрявая девочка, стоявшая рядом с ним.
— А чего тут бояться? Это же не взаправду? — удивился Мальчик.
— Там… там будут привидения. И скелеты, — пискнула девочка.
Она действительно выглядела испуганной.
— Да не бойся ты. Ну хочешь — сядем с тобой вместе? — предложил он.
— Хочу, — потупилась.
В продолговатые красные кресла сажали по трое.
— Чур я не с краю! — сказала кудрявая и уселась в середину, рядом с еще одной девочкой, толстой и некрасивой.
— А я с краю, — сказал Мальчик.
— Побыстрее, ребята, побыстрее, — строго загундосил низкорослый таджик в синей спецовке — он проверял, все ли пристегнулись к сиденью.
Наконец тронулись. Медленно, со скрипом кресло поползло по тросу куда-то вверх и вбок.
— Ой, — тихо сказала кудрявая и прижалась к Мальчику.
Миновали неподвижного мужика с окровавленным топором. Потом куцее болотце с неподвижной же русалкой. Сбоку громко ухнуло привидение в белой простыне — кудрявая вздрогнула, потом засмеялась.
— Видишь, я же говорил: совсем не страшно, — сказал Мальчик.
Фредди Крюгер нерешительно протянул к ним длиннопалую когтистую руку — и тут же смущенно отдернул. Впереди наметился маленький журчащий водопад — но когда они проезжали под ним, вода, естественно, отключилась.
— И совсем неинтересно, — буркнул Мальчик.
— Вон! Вон он, скелет. — Девочка, смеясь, показывала пальцем на белое существо впереди; оно нервно пританцовывало — так, словно очень хотело отлучиться по малой нужде.
Когда они проезжали мимо, скелет вдруг перестал суетиться, застыл и театрально захохотал. Девочки для порядка взвизгнули.
— Смотрите, гроб! — сказал Мальчик.
— Где? — заинтересовалась кудрявая, но, прежде чем он успел показать, тусклый свет в Пещере неожиданно погас, а все кресла остановились.
В темноте раздавались крики и смех.
— Сломался! Аттракцион сломался! — выкрикнул чей-то радостный голос. — Теперь мы тут так и будем сидеть!
Через пять минут стало скучно. И тихо.
— Давай раскачиваться, — интимно шепнула кудрявая девочка ему в ухо.
От нее приятно пахло мятной жвачкой и каким-то фруктовым шампунем.
— Давай.
Они стали болтать ногами, раскачиваясь, — но уже через пару минут Мальчику это надоело.
Глаза его стали постепенно привыкать к темноте. Там, куда он все время смотрел — чуть ниже, немного справа, — на специальной подставочке стоял гроб. Настоящий дубовый гроб. Открытый.
И кто-то… что-то лежало в нем; нечеткий, обмотанный черными тенями силуэт постепенно вырисовывался из мрака. Медленно, миллиметр за миллиметром, проступали его ноги — худые, безвольно вытянутые… И руки — бледные, аккуратно сложенные на груди, крепко сжимающие погасшую электрическую лампочку в форме свечи… И лицо — зеленоватое, остроносое, тонкогубое, тихо… расползающееся… в улыбке…
II. Путешествие
Я шла долго, очень долго. Я не думала ни о чем. В каком-то сквере, уже под утро, я расстелила прямо на земле, под деревом, пакет с надписью Beneton и стала поедать остывшую, пересоленную китайскую еду. Жадно, руками.
Наевшись, принялась вяло обдумывать ситуацию. Мои документы, обратный билет на самолет, одежда, большая часть денег и фотоаппарат остались в гостинице. Все это мне уже не достать.
Я раскрыла кошелек и пересчитала наличность. Примерно сто евро. И две тысячи рублей. Еще там было несколько моих визиток, теперь уже мне не нужных. И водительские права с фотографией, теперь уже не моей.
Остаток ночи и утро я провела там же, в сквере. Несколько раз просыпалась от холода. Часов в одиннадцать дня я, наконец, заставила себя подняться. Все тело болело. Что-то жидкое громко булькало и свистело в легких. Я закашлялась. Я кашляла долго и натужно, с облегчением сплевывая на землю большие зеленовато-желтые сгустки.
К полудню мне стало лучше.
Я сгребла книжку и кошелек в пакет и пошла в сторону центра. Мобильный куда-то пропал — но мне было все равно.
По дороге я зашла в магазин и купила табак, бумажки-самокрутки и две бутылки самого дешевого красного вина. Французские клошары пьют молодое красное вино. Отвратительно кислое.
Следующие два дня я слонялась по Парижу. Без всякой цели. Без всяких мыслей. Без особого удивления я обнаружила, что понимаю теперь их язык. И свободно на нем говорю. Свободно говорю по-французски чужим хриплым голосом.
А на третий день у меня появилась цель. Я вдруг поняла, что мне надо попасть домой. Кем бы я теперь ни была, мне надо ехать домой.
Денег у меня в кошельке еще хватало на то, чтобы купить билет до Кельна. А там, в Кельне, жили люди, которые должны были мне помочь.
Кем бы я ни была.
На вокзале Paris Nord было столпотворение. Поезд на Кельн задерживался из-за какой-то забастовки на железной дороге. Задрав голову, я рассматривала электронное табло с расписанием поездов, когда из толпы вдруг вынырнул потасканного вида и неопределенного возраста человек с козлиной бородкой, дружески хлопнул меня по спине и проорал по-французски:
— Здорово, Кудэр!
От него исходил резкий козлиный запах. Застарелого пота и застарелой кислятины.
Я сказала:
— Вы, похоже, ошиблись.
— Эй, да ты чего? — Он снова дыхнул на меня козлиным.
Я отвернулась от него и пошла прочь, с трудом протискиваясь через нервно скучающую толпу. Он устремился за мной.
— Эй, Кудэр, мать твою! Кудэр, ты что, спятил?
— Да отвяжись ты! — Я остановилась и посмотрела ему в глаза. — Чего тебе надо?
— Ни хрена себе… Ты что, правда меня не узнаешь?
— Правда. Не узнаю.
— Да я же Поль! А это вот — Алекс…
Из-за его спины неожиданно вынырнул еще один облезлый субъект. Это был седой старичок с маленькими гноящимися глазами.
— Алекс, — захлебываясь, тараторил Поль. — Посмотри, он нас не узнает!
Старичок подошел ближе и молча уставился на меня. Я заметила, что один его глаз полностью затянут большим голубоватым бельмом.
— Трансформированный, — сказал Алекс.
— Чего? — изумился Поль.
— Трансформированный. Я знаю что говорю. Пойдем отсюда. Кудэра больше нет.
— Вы что, оба с ума спятили? Если этот парень не Кудэр, то кто же он?
— Мари, — старичок хитро прищурил свой незрячий глаз. — Ты ведь Мари, да, крошка?
Он тихо захихикал, выставив напоказ гнилые огрызки зубов; мне показалось, что я действительно когда-то знала его.
На электронном табло высветился номер моего поезда. Я побежала к вагону — не слишком быстро, но они не гнались за мной.
Не гнались. Одноглазый Алекс только сипло смеялся мне вслед. И, смеясь, выкрикивал громко по-русски:
— Маша-растеряша! Эй, Маша-растеряша! Все растеряла! Хи-хи-хи! Уже не найдешь!
В поезде я откинула спинку сиденья и почти сразу заснула.
Во сне я видела ночную тропинку, белые камни и птиц. Я была очень близка к разгадке, еще ближе, чем раньше.
Когда я проснулась, мы уже ехали по Германии. Надо мной выжидательно склонился немец-контролер. Я протянула билет. Он внимательно, чуть удивленно изучил его, прокомпостировал и вернул мне. Забирая билет, я случайно коснулась его холеных прохладных пальцев. Отвращение мелькнуло в его глазах лишь на долю секунды, и тотчас же утонуло в невозмутимой арийской голубизне. Он пошел по вагону дальше. Я вспомнила про книгу в пакете.
* * *
…Когда они проснулись, в лесу было уже совсем темно. Заплакала Гретель и говорит:
— Как нам теперь найти дорогу домой?
— Погоди, — утешал ее Гензель, — вот взойдет месяц, станет светлее, мы и найдем дорогу.
И верно, скоро взошел месяц. Взял Гензель Гретель за руку и пошел от камешка к камешку — а блестели они, словно денежки, и указывали детям дорогу. Всю ночь шли они, а на рассвете пришли к отцовскому дому и постучались в дверь…
* * *
Я смотрела в окно поезда — на ровные дольки игрушечных немецких полей, на белые, желтые и зеленые домики у обочин… Я думала о своих родителях.
Мои родители эмигрировали в Германию в начале девяностых — несмотря на мои пламенные протесты. Они говорили о нищенской пенсии, об отсутствии перспектив, о том, что надо «сматываться из этой страны». Смотались…
Они поселились в Кельне. Немецкие власти выделили им социальное пособие, которого было более чем достаточно, чтобы арендовать двухкомнатную квартиру, покупать продукты в соседнем супермаркете и еще немного откладывать.
Перед ними открылись перспективы. Матери — врачу-окулисту с двадцатилетним стажем — на бирже труда предложили подстригать кустики в городском саду. Отцу — инженеру-конструктору — охранять маленькое складское помещение.
Языка они, естественно, не знали и на бесплатных двухмесячных курсах для иммигрантов выучить его не смогли. Они общались только с русскими. По большей части — с так называемыми «русскими немцами», которых в их многоквартирном панельном доме было превеликое множество. Эти шумные, энергичные, малообразованные тетки и мужики с Урала, из Сибири и Казахстана казались моим родителям, тихим интеллигентным евреям, инопланетными пришельцами. Родители беседовали с русскими немцами о распродажах, о ремонтных работах в доме напротив и о курсах валют.
Вечерами они смотрели канал РТР, транслировавшийся на Германию, слушали пластинки Окуджавы и пили чай с бергамотом.
К чаю папа нарезал и аккуратно выкладывал на блюдце маленькие кусочки банана и сникерса. В Германии это почему-то стало их излюбленным лакомством.
А перед сном они сортировали скопившийся за день мусор. Разделяли на три аккуратные кучки: в первой — бумажные отходы, во второй — пищевые, в третьей — металл, стекло и пластмасса. «Нельзя нарушать законы страны, которая тебя приняла», — говорил отец.
Они все время звали меня в гости. Но сами приезжали в Россию лишь пару раз. Организация, платившая им «социал», не одобряла подобных путешествий. Не одобряли и соседи, русские немцы, с удовольствием писавшие на полунемецком подробнейшие отчеты в соответствующие инстанции.
Возможно, они бы хотели вернуться. Но уже не могли — у них не было сил. Новая жизнь — симпатичные тележки в супермаркетах, полупустые автобусы с плюшевыми сиденьями и улыбчивыми пассажирами, раздельные урны для органического и неорганического мусора, непонятная немецкая речь и вежливые кассиры — эта жизнь как-то сразу заставила их съежиться, придавила, превратила в нелепых и жалких старичков.
В последний раз я видела их год назад. Папа, совсем седой, сутулый, суетливый, болтливый, нарезал мне в тарелочку бананы и сникерсы. Я отказывалась. Он упирался. Говорил: «Сначала попробуй, а потом уже говори нет». У него сильно тряслись руки. Правая дужка его очков была обмотана коричневой изолентой. Мама, в дурацком зеленом костюме с распродажи, с непривычно короткой стрижкой, с непривычно пустыми глазами, рассеянно и не к месту улыбалась и показывала фотографии каких-то совершенно неизвестных мне дальних родственников, живущих теперь в Баварии. Я приехала к ним на пятнадцать дней, но улетела через неделю. Сказала, что в Москве у меня срочная съемка. Не выдержала этого дикого сочетания острой жалости и мертвенной скуки. Теперь мне очень хотелось увидеть их…
Где-то минут за сорок до Кельна я наконец решилась. Я скрутила себе самокрутку, прошла в соседний вагон — для курящих, — выкурила ее там, скрутила еще одну, выкурила, вернулась в свой вагон, зашла в маленький опрятный сортир, закашлялась, сплюнула зеленую гадость в белоснежную раковину, а потом подняла голову и посмотрела на себя в зеркало.
Я еще ни разу не смотрелась в зеркало с тех пор, как увидела свое отражение там, в гостинице.
Я не закричала.
Я только подумала, что пора бы уже перестать думать о себе в первом лице. Думать о себе — «я». Потому что это не я.
В зеркале перед собой я увидела отталкивающего вида мужчину. Лет сорока. Очень грязного и уставшего. Его одутловатое, опухшее, с резкими чертами лицо покрывала многодневная черно-седая щетина. Маленькие темно-карие глазки, угнездившиеся по обе стороны переносицы, были больными и злыми. Нос шелушился. Кожа — довольно смуглая. Черные, жирные, проволочно-курчавые волосы с редкими вкраплениями седины сползали, извиваясь, по шее и скрывались за грязным воротником.
Скорее всего, он был полукровкой. Наполовину француз, наполовину араб.
Он разделся до пояса. Впалая волосатая грудь. Сморщенные лиловые соски-пуговки. Смуглый мешкообразный живот. Кривая дорожка коротких упругих завитков — от забитого грязью пупка до застежки на джинсах. И дальше, туда, вниз, вниз, туда, где уже не видно.
Он расстегнул ширинку, приспустил штаны и трусы и сразу почувствовал резкий кисло-соленый запах. Что-то вроде запаха завалявшегося на солнце козьего сыра и гнилых помидоров.
Под трусами обнаружился смятый комок черной кудрявой растительности, из которого торчал, точно гриб-моховик, толстый короткий член. Красная блестящая головка, покрытая слизью, вяло выглядывала из синюшных морщинистых складочек крайней плоти. И еще этот запах. Запах.
Кудэр снова натянул джинсы, надел футболку. Вымыл лицо, шею и руки с мылом.
* * *
…встал Гензель с постели и хотел пойти во двор, чтобы набрать камешков, как в прошлый раз. Но мачеха заперла дверь, и Гензель не смог выйти из хижины.
Рано утром мачеха разбудила их и дала им по куску хлеба. Пошли они в лес, а Гензель по дороге крошил хлеб в кармане, останавливался и бросал хлебные крошки на дорогу…
* * *
В одной из урн рядом с Кельнским собором обнаружились две банки, почти до половины заполненные пивом. Он выпил их, покопался в мусоре еще, но больше выпивки не было.
Он сел на ступеньки собора, положил лохматую голову на руки и затрясся всем телом. Наверное, кашлял. Или рыдал. Или и то, и другое сразу.
Через некоторое время Кудэр почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Он затих. Потом медленно поднял злое, мокрое лицо. Девочка лет пятнадцати, с маленькими металлическими колечками в бровях, носу и нижней губе, протягивала ему монетку. Один евро.
Он взял.
III. Детеныш
Наверху что-то заскрежетало, заискрившись, хлопнуло. Кто-то из детей вскрикнул, все стали задирать головы, тщетно пытаясь что-нибудь разглядеть. Мальчик не смотрел наверх. Он смотрел туда, на мертвеца, и на электрическую лампочку в его руках. На лампочку, которая вдруг зажглась — одновременно с этим хлопком наверху, — и мерцала теперь в бледных дрожащих руках, покачиваясь, наклоняясь, истекая ароматным воском…
Мальчик закрыл глаза. Что-то снова громыхнуло, противно затрещало сверху.
— А вдруг трос порвется и мы свалимся вниз? — прошептала ему на ухо кудрявая девочка. — Мне страшно.
Ее волосы легонько щекотали Мальчику щеку. Но ее запаха — фруктового шампуня и мятной жвачки — он уже не ощущал. Только запах этой дрожащей свечи, такой сильный, настырный запах… и очень знакомый… Вспомнил. В Пещере Ужасов теперь пахло точно так же, как в церкви. А чем пахнет в церкви? Воском, ладаном, что ли?.. Главное — не открывать глаза…
— Мне страшно, — настойчиво повторила девочка.
Он хотел придвинуться к ней поближе. Он хотел сказать ей: «Не бойся». Он хотел сказать: «Трос очень крепкий, он не может порваться». Но он не успел. Холодная, такая холодная, ледяная рука погладила его по лицу, потом больно сжала шею, вцепилась в него мертвой хваткой, мертвой…
Ловко, уверенно, беззвучно Мертвец выдернул Мальчика из хлипкого пластмассового кресла и быстро потащил за собой — вниз, вниз, вниз.
IV. Путешествие
Что он должен был им сказать? «Здравствуйте, мамочка и папочка»? «А вот и я»? «За последний год я сильно изменилась, но вы не обращайте внимания»?
Он позвонил. По ту сторону засуетились, удивленно зашаркали. Кто-то покорно поволочил тапочки к двери. Наконец шарканье стихло. Желтый дверной глазок напряженно почернел, заполнился недоверчивой темнотой человеческого зрачка.
Он громко сказал, глядя в эту черную точку:
— Добрый день. Я — друг вашей дочери, Маши. Я от Маши.
Неприятное отрывистое эхо разнеслось по лестничной клетке. Маши… Маши… аши…
С той стороны что-то царапнулось о стену, глухо звякнуло, и дверь приоткрылась настолько, насколько позволяла цепочка. Некоторое время отец молча изучал его через образовавшуюся щель. Потом отвернулся и неуверенно крикнул:
— Лиза, пойди сюда, тут какой-то человек…