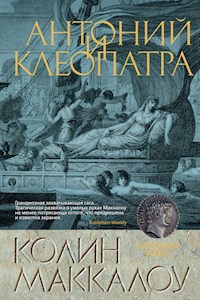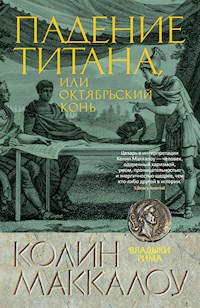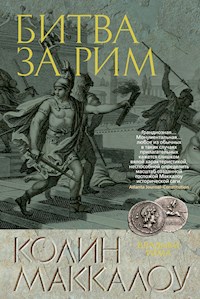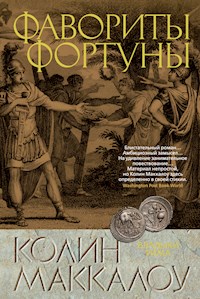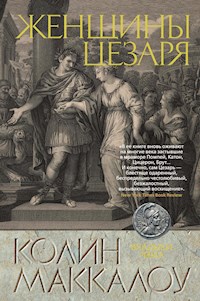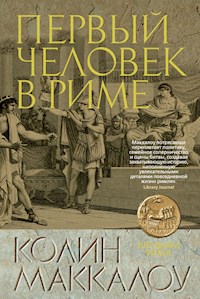4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
…Холод сковывает материк за материком, не хватает продуктов и топлива. Приняты суровые законы об экономии ресурсов и ограничении рождаемости... Как пережить это мрачное время, не ожесточиться и обрести надежду на лучшее? Решительная и амбициозная Джудит Кэрриол, близкая к кругу властей предержащих, находит того, кому предстоит стать новым мессией человечества, — Джошуа Кристиана, человека необыкновенно доброго, честного и искреннего. Его заветы просты: вера, надежда, любовь. А обаяние его личности таково, что люди готовы идти за ним куда угодно. Но сумеет ли он, Сын Человеческий Третьего тысячелетия, найти в себе мужество и силу не только исцелить миллионы страждущих душ, но и пройти свой крестный путь до конца?..
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Колин Маккалоу Евангелие любви
© Colleen McCullough, 1985
© Перевод. А.А. Соколов, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
I
Даже для января в Холломене, штат Коннектикут, ветер казался необыкновенно пронизывающим. Когда доктор Джошуа Кристиан свернул с Кедровой на улицу Вязов, порыв ветра со всей силой ударил навстречу – настоящий арктический вихрь с ледяными клыками и когтями. Он вгрызался в кожу и царапал ее там, где лицо пришлось оставить неприкрытым, чтобы видеть, куда идти. О, Кристиан знал, куда идет, и хотел одного – не видеть этой дороги.
Как все казалось непохоже на прежние времена, когда улица Вязов была главной в черном гетто. Гордые люди в ярких, пестрых одеждах, повсюду смех, из дверей вылетает ребятня на скейтбордах и роликах… Такие красивые детишки – ухоженные, искрящиеся весельем и всегда гурьбой, потому что улица – главное место, где можно играть и где происходят самые важные события.
Возможно, когда-нибудь в будущем Вашингтон и власти штата отыщут средства и решат, что делать с северными гетто, но пока находятся более важные приоритеты, чем сотня тысяч пустующих трехквартирных домов в тысяче северных городков и поселков. Поэтому гниют посеревшие от непогоды доски, которыми забиты окна и двери, лупится со стен серая краска, падает с крыш серая черепица, крошатся ступени, в сером сайдинге зияют широкие щели. Спасибо ветру – хотя бы он нарушал тишину. Гудел в проводах над головой, нудно, тоскливо подвывал в узких проломах, всхлипывал и снова набирал полный голос, что-то бормотал, шевеля замерзшие листья и сбивая в кучу пустые банки, а затем гулко ударял в порожний мусорный бак у давно закрытого винного магазина и бара на углу Кленовой улицы.
Доктор Джошуа Кристиан был местным – родился, вырос, учился и повзрослел в Холломене. Он не представлял, что можно жить где-нибудь еще, и никогда об этом не помышлял. Он любил это место. По-настоящему любил заброшенный, с выселенными жителями, никому не нужный город. Вопреки всему любил. Холломен был его домом. И каким-то невыразимым образом город слепил его таким, каким он стал, – вот почему он пережил здесь все последние стадии его гибели. И теперь брел по обескровленным руинам.
Серый свет дня и все вокруг серое. Серые ряды опустевших домов, серая кора на деревьях с облетевшими листьями, серое небо. Я потрудился над этим миром, и он будет серым. Цвет, лишенный цвета. Символ горя. Квинтэссенция опустошения. О Джошуа, даже в мыслях не надевай на себя серое!
Дальше было немного лучше. Он шел по улице Вязов, где иногда попадались обитаемые дома. В них неуловимо чувствовалось присутствие человека, хотя и брошенные жилища, и те, в которых еще оставались люди, выглядели одинаково. Оконные проемы забиты, как и выходящие на улицу двери, в щелях ни полоски света. Но ступени на крыльце выметены, трава примята и сайдинг из сверхтолстого алюминия выглядит новым.
Два дома доктора Кристиана были сразу за поворотом с улицы Вязов на Дубовую, неподалеку от большого перекрестка, где улица Вязов пересекалась с Семьдесят восьмой. Это примерно в двух милях он центрального городского почтамта, куда он этим серым днем ходил отправить письма и проверить свой почтовый ящик, поскольку почтальон больше не разносил корреспонденцию по домам.
Приближаясь с противоположной стороны к номерам 1045 и 1047 по Дубовой, главной городской артерии, названной так из-за восьмидесятилетних деревьев, чьи узловатые корни пронизали проезжую часть, доктор Джошуа машинально задержался и окинул взглядом свои владения. Отлично. Света не видно. Если бы свет пробивался наружу, это бы значило, что внутрь проникает воздух. Холодный воздух, который в доме совершенно не нужен. Вполне достаточно открыть и закрыть заднюю дверь и ведущую в неотапливаемый подвал бесполезную систему воздушного обогрева, чтобы проветрить, но в то же время не охладить помещение.
Два дома доктора Джошуа были такими же серыми, как почти все другие, и построены так же, как строили в конце двадцатого века – на три семьи. Но его два дома были связаны друг с другом на среднем уровне: их вторые этажи соединяла галерея. И их перестроили таким образом, чтобы они могли служить иным целям – в отличие от других трехквартирных жилищ. В 1045-м Джошуа принимал больных, а в 1047-м размещалась его семья.
Довольный, что все в порядке, доктор Джошуа, не потрудившись посмотреть по сторонам, перешел улицу. Машин в Холломене не было, а автобусные маршруты по Дубовой не проходили, и на всем пространстве улицы возвышались неровно смерзшиеся кучи снега высотой в три фута. Они лежали там, куда их набросали, когда чистили тротуары.
Вход в дома был со стороны двора. Доктор прошел под надземным переходом и повернул налево к номеру 1047. Никто из пациентов не записывался, и он не хотел испытывать судьбу и заходить в 1045-й. Небольшая терраска, которой оканчивалась задняя лестница, была давно забита досками, в нее вела крепкая дверь, отворявшаяся в сторону ступеней. Открыв ключом дверь, доктор Джошуа оказался в самодельном тамбуре, дающем такую необходимую защиту от сурового внешнего мира. Еще один ключ и еще одна дверь, которая вела в настоящий коридор. Там он снял отороченную мехом шапку, повесил на крюк пальто, поставил на полку ботинки и, сунув ноги в тапочки, вошел в третью дверь, которая, в отличие от двух прежних, была не заперта. Наконец он оказался у себя дома.
Кухня. Мама стоит у плиты – а где же ей еще быть? Учитывая особенности ее характера и род занятий, ей бы больше пристало быть эдакой ворчуньей – женщиной за шестьдесят с морщинистым лицом и толстыми лодыжками. Джошуа рассмеялся нелепости этой картины. Мать обернулась, улыбнулась и радостно протянула к нему руки:
– Что тебя так рассмешило, Джошуа?
– Просто играю.
Эта женщина была матерью нескольких психологов. И от того, что прекрасно знала это племя, временами казалась умнее и образованнее, чем была на самом деле. Как, например, сейчас, когда вместо того, чтобы удивиться: «Игра? Что еще за игра?», спросила: «Какая игра?».
Джошуа сел на угол кухонного стола, поджал ногу и копался в вазе с фруктами, которая всегда стояла на этом месте, пока не выудил из нее сладкое, крепкое яблоко.
– Я вообразил, – ответил он, хрустя яблоком, – вообразил, что твоя внешность соответствует твоей нелегкой жизни. – Он улыбнулся своим словам, шутливо щурясь. – Представил, что ты старая и некрасивая, отмеченная печатью тяжелого труда.
Она оценила шутку и улыбнулась. Лицо ее расцвело, а на шелковистых щеках – там, где румянец над скулами переходит в молочную бледность, появились ямочки. Не знавшие косметики алые губы приоткрылись, демонстрируя великолепные зубы, огромные близоруко-туманные голубые глаза светились под длинными черными ресницами живым здоровьем, в собранных в узел на затылке великолепных, золотистых, как спелая пшеница, волнистых, густых волосах не было видно ни пряди седины.
У Джошуа от удивления перехватило дыхание: он не переставал удивляться – ведь это же его мать – его мать! – и она самая красивая женщина из всех, которых ему доводилось видеть в жизни. Но сама она своей красоты не сознавала, нежно размышлял он. Удивительно, но в ней нет ни капли тщеславия. Хотя ему было тридцать два года, ей оставалось еще четыре месяца до сорок восьмого дня рождения. Она вышла замуж очень рано: до безумия влюбилась в его отца, который был намного старше, и специально устроила так, чтобы забеременеть не хотела, чтобы его терзали сомнения, можно ли жениться на столь юной красавице. Джошуа радовала мысль, что его отец не устоял перед соблазном обольщения.
Сам Джошуа помнил отца смутно – тот умер, когда ему едва исполнилось четыре года, и теперь он не мог с уверенностью сказать, были ли это его собственные воспоминания или отражение того, что он слышал от матери. Если, как говорят, он был копией отца, то вот уж бедняге не повезло. Что в отце было такого, чтобы в него влюбилась мать? Очень высокий, худой мужчина с черными волосами, карими глазами, землистой кожей, словно сдавленным к центру лицом и большим, узким, похожим на орлиный клюв носом.
Джошуа опомнился, почувствовав на себе любящий взгляд матери. Ее любовь была простой и чистой. Настолько ничем незапятнанной, что он не ощущал ее как бремя, а принимал без страха и чувства вины.
– Где все? – спросил он, подходя к плите, чтобы матери было удобнее с ним разговаривать.
– Еще не вернулись из клиники.
– Тебе в самом деле надо переложить некоторые домашние обязанност на девочек.
– В этом нет никакой необходимости. – Эта тема постоянно возникала в их разговорах. – У них хватает забот в сорок пятом.
– Дом слишком велик, чтобы управляться в нем одной.
– Трудно управляться, Джошуа, когда есть дети, а здесь детей нет. – В ее голосе послышалась нотка печали, но вместе с тем в нем не было никакого упрека. Она сделала над собой усилие и, взбодрившись, весело продолжала: – Во всяком случае, не приходится вытирать пыль. Это, наверное, единственное преимущество нынешней зимы. Пыль просто не способна проникнуть в дом.
– Я рад, мама, что ты видишь во всем положительную сторону.
– Хорошим бы я была примером для твоих пациентов, если бы ныла и жаловалась. Когда-нибудь Джеймс и Эндрю заведут детей, и вот тогда я опять окажусь в своей стихии – ведь их матери будут нужны в сорок пятом. В конце концов, я одна из всех обладаю материнским опытом – принадлежу к прошлому счастливому поколению, когда можно было заводить столько детей, сколько хотелось. А мне хотелось – о! – десятки. За четыре года родила четверых и рожала бы еще, если бы твой отец не умер. Мне было даровано это счастье, и я никогда о нем не забываю.
Джошуа так и подмывало сказать: «Мама, какая же ты была эгоистка! Вы с отцом воспроизвели себя дважды в то время, как многие родители в Америке заводили по одному ребенку и все больше людей задавалось вопросом, нужны ли дети вообще. Теперь четверо твоих отпрысков должны расплачиваться за вашу безответственность. Вот что нас на самом деле гнетет. А не холод. Не отсутствие удобств и возможности уединиться, когда мы куда-то едем. И даже не строгие ограничения, так противные американской натуре. Дети. Вернее, то, что их нет.
Запищал вызов внутренней связи. Мать Джошуа ответила на вызов, некоторое время слушала, затем, поблагодарив, положила трубку.
– Джеймс просит, чтобы ты пришел к ним, если свободен. Там миссис Фейн, она привела с собой еще одну пат-патку.
Доктор Джошуа решил, что, прежде чем встретиться с Патти Фейн и ее пат-паткой, ему следует переговорить с братом, и, чтобы миновать приемную, поднялся на один этаж и перешел в соседний дом по галерее. Джеймс встретил его в конце коридора со стороны сорок пятого.
– Только не говори, что у нее срыв, все равно не поверю. – Они направились в глубь среднего этажа, где находился кабинет доктора Джошуа.
– Она прекрасно держится, – ответил брат.
– Тогда в чем проблема?
– Я приведу ее наверх – пусть лучше расскажет сама.
Доктор Кристиан встретил Джеймса и миссис Патти сидя, но не за огромным столом, занимавшим весь угол комнаты, а на своем любимом бугристом диване.
– Что случилось? – спросил он безо всяких предисловий.
– Катастрофа. – Миссис Фейн устроилась на другом конце дивана.
– В каком смысле?
– Началось все нормально. Девочки обрадовались, что я вернулась после четырехмесячного отсутствия. Их поразило, что я работаю с гобеленами. Милли Тринг, скажу я вам, просто онемела – не могла переварить новость, что я зарабатываю деньги, помогая реставраторам древних вещей.
– То есть причиной катастрофы стали вы?
– Нет, нет. Как я уже упоминала, все шло прекрасно даже тогда, когда я им сказала, что к срыву меня подтолкнуло письмо Бюро второго ребенка, в котором меня информировали, что в лотерее мне не повезло.
Джошуа пристально на нее посмотрел, но не уловил признаков страдания от такого горького разочарования. Хорошо. Очень даже хорошо!
– Вы признались, что пришли ко мне лечиться?
– Конечно. И как только эта новость всплыла, Сильвия Стрингман тут же вылезла со своими комментариями. Вы шарлатан, потому что самый великий в мире психиатр Мэтт Стрингман утверждает, что вы шарлатан. Наверное, я влюбилась, иначе бы видела вас насквозь. Честно вам скажу, доктор, не знаю, кто из них худшее зло: Сильвия или ее муженек.
Джошуа сдержал улыбку и продолжал внимательно наблюдать за пациенткой. В этот день состоялось ее первое настоящее испытание: она впервые после срыва почувствовала себя достаточно сильной, чтобы пойти на собрание пат-паток.
Она была избрана старейшиной их сообщества, если можно так назвать семь женщин примерно одного возраста. Все они получили при крещении имя Патриция и дружили с тех пор, как судьба соединила их в одном классе холломенской школы. В результате все так слилось и перепуталось, что только старшей по возрасту Патти Фейн (или Патти Дрю, как ее звали в девичестве) разрешалось сохранить уменьшительное имя от «Патриции». Хотя пат-патки отличались по характеру, внешности и этнической принадлежности, имена спаяли их в такой конгломерат, который ничто не могло разъединить. Все они поступили в Суортморский колледж, затем удачно вышли замуж за известных преподавателей или сотрудников Чаббского университета. Время шло, а они продолжали раз в месяц встречаться в доме одной из них. Их дружба была настолько крепка, что ее не могли поколебать ни мужья, ни дети, которые воспринимались сообществом как вспомогательные силы.
Патти Фейн (или, как доктор Джошуа Кристиан мысленно ее называл, пат-патка номер один) стала его пациенткой месяца три назад. Ее охватила жесточайшая депрессия после того, как она узнала о своей неудаче в отделе лотерей Бюро второго ребенка. Ей выпал синий шар. Катастрофа усугублялась тем, что ей шел тридцать четвертый год и она лишалась права состоять в списках матерей на рождение второго чада. К счастью, пробившись сквозь симптомы срыва, психиатр сумел увидеть в ней сердечную, здравомыслящую женщину, поддающуюся доводам рассудка, и направить ход ее мыслей в более положительное русло. Как случалось с большинством его пациентов, ее горести были не выдуманными, а реальными. Такие беды лечатся убеждением и укреплением душевных сил.
– Господи, я же открыла ящик Пандоры, когда сообщила им, отчего у меня нервный срыв! – продолжала миссис Патти Фейн. – Не понимаю, почему женщины скрывают, что подают в Бюро заявление на разрешение родить второго ребенка! Любая из пат-паток ежегодно пишет такую бумагу. Но разве хоть одна признается? Ни за что! И вот что удивительно: почему ни одной из нас так и не выпал красный шар?
– В этом как раз ничего удивительного нет, – мягко ответил доктор Кристиан. – Шансы в лотерее Бюро второго ребенка десять тысяч к одному, а вас, насколько мне известно, всего семь.
– Мы все обеспечены и с тех пор, как вышли замуж и родили первого ребенка, проходим проверку имущественного положения и медицинские осмотры. Плюс долгие годы попыток.
– Тем не менее шансы против вас.
– Были до сегодняшнего дня. – Патти Фейн слегка помрачнела. – Когда вошла Марг Келли, я заметила, что она страшно довольна собой. Но все главным образом интересовались, что приключилось со мной, как я себя чувствую, удивлялись моему душевному состоянию – этому новому согласию с собой и стойкости… – Патти улыбнулась и с теплой, искренней благодарностью посмотрела на доктора Кристиана. – Если бы я тогда не подслушала во Фриндли, как две женщины говорили о вас, не знаю, что бы с собой сделала.
– Вы упомянули Марг Келли, – напомнил Джошуа.
– Ей выпал красный шар.
Он вся понял. Он мог бы рассказать Патти, что за этим последовало, но только кивнул, поощряя пациентку изложить свою версию случившегося.
– Боже! Кто бы поверил, что женщина способна настолько быстро измениться! Мы сидели за столом, пили кофе и вели те же разговоры, что и много лет подряд, и вдруг Синтия Каваллери бросила взгляд на Марг и спросила, отчего она радуется, словно кошка, которая добралась до сметаны. Та ответила, что получила из Бюро письмо с разрешением завести второго ребенка. Она достала из сумочки стопку бумаг – каждая страничка, судя по всему, была нотариально заверена и скреплена большой официальной печатью. Думаю, Бюро приходится соблюдать осторожность, чтобы исключить подделку разрешений…
Патти Фейн замолчала и представила себе сцену, разыгравшуюся в гостиной Синтии Каваллери. Поежилась, избавляясь от воспоминаний.
– Все замерли. В комнате и без того было холодно. Но тут, готова поклясться, температура в долю секунды упала ниже ноля. Затем со стула вскочила Дафна Чорник. Никогда не видела, чтобы она двигалась с таким проворством. Только что сидела и вот стоит рядом с беднягой Марг и вырывает из ее рук документы. Ничего подобного я от Дафны не слышала. Она всегда была среди нас эдаким недоразумением – я имею в виду ее походы в церковь и призывы к добрым поступкам и делам. Приходилось следить за своим языком, если она была рядом. Теперь же она рвала в клочья бумаги Бюро и при этом обвиняла Натана Келли, что он все подстроил через Вашингтон, поскольку сам он президент Чабба, а его предки приплыли в Америку на «Мейфлауэр». Потом заявила, что разрешение должно было достаться ей – ведь она воспитает второго ребенка, как свою первую Стаси, в страхе Божьем и любви к Всевышнему, а у Марг и Натана вырастет безбожник. Сказала, мы живем как грешники и нечестивцы, не чтим законов Божьих и наша страна не имела права подписывать Делийский договор, а она не понимает, как Господь попустил, чтобы его духовные наставники поддержали эту сделку. Тут из нее посыпалась такая грязная брань – я даже не могла представить, что ей известны подобные слова. Обзывала Гуса Рома, папу Бенедикта, преподобного Ливона Нокса Блэка.
– Интересно, – проговорил доктор Кристиан, почувствовав, что пациентка ждет его реакции.
– Затем вскочила Кэнди Феллоуз и накинулась на Дафну: кто дал ей право критиковать Гуса Рома, величайшего президента всех времен? Кричала, что презирает лицемеров, которые по воскресеньям распевают гимны, мусоля пальцем Библию, и, ползая по полу, протирают колени, но стоит им выйти из церкви, гнобят ближних, чтобы заработать лишний доллар или подняться на ступеньку вверх. Я уж подумала, что Дафна и Кэнди выцарапают друг другу глаза.
– Выцарапали?
– Нет! – Патти Фейн гордо распрямилась. – Я их остановила. Можете представить, доктор? Усадила их на стулья и заявила, что они ведут себя, как малые дети, что мне стыдно называться пат-паткой. Вот тут-то все и выплыло на свет: оказывается, каждая из нас ежегодно подавала заявление в Бюро второго ребенка. Я спросила их, что в этом такого постыдного и что такого постыдного, что им всегда отказывали? Спросила, какое они имели право вымещать свое разочарование на бедной Марг? Или на Августа Роме и религиозных лидерах. Сказала, чтобы они раз и навсегда выбросили из головы, что кто-то способен манипулировать Бюро. Напомнила, что сама Джулия Рис не может получить разрешения на рождение второго ребенка. Почему бы нам не порадоваться за Марг? А Марг успокоила, сказала, чтобы она не плакала, и попросила разрешения стать крестной ее ребенку.
Последние слова Патти произнесла с нескрываемым торжеством и сидела с таким видом, словно удивлялась, насколько сама довольна собой и своей проявленной во время размолвки твердостью.
– Вы вели себя великолепно, – похвалил ее доктор Кристиан. – И теперь у вас больше нет необходимости меня посещать. – Он говорил уверенно и с явной гордостью.
«Насколько этот человек выше всех остальных, – думала о нем Патти Фейн. – Сегодня я даже не пыталась объяснить пат-паткам, что он для меня сделал. Всякий раз, как только начинала говорить, выходило как-то не так. Бесполезно! Он заботлив. Вот что, наверное, важнее всего прочувствовать в человеке. Это невозможно увидеть, рассказать, объяснить тем, кто смотрит на него со стороны. Это надо открыть для себя. И почему психиатры вроде Мэтта Стрингмана считают неправильным, если врач советует больным опереться на Бога? Считают самих себя богами? Или им не нравятся мысли доктора Кристиана о Всевышнем?»
– Я привела с собой Марг Келли, – сказала она вслух.
– Зачем?
– Решила, что ей необходимо побеседовать – требуется хороший разговор, но не со стариной Натаном, упаси Боже, а с кем-то, кто увидит ее проблему со стороны. Сегодня она испытала страшное потрясение. Не думаю, что она вообще представляла, каковы могут быть последствия рождения второго ребенка. Ей, наверное, казалось, что мы все будем без ума от счастья за нее.
– В таком случае, Патти, она живет, зарывшись головой в песок.
– Так и есть. В этом ее главная проблема. Она жена президента Чабба. Живет в большом доме, имеет слуг, у них постоянно в распоряжении машина, на прошлой неделе она обедала в Белом доме, за неделю до этого – в особняке Грейси[1]. Все ее контакты с внешним миром происходят только через пат-паток, а мы, хоть и не в ее весовой финансовой категории, гораздо лучше остального мира. Поэтому я решила: Марг должна с вами поговорить – это может ей помочь.
Джошуа подался вперед:
– Патти, вы способны дать откровенный ответ на каверзный вопрос?
От серьезного тона психиатра ее эйфория поубавилась.
– Постараюсь.
– Если бы Марг Келли спросила у вас, должна ли она продолжить свою затею и зачать второго ребенка, на которого получила разрешение, что бы вы ей сказали?
Этот вопрос причинил ей боль, но время, когда Патти сидела в своей комнате, уставясь в стену, и размышляла, как бы вернее себя убить, осталось позади. И что самое важное, те дни больше никогда не вернутся.
– Я бы посоветовала ей рожать.
– Почему?
– Она хорошая мать Гомеру, и ее мир достаточно изолирован, чтобы в нем не накапливалось слишком много злобы.
– Допустим. А что, если бы на месте Марг оказалась Дафна Чорник?
Патти нахмурилась:
– Не знаю. Мне казалось, что Дафна была для меня открытой книгой, но сегодняшний день стал откровением. Поэтому я просто не могу дать вам ответ.
Джошуа кивнул:
– А что, если бы счастливицей оказались вы сами? Что бы вы решили после того, как перенесли срыв и стали свидетельницей сегодняшней реакции пат-паток?
– Знаете, мне кажется, я могла бы себе сказать: порви-ка ты эти бумаги. У меня все неплохо в жизни – хороший муж, сын прекрасно успевает в школе. И если честно, не представляю, как бы я перенесла ситуацию. Вокруг много людей вроде Дафны Чорник.
Психиатр вздохнул:
– Отведите меня к Маргарет.
– Но она уже здесь.
– Я имею в виду: пойдемте со мной в приемную и познакомьте меня с вашей подругой. Она знает вас, но не знает меня. Поэтому не может доверять мне, как доверяете вы. Станьте мостиком к нашему знакомству и доверию.
Мост оказался очень коротким. Взяв Патти за руку, Джошуа спустился в приемную и направился к поникшей в углу на стуле бледной красивой женщине.
– Дорогая, это доктор Кристиан, – представила его Патти Фейн.
Джошуа ничего не сказал, только протянул Марг Келли руки. Она машинально вложила свои руки в его и лишь после этого удивилась, что физическое прикосновение стало свершившимся фактом.
– Дорогая, – улыбнулся ей психиатр, – вам нет надобности ни с кем разговаривать. Возвращайтесь домой и заводите ребенка.
Марг поднялась, улыбнулась и ответила быстрым крепким пожатием:
– Хорошо.
– Вот и славно.
Джошуа выпустил ее руки и тут же ушел.
Патти Фейн и Марг Келли вышли через заднюю дверь и направились по улице Вязов к пересечению с Семьдесят восьмой, где ходили автобусы и трамваи. Автобус северного городского маршрута уже ушел, и им пришлось минут пять подождать – зимой интервалы свыше пяти минут были редкостью.
– Какой удивительный человек, – начала Марг Келли, когда они спрятались под защитой трехметровой стены из слежавшегося снега.
– Почувствовала? Ты в самом деле почувствовала?
– Словно удар электрического тока.
Покончив с делами в сорок седьмом, доктор Кристиан вернулся на кухню и разговаривал у плиты с матерью, когда вошли два его брата с женами и сестра.
Сестра Мэри по возрасту была ему ближе других. В тридцать один год все еще старая дева, она была похожа на мать, но при этом некрасива. Какой-то в ней изъян, подумал Джошуа. Всегда была с червоточинкой. Может быть, оттого, что рядом с ней такая красивая мать? Если посмотреть на маму, а затем перевести взгляд на Мэри, кажется, что видишь мать в слегка искривленном зеркале. В девушке ощущалась какая-то обманка, словно яйцо-болтун. Так было раньше и, наверное, останется навсегда. Но к больным (Мэри была в их клинике секретарем) она относилась с чуткостью и удивительной добротой, и ничто не могло вывести ее из равновесия.
Средним ребенком считался Джеймс – Мэри была единственной дочкой, и то, что она родилась девочкой, как бы освобождало ее от порядкового номера. Джеймс тоже был похож на мать, но, как и Мэри, казался каким-то невзрачным, неярким, невыразительным. Его рослая и бойкая жена Мириам отличалась здоровым энтузиазмом, из нее ключом била энергия и веселый жизненный прагматизм. Квалифицированный трудотерапевт, она, по всеобщему мнению, была опорой клиники и хорошей парой для Джеймса.
А вот Эндрю получился настоящим красавчиком – в младшем сыне воплотилось все лучшее, что было в матери. Он был ее копией, только в мужском обличье: прекрасный, как ангел, и твердый, как скала. Его жена Марта, техник отдела психологического тестирования клиники, была на семь лет моложе его и такой серой мышкой, что к ней прилипло прозвище Мышь. Мышиной масти, очень миленькая, робкая и нервная, как мышонок. Иногда на Джошуа накатывало странное настроение, и он воображал себя – нет, не кошкой – а огромной парой рук, которые вот-вот хлопнут в ладони, чтобы оглушенная до полусмерти девушка застыла на месте.
– Бараньи ножки, мама? Это просто супер! – Мириам была англичанкой и отличалась изысканностью речи и манер. В семье Кристиан она вызывала некоторый трепет не только тем, что была врачом с мировой славой, но и своими лингвистическими способностями. Она говорила по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-русски и по-гречески. Но любимым ее трюком стало изображать американцев. Однако в семье ее настолько любили и ценили, что никто не решался сказать, что ее шутка уже никого не веселит.
Все это, конечно, заслуга мамы. Это она создала эффективное, самодостаточное сообщество, которое стало опорой ее первенцу – самому любимому сыну. Джошуа понимал: какое бы занятие он ни выбрал в жизни, мама направила бы по такому же пути Джеймса, Эндрю и Мэри, чтобы они ему помогали. Промывка мозгов младших сыновей была настолько успешной, что сказалась даже на их выборе жен. Они взяли в супруги женщин достаточно образованных, чтобы те могли поддержать семейное дело и стать членами команды. Клинике не хватало врача-трудотерапевта, и Джеймс женился на специалисте нужного профиля. Требовался ассистент психологического тестирования – им стала жена Эндрю. Обе женщины согласились играть вторые роли после свекрови и не возмущались тем, что их мужья также довольствуются вторыми ролями, уступив первенство Джошуа. Мэри тоже никогда не роптала, что ей приходится выполнять черновую работу – даже после того, как Джошуа как-то предложил ей устроить против матери бунт.
Заметь он признаки недовольства, ему пришлось бы жестко обойтись с матерью – ради тех, кого он считал скорее своими детьми, чем братьями и сестрами. Он знал недостатки матери: ей не хватало мудрости и дара предвидения. Но семья победила его без единого сражения: не было ни трений, ни раздоров, способных омрачить всеобщую неподдельную радость от работы и общения друг с другом. И смущенный, но благодарный Джошуа согласился с положением, которое отвела ему мать – главы семьи и руководителя семейного предприятия.
Они сели есть в гостиной – мама в конце овального лакированного стола и, соответственно, ближе всех к двери на кухню. Джошуа – во главе, откуда обозревал ее, Мэри, Джеймса и Мириам по одну сторону и Эндрю с Мартой – по другую. Мать давно установила правило: никаких деловых разговоров до того, как не съедено главное блюдо и не подан кофе с коньяком. Это правило скрупулезно соблюдалось, но в результате за столом возникали продолжительные паузы – ведь, за исключением матери, все работали рядом, буквально за стеной, и кроме этих двух домов – тысяча сорок пятого и сорок седьмого по Дубовой улице – больше почти ничего не видели. Позитивное отношение к жизни стало ключевым кодом их настроя, и поэтому почти всегда исключались любые споры на тему внешне– и внутриполитических событий, а также происшествий в городе. Новости были слишком депрессивными, если только не удавалось одолеть какую-нибудь веху на пути к гармонизации мировой энергетики человечества. Такое событие всегда встречалось радостными возгласами.
Кристианы ели с аппетитом – все, что стояло на столе, было очень вкусным. Мама была настоящим художником на кухне и изо всех сил стремилась угодить своему выводку. В этом смысле труднее всего ей приходилось с Джошуа. Старший сын разочаровывал своим безразличием к физическим потребностям, не говоря уже об удобствах и капризах. Нет, он не был ни мазохистом, ни монахом, просто не слишком обращал на это внимание.
Кофе и коньяк подали в гостиной – соседствующей со столовой просторной комнате, куда вел красивый широкий арочный проход. Они расположились вокруг бледно-розового лакированного стола, откуда можно было лучше всего оценить, что представляет собой первый этаж дома десять сорок семь по Дубовой улице.
Стены были атласно-белыми, без признаков оконных проемов, скрытых плотно пригнанными друг к другу древесными плитами, умело втиснутыми между обоев, словно крышки люков. Обналичка снята и больше не напоминала о том, что невидимо находилось внутри шесть месяцев в году. Пол из пластикокерамических плиток в том месте, где сидели люди, был покрыт белыми синтетическими ковриками, имитирующими овчину. Все соглашались, что настоящие шкуры были бы красивее, но при том, сколько воды расплескивалось здесь по воскресеньям, они быстро бы загнили. Розовые и бледно-зеленые чехлы на диванах и стульях отражались в лакированной поверхности столиков тех же цветов.
Повсюду были растения – в горшках, кадушках, корзинах – буйные, сочные растения, в основном зеленые, но также розовые, красные, бордовые. Они стояли на белых подставках разной высоты, свешивались вниз пенными каскадами, торчали вверх как штыки, деликатно простирали вокруг себя ветви. Каждый лист, отросток, былинка, цветик и усик переливались под струящимся сквозь плексигласовый потолок сияющим белым светом. Пальмы, папоротники, бромелиады, протеи, орхидеи, кустики, лоза, ползучие, луковичные, клубнелуковичные, растения со стелющимися корнями, карликовые деревья. Весной большинство растений буйно расцветали – длинные шипы цимбидиев перемежались с веретенцами гиацинтов, соцветиями нарциссов, двадцатью сортами украсившейся лепестками бегонии, цикламенами, глоксиниями, африканскими фиалками. Мимоза в кадке опушалась золотистыми шариками на всю трехметровую высоту ветвей. Дом наполнялся ароматом цветущих апельсиновых деревьев, лобулярии, стефанотиса, жасмина и гардении. Летом распускался гибискус и цвел всю осень до начала зимы. К нему присоединялась медно-розовая бугенвиллея, ползущая по решетке на стене гостиной. Цветение прекращалось лишь в разгар зимы, но листья оставались блестящими и зелеными на фоне разнообразных оттенков листвы нецветущих растений и, казалось, им больше не требовалось ничего иного.
В воздухе постоянно ощущался сладковатый аромат. Сад доктора Кристиана был составляющей дыхательного симбиоза, где второй составляющей был человек. Одни питались углекислотой, другие кислородом, и каждая сторона вдыхала то, что выдыхала другая. На первом этаже было всегда теплее, чем там, где размещались спальни – растения согревали атмосферу, как и на первый взгляд холодное, никогда не выключавшееся освещение. Этот этаж съедал почти всю драгоценную норму потребления электричества и всю крохотную норму потребления газа на отопление, который припасали на холодные периоды – только так можно было сохранить сад. На этом этаже семья проводила все часы бодрствования, а наверх поднимались только для сна.
Воскресенья посвящались уходу за растениями: их поливали, подкармливали, замазывали раны, избавляли от сухих веток и вредителей. Все искренне радовались смене обстановки и, видя вокруг результаты своего труда, не считали его обременительным. По воскресеньям же сюда возвращали те стойкие растения, которые провели неделю в соседнем доме, в клинике, а их место на временном дежурстве занимали другие.
Сегодня был самый нелюбимый для Джошуа день, потому что полагалось заполнять многочисленные формуляры, чтобы потом отправлять в Холломен, Хартфорд, Вашингтон. Бумаги, бумаги, все больше бумаг – приходилось удовлетворять все возрастающий аппетит чиновников. В этот день следовало расплатиться по счетам и привести в порядок документы. Обычно в День Искупления, как он его называл, доктор Джошуа в клинику не ходил, но сегодня удачно завершил кризис пат-паток, и он хотел выслушать, что о нем думают собравшиеся в гостиной.
Мать поставила перед ним чашку кофе, Джеймс передал бутылку бренди. Джошуа был равнодушен к еде, даже к той, что готовила мать. Но сейчас, закрыв глаза и вдыхая аромат «Наполеона», он подумал, что хороший кофе с коньяком способен прогреть человека от пупка до самой макушки. В нынешние времена это самая лучшая прелюдия к отходу ко сну, и, видимо, поэтому дижестив стал привычкой, а от аперитива постепенно отказались. Их прадед и дед с отцовской стороны были поставщиками французских вин и коньяков и большими любителями этих напитков. При них в подвале накопилась впечатляющая коллекция спиртного. Вина, конечно, пропали: в подвале не могли поддерживать необходимую постоянную температуру, а для вин пагубно и когда слишком холодно, и когда слишком жарко. Но коньяк сохранился. И хотя ледник надвигался на Канаду, Россию и Скандинавию с угрожающей быстротой, Франция все еще умудрялась производить коньяк, и коллекция Кристианов пополнялась. Вино теперь мало пили в семье, однако коньяк ценили высоко.
– Наша пат-патка Патти была на высоте, – сказал Джошуа.
– Еще на какой! – с гордостью подхватила Мириам.
– Я ее выписал из клиники.
– Правильно. Она тебе не сообщила, что они с мужем собираются подать заявление на переселение? Боба Фейна давно зовут в Техасский сельскохозяйственный и машинный колледж, но он прилип к Чаббу. Они никак не решались на это по вполне обывательским причинам: только крысы бегут с тонущего корабля, их пугал страх неизвестности. К тому же считается, что кто начинал в Чаббе, навсегда останется чаббцем: янки не доверяют ни одной области, кроме Новой Англии. И еще Патти страшилась стать первой пат-паткой, которая покинет Холломен и расколет компанию. – Эндрю произнес все это спокойным, размеренным тоном, совершенно не вязавшимся с его юной привлекательной внешностью.
– Пат-патки меня поражают, – заговорил Джеймс. – Редко, когда узы дружбы в группе женщин превалируют даже над их семейными узами. Слава богу, что одна из них сумела достаточно отстраниться и оценить, что собой представляет их компания. Переезд навсегда – это верный способ освобождения. Удивляюсь, что до сих пор никто из мужей не подумал, что переезд может решить проблему пат-паток.
– Переезд – решительный шаг, – веско заметила Мэри. – Не могу никого осуждать за то, что они колеблются. Прибавьте к этому, что все они чаббцы, связаны контрактами, привыкли к своей работе.
Доктор Кристиан не позволил увести себя от темы и ответил не им, а младшему брату:
– Нет, Дрю, она мне не говорила, что они подали заявление на переезд. Рад за нее – давно пора поставить нужды и интересы семьи выше своих отношений с пат-патками. Она признается, что ей страшно стать первой, кто разрушит их компанию?
– Да. Честно и открыто. Но за нее теперь нечего беспокоиться. Известие о том, что Маргарет Келли получила разрешение родить второго ребенка, сорвало кое с кого маски. Это помогло Патти решиться: она поняла, что лига пат-паток должна была естественно распасться после колледжа, если не после школы.
– Они всего лишь пытались продлить юность, – заявила Мэри. – В наше время быть взрослым не слишком приятно.
– Мне искренне нравится Патти Фейн, – внесла неожиданную лепту в разговор Марта.
Доктор Кристиан подался вперед и улыбнулся, глядя в ее большие серые глаза, приковывая к себе ее взгляд. Он с детства обладал способностью навязывать свою волю другим и заставлять ничего не подозревающих людей неотрывно смотреть на себя.
– А тебе, Мышонок, разве не нравятся все наши пациенты? – В его голосе прозвучал упрек.
Не в силах сопротивляться, Марта виновато покраснела.
– О да! Разумеется! – выдохнула она.
– Перестань дразнить Мышонка, Джош, – упрекнула брата Мэри, всегда готовая встать на защиту Марты.
– Надо же, – не переставал удивляться Джеймс, – ни одна из этих псевдосестер не признавалась другим, что каждый год подает заявление на разрешение родить второго ребенка. Это только лишний раз доказывает, насколько женщины скрытничают, если речь идет об их отношениях с Бюро.
– Да, Джеймс, стоит вспомнить о мизерных шансах на успех и о процедуре проверки нуждаемости, и Бюро начинает казаться воплощением вины.
Доктор Кристиан развил бы тему – не в первый раз, – но не успел: опередила мать, поспешившая высказать, что наболело у нее на душе. Ее связь с клиникой не ограничивалась выслушиванием вечерних разговоров. Доктор Джошуа приводил сюда на экскурсию пациентов – хотел, чтобы они увидели, во что можно превратить помещение, которое долгими зимними месяцами лишено естественного света, почти не отапливается и не проветривается.
– Это Бюро просто отвратительно. – Мать едва сдерживала слезы. – Разве эти бессердечные мужики из Вашингтона знают, что нужно женщинам?
– Мама, мама, почему ты упорно твердишь одно и то же? – раздраженно спросил Кристиан. – Должна знать, это их работа. И почему обязательно мужики? А если даже мужчины, разве мужчинам легче, чем женщинам, терпеть навязываемую бездетность? Разве пациенты моей клиники только женщины? Соотношение мужчин и женщин пятьдесят на пятьдесят. Бунтовать против судьбы – это не решение. Бюро второго ребенка – это подачка, которую нам бросили в обмен на то, что мы, не сопротивляясь, подписали Делийский договор, и, по-моему, самое худшее, что мы получили в этом жалком, унизительном десятилетии. Ты должна все помнить гораздо лучше меня – я был тогда ребенком, а ты взрослой женщиной.
– Август Ром нас предал. – Она стиснула зубы.
– О, мама! Мы сами себя предали. Послушать, что говорят люди твоего поколения, так все случилось, словно гром среди ясного неба. Ничего подобного! Мы пожинаем то, что было посеяно Гусом Ромом и Делийским договором. Девяносто лет назад наше население достигло ста пятидесяти миллионов человек, мы были на пике мощи и гордости. У нас было все. И как мы поступили? Мы расшвыривались деньгами так, словно это были вышедшие из моды вещи, а мир нас за это ненавидел. Предлагали людям на земле вести такой образ жизни, на какой у них не было ни средств, ни таланта, и они нас за это невзлюбили. Держали наши технологии на самом высоком уровне, и это тоже возмущало остальных. Вели войны за границей во имя свободы и справедливости, и за это нас тоже ненавидели – даже те, за кого мы сражались. Не скажу, что эти войны были всегда альтруистическими, но наши бездельники в это верили. И пока мы продолжали обманывать себя вышедшим из употребления образом мыслей – о войне и об альтруизме, – в то же время сделали все, чтобы перестать бороться за свою веру, чернили прошлое, сделали из религии посмешище, загоняли людей в цифровые дебри.
Джошуа понесло, и диван стал ему тесен. Он вскочил, неловко и все-таки с изяществом разминая свои длинные руки и ноги, и стал прохаживаться по помещению, вовсе для этого не предназначенному. И когда он проходил мимо, трепетали листья растений, дребезжали горшки, раскачивались подставки, а родные неподвижно слушали, завороженные его громовым голосом и блеском глаз. Сестра, оробев и стыдясь за себя, застыла, жены братьев внимали с восхищением, сами братья не находили сил возразить, а мать – ах! – мать смотрела на него, не в силах скрыть торжество. Когда ум и страсть в сыне прорывались одновременно и он начинал говорить, совершалось волшебство – он буквально гальванизировал слушателей. Даже в этом узком кругу близких, кто выслушивал его годами, он обладал властью приковывать к себе внимание.
– Не помню рассвета третьего тысячелетия, поскольку родился на его рубеже. Но что оно нам принесло? Были такие, кто пел хвалу Создателю, готовясь умереть в отсветах второго пришествия, другие распевали осанну технологическому совершенствованию вселенной. Но что мы получили на самом деле? Боль. Беспомощность. Упадок. Вот она, реальность! Она непереносимее всего, что случилось на нашей планете со времен Черной смерти. Земля быстро остывает, Бог знает почему. Кроме него это, похоже, не дано понять никому. Самое правдоподобное объяснение, которое предлагают лучшие умы планеты, – наступила мини-ледниковая эпоха. О, они рассуждают о морских течениях и атмосферных слоях, континентальных плитах и перемене магнитных полюсов, влиянии магнитных солнечных полей и углах земной оси, но все это только слова. Словоблудие – только словоблудие. Нас уверяют, что через несколько десятилетий – а может быть, столетий – наберется столько данных, что мы получим ответ: что и почему. А пока все в руках Божьих. Нас уверяют, что такое состояние долго не продлится, речь идет о тысячелетии или двух – пылинка в глазу вечности. Но то, что творится вокруг, переживет и нас, и многие последующие поколения. Подходящая для жизни территория быстро сокращается. Пригодная для питья вода все больше ограничивается запасами, хранящимися в полярных льдах, а мировое население все еще слишком велико. Мы пленники нового тысячелетия и, как бы ни старались, не можем изменить ситуацию.
Джошуа прервался секунд на десять, и, хотя он специально не рассчитывал паузу, она получилась именно такой, чтобы произвести наибольший эффект. А когда он продолжил, голос его стал глуше и тише, и эта смена настроения еще больше приковала внимание слушателей:
– Не то чтобы мы, американцы, были слишком встревожены. Знали, что мы самый развитой народ на земле и сумеем справиться. Считали, что пояса придется затянуть, но не больше, чем на пару дырочек. Но при этом забыли об остальном мире. А остальной мир сплотился против нас. Восстал, как стена. Позволить Соединенным Штатам расти и приумножать население в то время, как все главные страны были вынуждены принять программы его сокращения? Никогда! Предлагалось такое соглашение: в каждом государстве на четыре поколения вперед семьи только с одним ребенком, а в перспективе – с двумя детьми. Мы выступили против, но оказались в одиночестве. И в решающий момент обнаружили, что не можем противостоять объединившемуся против нас миру. Такую войну мы бы не выиграли даже на пике мощи, и надо посмотреть правде в глаза, в то время мы были уже не так сильны. Растранжирили многое из того, что до этого имели, и главное – дух и несгибаемость людей. Иссушили умы наркотиками, сердца – совокуплением без любви, души – всяким хламом.
Когда границы Евросоюза соединились с границами Арабосоюза, не оставалось ничего иного, как сесть за стол переговоров в Дели.
В голосе Джошуа зазвенели печальные нотки, все, что было в нем взрывного, исчезло. И не вернулось бы, если бы так пожелала мать – женщина, безошибочно знающая, как подхлестнуть сына.
– Никогда не соглашусь, что дилемма была такова: либо подписывать договор, либо погибать, – возразила она. – Старик Гус Ром продал нас за Нобелевскую премию мира.
– Мама, ты типичный представитель своего поколения. Почему ты не хочешь признать, что вам нанесли удар по самолюбию, вас унизили, вы потеряли лицо? Так было, было, было! Зато моему поколению выпало все собирать по кусочкам и свято хранить то, чем Америка была в прошлом и что поможет ей возродиться в будущем. Пострадала твоя гордость. А у меня гордости нет. Зачем же мне ломать голову, правильно ли поступил Гус Ром, подписав Делийский договор и не втянув нас в войну, которую мы не могли выиграть? Мне это совершенно ни к чему!
Мозг Джошуа готов был взорваться и вырваться из черепа. «Спокойней, спокойней, Кристиан!» Он сжал лицо прохладными ладонями и, раскачиваясь, потирал его до тех пор, пока не перестали бугриться под кожей на висках вены. Тогда, уронив руки, он снова принялся расхаживать по комнате, но не так порывисто, а его темные глаза сверкали в провалах глазниц.
Внезапно Джошуа остановился и повернулся ко все еще завороженным его словами родным.
– Почему это должен быть я?
Ему никто не ответил, и он сам не нашел ответа на свой вопрос. Этот вопрос он начал задавать совсем недавно – в последние недели, – и родные все еще не могли понять, что он имеет в виду. Но замечали, что с каждым вечером он все более отходит от абстрактного и сосредотачивается на личном.
– Почему же я? – вопрошал он. – Я живу в Холломене, но разве Холломен – это центр мироздания? Нет! Холломен такая же жалкая старая индустриальная дыра, как тысяча других, из которых сыплется песок и им одно место – в общей могиле, где их зароет бульдозер будущего и на их месте вырастут леса. Нам твердят, что у нас есть еще несколько столетий, прежде чем ледник сметет деревья с лица земли. Довольно времени для лесов. Но когда-то – ах это когда-то! – Холломен производил рубашки, давал миру ученых, выпускал пишущие машинки, оружие, скальпели и струнную проволоку. Поощрял знания, укрывал одеждой тела, распространял идеи, не чурался преступлений, боролся с раком, давал простор музыке. Холломен – средоточие всего, что достиг человек на рубеже третьего тысячелетия. И поэтому, не исключено, город подходит для того, чтобы был избран один из его жителей.
Никто не знал, что на это ответить, но трое все же попытались.
– Мы с тобой, Джош, – тихо проговорил Джеймс.
– На все сто, – добавил Эндрю.
– И да смилостивится над нами Господь, – заключила Мэри.
– Иногда мне кажется, что он вовсе не человек, – пробормотала Мириам, стуча зубами. Готовясь лечь в постель, она сняла с себя один за другим несколько слоев одежды и натянула теплый комбинезон.
Джеймс уже лежал в кровати, согревая ноги о бутылки с горячей водой.
– О, Мири, ты знаешь его много лет и можешь так говорить? Джошуа самый человечный из всех людей, кого я только встречал.
– Но уж как-то не по-человечески, – не отступала Мириам. А затем спокойно добавила: – Он изменился к худшему. Этой зимой в нем произошли перемены. И теперь он напрямую спрашивает, почему это должен быть он.
– Нисколько не к худшему, наоборот, становится лучше, – сонно возразил муж. – Мама утверждает, что он вступает в самую силу.
– Не знаю, кто меня больше пугает: Джошуа или мама. Поэтому повторю за Мэри: «Да сжалится над нами Господь!». Джимми, малыш, где ты? Обними меня, я так замерзла.
Мышка Марта пробралась на кухню, опасаясь, что может встретить там все еще властвующую мать. Она каждый вечер терпеливо ждала, пока не убеждалась, что та сложила скипетр и царственно поднялась по лестнице, и тогда совершала набег на кухню, где готовила горячий шоколад, который любил пить, забравшись в постель, Эндрю.
Сначала она решила, что тень на стене принадлежит свекрови, и ее сердце бешено заколотилось, затем замерло и куда-то провалилось.
Но тень оказалась Мэри, а сама она стояла у плиты с кастрюлькой молока.
– Не уходи, малышка, – нежно проговорила Мэри. – Побудь со мной, и я приготовлю тебе шоколад.
– Нет, нет, не беспокойся, я сама все сделаю – правда.
– Какое может быть беспокойство, если я все равно делаю для себя? А Дрю неплохо бы для разнообразия спускаться сюда самому. Пусть подождет, ему на пользу. Ты, Мышка, совершенно его избаловала, как и мать.
– Нет, нет, я сама вызвалась, правда!
– Послушай, дорогая, почему ты всегда такая напуганная? – Мэри улыбнулась булькающей кастрюльке, добавила шоколадного порошка, помешала шоколад и, выключив газ, продемонстрировала, что предвидела приход Марты и приготовила напитка не на одну, а на три кружки. – Ты такая прелесть. – Она поставила две кружки на маленький поднос. – Слишком для нас хороша. Тем более для Эндрю. А наш Джошуа в итоге сотрет тебя в порошок.
При упоминании волшебного имени маленькое, кроткое личико осветилось.
– О, Мэри, разве он не великолепен?
Как только эта восторженная похвала прозвучала, все воодушевление Мэри улетучилось.
– Да, конечно, он именно такой.
Тон, которым это было сказано, не ускользнул от Марты, и ее лицо затуманилось.
– Я часто задаю себе вопрос… – Она оробела и замолчала.
– Какой?
– Ты что, не любишь Джошуа?
Мэри вздрогнула и посуровела:
– Я его ненавижу.
Мать волновалась: этой зимой Джошуа стал другим. Более живым, увлеченным, уверенным в себе. Более мистическим. Зрелым. Должно быть, все дело в зрелости. Ему тридцать два года – он почти достиг возраста, когда мужчина или женщина сплетают последние нити, связывающие мозг и руки в единое целое. Джошуа, как и его отец, поздний цветок. «О, Джо, почему ты умер? Ты, наконец, стал самим собой и был готов на большие дела. Но как это характерно для тебя: тебе не хватило здравого смысла завернуть в придорожное кафе, чтобы не замерзнуть в пути».
Только с Джошуа подобного не случится. Потому что в нем было больше, чем в его отце. И взял он это не только от него, но и от нее, в чем было его огромное преимущество. И она еще достаточно молода, чтобы служить ему поддержкой. Впереди у нее еще годы и годы труда. А также не израсходованная сила духа.
Со своей постелью она управлялась не менее умело, чем с остальным домом. Самое первое дело – грелка с горячей водой, она заливала ее крутым кипятком, и пусть говорят, что пробка может потечь, она заворачивала ее как можно крепче, а затем продевала в петлю ручку от ложки и делала еще пол-оборота. Заворачивала грелки в толстое полотенце, в два слоя, и между кожей и обжигающей резиной получалась махровая прослойка, а для верности детские булавки скрепляли ткань. Грелка укладывалась ближе к изголовью, где находились плечи, и накрывалась подушкой, на которую натягивалось одеяло. Через пять минут грелка перемещалась ниже, а подушка оставалась на месте; и так каждые пять минут до тех пор, пока не оказывалась там, где будут находиться ноги. В этот момент она снимала шерстяную кофту, свитер, юбку, нижнюю юбку (брюки она терпеть не могла и носила только тогда, когда выходила из дома), майку, длинные шерстяные рейтузы, колготки и бюстгальтер и со сноровкой угря – в этом движении не было ничего от женщины среднего возраста – проскальзывала в ночную рубашку, которую надевала наперекор холоду. Байковый комбинезон она бы ни за что не надела – ужасная вещь, – так же как и теплые панталоны. Хотя даже самой себе она не хотела признаться, что просто теперь в холодную погоду ей все чаще требовалось в туалет. А ночной комбинезон можно запачкать, возясь с застежками.
Последней задачей было откинуть одеяло ровно настолько, чтобы юркнуть в постель и одновременно повернуть подушку теплой стороной вверх. И оказавшись в кровати, греться, греться, греться. Самая большая роскошь дня – соприкоснуться с осязаемым теплом. Она бездумно лежит на вершине блаженства, ощущая, как тепло просачивается сквозь кожу и проникает в плоть и кости, и при этом радуется, как девчонка, впервые попробовавшая мороженое. Затем одетой в вязаный носок ногой медленно подтягивает грелку вверх, пока она не оказывается у груди, лучистое тепло согревает тело, и она обнимает грелку до самого утра. Однако и проснувшись, находит ей применение: умывается чуть теплой водой.
Да, Джошуа наконец входит в силу; ее старший сын – великий человек. В тот самый момент, когда она почувствовала, что зачала его, поняла, что, сколько бы ни родила еще детей, он ее единственный. И поэтому подчинила и свою жизнь, и жизнь его братьев и сестры единственной цели – помочь ему осуществить свое предназначение.
После смерти Джо ей стало трудно. И не потому, что не хватало денег: у семьи мужа были деньги, и она получила свою долю. Но теперь ей пришлось играть роль и матери, и отца. Однако в итоге все разрешилось, и большая часть отцовских забот исчезла, когда она почти сразу переложила роль главы семьи на Джошуа. А тот, благодаря этому, быстро развивался, ощутив себя не мальчиком, а мужчиной. Ее первенец не отказывался от ответственности. И не жаловался на судьбу.
На втором этаже (который он делил с матерью и сестрой, предоставив верхний женатым братьям) Джошуа Кристиан готовился лечь в постель. Мать оставляла на кровати грелку с горячей водой, но он, забираясь под одеяло, равнодушный к теплу в ногах, сбрасывал ее на пол, хотя в тридцатиградусный мороз, просыпаясь, обнаруживал, что волосы примерзли к ткани подушки. Он надевал теплый комбинезон и носки ручной вязки, но к ночному колпаку так и не привык и спал настолько беспокойно, что матери пришлось соорудить из простыней что-то вроде спального мешка, ýже и теснее тех коконов с начесом, в которых спала их семья и вся остальная Америка.
Надо же было кому-то все объяснить – этим заблудшим, напуганным людям в новом трусливом мире. Если вам не дано растить детей, выращивайте зимой в горшках цветы, а летом овощи, находите занятие для рук и тренируйте мозги. И если бог вашей веры больше не соответствует вашему пониманию мира, найдите в себе силы отыскать собственного бога. Не тратьте время на горе. Не ругайте центральное правительство, у которого не было выбора, помните, что этот выбор был вынужденным. Вы можете выжить, а вместе с вами выживет вся Америка, если привьете детям будущего этику и мечту, им пригодную. Не желайте того, что матери и бабушки имели в достатке, а прабабушки в избытке. Один ребенок несказанно лучше, чем ни одного. На сто процентов лучше, чем никакого. В нем одном любовь, в нем одном красота. Один совершенный стоит сотни генетически ущербных. Один, один, один…
II
Снег потихоньку сыпал, но не настолько сильно, чтобы дороги стали скользкими и это помешало бы автобусному сообщению. Температура колебалась выше ноля – на улицу выходить не страшно.
Закутанная в меха доктор Джудит Кэрриол сидела в середине неотапливаемого автобуса. В мехах было жарко, но они служили защитой от мужчины, который крепко прижимался к ее бедру. Приближалась ее остановка. Она протянула руку, чтобы дернуть за шнурок звонка, и поднялась, собираясь дать незнакомцу решительный бой. Но тот не собирался так просто ее пропускать: его рука оказалась под ее меховым подолом, в то время как сам он невинно смотрел вперед. Автобус начал притормаживать. Джудит наткнулась ногой на его ногу и что было сил наступила высоким каблуком на носок его ботинка. Надо отдать мужчине должное: он оказался терпелив и не закричал, только отдернул ступню и отстранился сам. Она обернулась в проходе и насмешливо взглянула на него. Автобус, скрипя тормозами, подъезжал к остановке, и она пошла между сиденьями к выходу.
Ох уж эти автобусы! В них остаешься один на один с такими неприятными типами. Если в пустой салон входит мужчина и садится рядом с единственной пассажиркой, женщина немедленно понимает, что неприятная поездка – это самое малое, что ей предстоит. Жаловаться водителю бесполезно – шоферы предпочитают не замечать таких вещей.
Подозревая, что мужчина в последний момент выскочит из автобуса, Джудит, не двигаясь, с воинственным видом стояла на тротуаре, пока машина, скрипнув негнущейся гармошкой в середине салона, не отъехала от остановки. Незнакомец следил за ней сквозь грязное стекло, и она насмешливо махнула ему рукой. Все, безопасность!
Министерство окружающей среды занимало целый квартал. Автобус высадил Джудит на Норт-Капитол-стрит неподалеку от Эйч-стрит. Однако вход, которым она постоянно пользовалась, находился на Кей-стрит. Следовательно, чтобы добраться туда, требовалось пройти по Норт-Капитол-стрит мимо главного подъезда и повернуть на Кей-стрит.
У главного входа собралась небольшая толпа. Люди увлеченно разглядывали что-то, что лежало в середине, и не обратили на нее внимания – высокую, модную, элегантную. Джудит только покосилась на них, едва отметив про себя, что службе безопасности придется иметь дело с очередным самоубийством. Такие показные акты часто совершались поблизости от министерства окружающей среды: в затуманенном сознании несчастных оно и было виновником всех бед – так пусть тут видят, до чего довели людей. У доктора Кэрриол не было ни малейшего желания разбираться, как окончил жизнь этот человек: перерезал себе горло или вены, отравился ядом или наркотиками, пустил себе пулю в лоб или придумал что-то новое. Ее работа – а ее поручил ей сам президент – состояла в том, чтобы выяснять причины, почему люди приходят к этому приземистому, массивному зданию с целью положить предел своему существованию.
Там, где Джудит входила в министерство, не было многочисленных охранников в форме с множеством телефонов. Кодовый замок ее двери отпирался по голосовой команде – ежедневно меняющейся условленной фразой, которую сочинял один шутник на самом верху. Лично министр окружающей среды Гарольд Магнус. Больше нечем заняться, недовольно думала Джудит, хоть и понимала, что относится к нему с предубеждением. Как все сколько-нибудь значимые служащие их заведения, она считала их титулованного главу бременем на шее министерства. Он был не карьерным чиновником, а политическим назначенцем – пришел с новым президентом и предсказуемо менялся от состояния новой метлы к истрепанному венику – хотя до этого ему еще предстояло доработать. Но пока он неплохо тянул по одной причине: обладал здравым смыслом, чтобы не мешать профессионалам заниматься своим делом и не вставлять им палки в колеса.
– В глубь беспросветного моря, – проговорила Джудит в спрятанный в стене микрофон.
Замок щелкнул, и дверь отворилась. Идиотизм. Полная чушь. Ни один человек в мире не сумеет подделать ее голос так, чтобы этого не заметил электронный анализатор. Так какого дьявола менять пароль? Джудит было неприятно ощущать, что она марионетка, дергающаяся по малейшей прихоти Гарольда. Но именно поэтому он и настаивал на своем.
Министерство окружающей среды образовалось во второй половине прошлого столетия путем слияния более мелких учреждений, таких как министерство энергетики. Оно стало детищем наиболее выдающегося президента США Августа Рома, который так ловко управлялся с народом и обеими палатами, что четыре раза подряд получал мандат на руководство страной. Он возглавлял США в наиболее неприятные моменты истории: когда британцы вступили в Евросоюз, в период бескровных переворотов левого толка, после которых вся Азия оказалась под коммунистическим зонтиком, во время подписания Делийского договора и всего того, что затем последовало внутри страны. Были такие, кто утверждал, что он продал народ. Другие заявляли, что благодаря его действиям страна смогла сплотиться и сохранить влияние хотя бы в западном полушарии. В последние двадцать лет все государства в этом полушарии от полюса до полюса тянулись к Штатам, хотя злые языки говорили, что у них просто не было иного выхода. Нынешнее здание министерства было построено в 2012 году, после чего в него переехали разбросанные по всему городу службы. Оно стало самым большим из всех федеральных учреждений, и лишь в нем одном умели как следует сохранять энергию. Избыток тепла из набитого компьютерами подвала поступал в вентиляционную систему, которая стала предметом зависти других министерств, где, как ни бились, не могли приспособить не рассчитанные к такому обогреву старые здания.
Помещения министерства покрасили в белый цвет, дававший возможность снизить уровень освещения. Низкие потолки экономили пространство и тепло. Совершенная акустика уменьшала вероятность возникновения связанных с шумом неврозов, скучный интерьер напоминал работникам, что они в серьезном учреждении.
Четвертая секция занимала весь этаж по Кей-стрит, и здесь же находились службы самого министра. Джудит легко поднялась на семь пролетов холодной лестницы, миновала множество коридоров и оказалась у еще одной управляемой голосом двери.
– В глубь беспросветного моря.
Сезам открылся. Когда Джудит переступила порог, работа в Четвертой секции, как обычно, кипела. Сама доктор Кэрриол предпочитала заниматься делами по вечерам и редко появлялась до ленча. Ее приветствовали уважительно, но без панибратства. И это было понятно: Джудит не только занимала высокий пост в министерстве, она также возглавляла Четвертую секцию, а Четвертая секция являлась мозговым центром министерства. Таким образом, доктор Кэрриол считалась чрезвычайно влиятельной женщиной.
Ее личный секретарь, притча во языцех в министерстве, носил до нелепости неподходящее имя Джон Уэйн. Пять футов два дюйма ростом при весе восемьдесят фунтов, он был близорук и по причине половой неразвитости говорил фальцетом и не имел на подбородке растительности. Дни, когда его ужасно тяготило доставшееся ему имя, остались далеко позади, он давно перестал роптать на судьбу, которая распорядилась так, что настоящий Джон Уэйн пережил всех своих кинематографических современников и превратился в культовую фигуру. Этот Джон Уэйн жил работой и был фантастическим секретарем, хотя собственно секретарские обязанности выполнял редко – для этого имел собственный штат.
Он проводил доктора Кэрриол в кабинет и терпеливо ждал, пока та снимет с себя соболей, купленных в момент ее последнего повышения, но еще до того, как она перестала покупать одежду и начала копить на дом. Под мехами оказалось простое черное платье, без драгоценностей или каких-либо других украшений, но в нем она выглядела завораживающе. Не симпатичной. Не красивой. Не привлекательной в обычном смысле слова. Эта женщина излучала изысканную утонченность, спокойное изящество и казалась такой абсолютной недотрогой, что ее имя никак бы не могло появиться в министерском реестре сексапильных красоток. Следствием ее репутации недотроги было то, что она встречалась – впрочем, достаточно редко – только с чрезвычайно успешными мужчинами, чрезвычайно практичными и чрезвычайно уверенными в себе. Свои слегка волнистые черные волосы она носила наподобие Уоллис Уорфилд Симпсон[2] – на прямой пробор, забрав на затылке в мягкий узел. Большие глаза с тяжелыми веками отливали необычной тусклой зеленью, крупный рот, алые красивой формы губы, кожа матово-бледная без единого намека на румянец, такая непроницаемая, что не просвечивали даже прожилки. Пикантная бледность в сочетании с черными волосами, бровями и ресницами удачно выделяла Джудит среди других, это ей было прекрасно известно, и она этим пользовалась. Вытянутые, худые, бледные кисти рук с длинными, закругляющимися к кончикам пальцами, ногти короткие, не покрытые лаком. И эти пальцы шевелились, как ножки паука. Ее фигура с удлиненным торсом, узкобедрая и плоскогрудая, удивляла змеиной верткостью и неожиданной подвижностью, отчего министерские остряки и прозвали ее Змеей. Или, по крайней мере, отговаривались этим, когда их спрашивали, откуда взялось такое прозвище.
– На сегодня все сохраняется, Джон?
– Да, мэм.
– В оговоренное время?
– Да, мэм. В четыре часа в конференц-зале.
– Отлично. Хотя не исключаю, что он все переиграет в последнюю минуту, чтобы доказать, что он главнее.
– Он этого не сделает, мэм. Дело слишком важное, и босс держит его под контролем.
Джулия села за стол, развернула на пол-оборота вращающееся кресло и расстегнула молнию на черных лайковых сапогах. Она поменяла их на такие же черные туфли, тоже на высоких каблуках, которые ждали ее рядышком на дне просторного ящика стола. Доктор Кэрриол была сама аккуратность и деловитость.
– Кофе?
– М-м-м… Чертовски удачная мысль! Есть что-нибудь новое, что мне нужно узнать до совещания?
– Полагаю, что нет. Мистер Магнус хочет сначала переговорить с вами, но этого следовало ожидать. Вы должны быть очень довольны, что операция поиска наконец завершилась.
– Чрезвычайно довольна. Хотя не могу сказать, что работа была неинтересной. Пять лет труда! Джон, когда вы перешли ко мне из Госдепа?
– Постойте-ка… полтора года назад.
– Мы потратили бы меньше времени, если бы вы были у меня с самого начала. Отыскать вас было все равно что наткнуться на самородок посреди минного поля государственного департамента.
Секретарь слегка зарделся и, неловко наклонив голову, поспешил выскользнуть за дверь.
Джудит подняла зеленую трубку со стоящей на столе бежевой панели многоканальной связи:
– Говорит доктор Кэрриол. Миссис Тавернер, будьте добры, соедините меня с министром.
Ее соединили без всяких возражений – едва хватило времени дотянуться до кнопки телефонного шифровального устройства.
– Доктор Кэрриол, мистер Магнус на проводе.
– Я собираюсь к вам на совещание. – Голос прозвучал занудно, даже раздражительно.
– Господин министр, мои исследовательские группы и их руководители все еще под впечатлением, что Операция поиска – это чисто теоретическое занятие. Я хочу, чтобы они оставались в этом заблуждении, по крайней мере до того момента, пока им не станет очевидно, какие результаты получены прямо у них под носом. А до этого у нас есть еще несколько месяцев. Но если сегодня вы появитесь лично, люди могут почуять, что в деле попахивает здоровенной крысой, и заподозрить подвох. – Она задохнулась от собственной оговорки по Фрейду. Глупая, глупая Джудит.
Гарольд Магнус был не из тех, до кого долго доходил смысл сказанного. Но теперь его мысли крутились вокруг того, что ему отказывают в приглашении на совещание.
– Вы просто боитесь, что я порушу вашу аккуратно сложенную горку яблок на тележке и до того, как вы укажете мне нужное, выберу не то яблоко.
– Чепуха!
– Ха! Остается надеяться, что вторая фаза операции займет меньше времени, чем первая. Я бы хотел еще сидеть в этом кресле, чтобы познакомиться с результатами.
– Чтобы сметать стог сена, потребуется больше времени, чем чтобы нагрузить тележку яблок, мистер Магнус.
Он подавил смешок.
– Держите меня в курсе.
– Разумеется, господин министр, – любезно ответила Джудит и, улыбнувшись, положила трубку.
Но когда Джон Уэйн вернулся с кофе, она сидела, прикусив губу, и задумчиво смотрела на зеленый телефон.