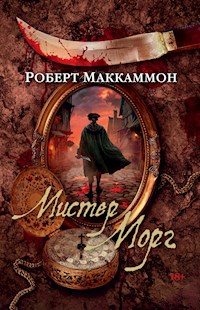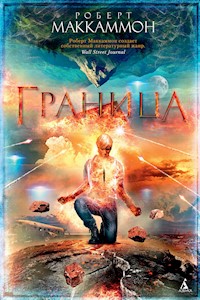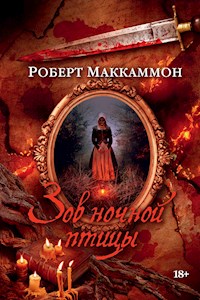Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Big Book
- Sprache: Russisch
Странные дела творятся в Лос-Анджелесе. Странные и страшные. В городе действует маньяк и серийный убийца, помечающий свои жертвы тем, что запихивает им в рот черных тараканов. Кто-то разрывает могилы на Голливудском мемориальном кладбище и крадет оттуда гробы. Священник, разыскивая пропавшую девушку из числа своих прихожан, обнаруживает дом, наполненный завернутыми в простыни человеческими телами. В их венах нет ни капли крови, пульс отсутствует, но время от времени они бьются в конвульсиях и словно бы оживают. Капитан полиции Энди Палатазин безуспешно пытается отыскать виновника — виновников? — всех этих преступлений и, только когда видит картину с дергающимися телами, начинает догадываться, какое жуткое настоящее ждет Лос-Анджелес в самые ближайшие дни. Роман Маккаммона «Они жаждут» входит в известную обзорную антологию «Хоррор: 100 лучших книг» (Horror: 100 Best Books) — один из главных рейтингов мировой литературы в жанре хоррор, — наряду с произведениями классиков с мировыми именами, такими как Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Шарлотта Бронте, и не менее знаменитых авторов современности — Джона Фаулза, Рэя Брэдбери, Стивена Кинга. Роман публикуется в новом переводе. Сборник дополнен рассказом «Кровь победит Голливуд», впервые переведенным на русский.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 935
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert R. McCammonTHEY THIRSTCopyright © 1981 by Robert R. McCammonBLOOD IS THICKER THAN HOLLYWOODCopyright © 2020 by McCammon CorporationAll rights reserved
Публикуется с разрешения автора и его литературных агентов, Donald Maass Literary Agency (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия).
Перевод с английского Сергея Удалина
Оформление обложки Ильи Кучмы
Маккаммон Р.Они жаждут ; Кровь победит Голливуд : роман, рассказ / Роберт Маккаммон ; пер. с англ. С. Удалина. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — (The Big Book).
ISBN 978-5-389-21819-2
16+
Странные дела творятся в Лос-Анджелесе. Странные и страшные.
В городе действует маньяк и серийный убийца, помечающий свои жертвы тем, что запихивает им в рот черных тараканов.
Кто-то разрывает могилы на Голливудском мемориальном кладбище и крадет оттуда гробы.
Священник, разыскивая пропавшую девушку из числа своих прихожан, обнаруживает дом, наполненный завернутыми в простыни человеческими телами. В их венах нет ни капли крови, пульс отсутствует, но время от времени они бьются в конвульсиях и словно бы оживают.
Капитан полиции Энди Палатазин безуспешно пытается отыскать виновника — виновников? — всех этих преступлений и, только когда видит картину с дергающимися телами, начинает догадываться, какое жуткое настоящее ждет Лос-Анджелес в самые ближайшие дни.
Роман Маккаммона «Они жаждут» входит в известную обзорную антологию «Хоррор: 100 лучших книг» (Horror: 100 Best Books) — один из главных рейтингов мировой литературы в жанре хоррор, — наряду с произведениями классиков с мировыми именами, такими как Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Шарлотта Бронте, и не менее знаменитых авторов современности — Джона Фаулза, Рэя Брэдбери, Стивена Кинга.
Роман публикуется в новом переводе.
Сборник дополнен рассказом «Кровь победит Голливуд», впервые переведенным на русский.
© С. Б. Удалин, перевод, 2022© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022Издательство АЗБУКА®
Онижаждут
Салли, без чьей поддержки я не смог бы осуществить задуманное
Я хотел бы выразить признательность людям, которые помогли мне собрать материал для этой книги: доктору медицины У. Б. Макдональду, доктору медицины Джеймсу Р. Флетчеру, комендор-сержанту Морской пехоты США Ларри Року, капитану Морской полиции США Полу Т. Тейлору; сержанту полиции Уильяму Ладлоу, Раду Флореску и Рэймонду Т. Макнелли за то, что хранят легенды, а также Майку и Элизабет.
Р. М.
Было за полночь в Топанге,
И сказал диджей:
«Полнолуние сегодня.
Кто со мной в Эл-Эй?»
Уоррен Зивон
Я убью за любовь.
Я убью за любовь.
Господом Богом поклясться готов,
Я убью за любовь.
Рори Блэк
Тени скачут по стене,
Полоса за полосой,
И сливаются в густой
Безысходности теней.
Огастес Джулиан Рекьер
ПРОЛОГ
В пламени печи плясали демоны.
Они кружились, извивались и плевались в глаза мальчику, который сидел у самого огня, машинально подогнув под себя ноги, как обычно делают очень гибкие дети. Он подпер руками подбородок и молча смотрел, как языки пламени сходятся, сливаются и распадаются на части, с шипением раскрывая свои тайны. Мальчику всего шесть дней назад исполнилось девять лет, но, поскольку отец еще не пришел домой, он ощущал себя совсем взрослым, а огненные демоны смеялись над ним.
— Останешься за старшего до моего возвращения, — сказал отец, наматывая веревку на свою медвежью лапу. — Позаботься о матери и о том, чтобы все было в порядке, пока мы с твоим дядей будем далеко. Ты меня понял?
— Да, папа.
— Приноси ей дрова, когда она попросит, и аккуратно складывай у стены, чтобы просохли. И вообще делай все, что она скажет, хорошо?
— Сделаю.
Мальчик все еще видел морщинистое, обветренное лицо отца, нависшее над ним, чувствовал твердокаменную руку на своем плече. Тяжелая отцовская хватка словно бы передавала его безмолвный наказ: «Я иду на серьезное дело, сынок. Не обольщайся насчет этого. Присматривай за матерью и сам будь осторожен».
Уверившись, что мальчик все правильно понял, отец удовлетворенно кивнул.
Следующим утром мальчик сидел у кухонного окна и смотрел, как дядя Йожеф запрягает двух сивых коней в семейный фургон. Родители отошли в дальний конец комнаты, к запертой на засов двери. Отец надел шерстяную шапку и тяжелый овчинный полушубок, которую жена сшила ему на Рождество много лет назад. Потом забросил на плечо моток веревки. Мальчик уныло ковырялся в миске с мясным бульоном и прислушивался к разговору родителей, хотя и понимал, что они нарочно говорят шепотом, чтобы он ничего не услышал. А даже если и услышит, то все равно ничего не разберет.
«Так нечестно, — подумал он, запуская пальцы в бульон и выуживая оттуда кусок говядины. — Раз уж я остаюсь за старшего, то должен знать и все тайны».
Внезапно мама перестала следить за своим голосом.
— Прошу тебя, пусть этим займется кто-то другой!
Но отец приподнял ее подбородок и посмотрел в серые, как то утро, глаза.
— Я должен все сделать сам, — сказал он, и вид у мамы стал такой, как будто она очень хотела заплакать, но никак не получалось.
Все свои слезы она выплакала прошлой ночью, лежа на пуховой перине в соседней комнате. Мальчик всю ночь напролет слушал ее рыдания. Эти тяжкие часы словно разбили его сердце; и сколько бы времени ни прошло по другую сторону сумерек, его уже не излечишь.
— Нет, нет, нет, — повторяла мама опять и опять, как будто это было волшебное слово, которое не позволит отцу выйти на залитый солнцем заснеженный двор, как будто оно могло превратить деревянную дверь в каменную стену, способную удержать отца внутри дома, а все его тайны — снаружи.
Когда мама затихла, отец взял двустволку с ружейной стойки у двери. Открыл казенник, зарядил оба ствола и аккуратно поставил ружье на место. Потом обнял маму, поцеловал и сказал:
— Я люблю тебя.
Мама прильнула к нему, словно вторая кожа, но тут дядя Йожеф постучал в дверь и крикнул:
— Все готово, Эмиль! Пора ехать!
Отец на мгновение задержал маму в объятиях, потом взял купленную в Будапеште винтовку и открыл дверь. Он остановился на пороге, и снежинки запорхали вокруг него.
— Андре! — позвал он мальчика, и тот вскинул голову. — Позаботься о матери и проследи, чтобы дверь всегда была заперта на засов. Ты меня понял?
— Да, папа.
Уже в дверях, стоя на фоне выцветшего неба и багряных зубцов далеких гор, отец бросил взгляд на жену и тихо произнес всего три слова. Почти неразличимых, но мальчик сумел уловить их, и сердце его забилось от смутного беспокойства.
— Отслеживай мою тень, — сказал отец.
Он вышел из дома, и ноябрьский ветер занял его место. Мама стояла на пороге, ее волосы засыпа́ло снегом, отчего она словно бы старела с каждой минутой. Она не отрывала глаз от фургона, а двое мужчин гнали коней по мощеной дороге, торопясь встретиться с остальными. Стояла долго, с изможденным лицом на фоне обманчиво-белой чистоты мира за дверью. Когда громыхающий фургон скрылся из виду, она вернулась в дом и заперла дверь на засов. Подняла глаза на сына и проговорила с улыбкой, больше похожей на гримасу боли:
— А теперь садись за уроки.
Прошло три дня после отъезда отца. И вот теперь демоны со смехом плясали в огне, а в доме поселилось какое-то ужасное, неосязаемое существо. Оно то занимало пустующий стул возле печи, то усаживалось между мальчиком и женщиной за ужином, преследуя их повсюду, словно туча черного пепла, поднятого странствующим ветром.
В углах обеих комнат становилось все холодней, запас дров постепенно уменьшался, и было заметно, как призрачный туман вырывается из ноздрей матери при каждом выдохе.
— Я возьму топор и наколю дров, — сказал мальчик, поднимаясь со стула.
— Нет!
Мать мгновенно вскинула голову, их серые глаза встретились и не расходились несколько секунд.
— Переночуем с тем, что у нас есть. Сейчас слишком темно, подожди, пока рассветет.
— Но этого же не хватит...
— Я сказала: «Подожди до утра!»
Она почти сразу отвела взгляд, как будто устыдившись чего-то. В отблесках пламени сверкали вязальные спицы, а из-под них постепенно появлялся свитер для мальчика. Он сел на место и увидел ружье в дальнем углу комнаты. Двустволка тускло светилась красным огнем, словно чей-то глаз в темноте. Вдруг огонь вспыхнул, взвился и затрещал, поднявшийся пепел закрутился в дымоходе и вылетел наружу. Жар волнами окатывал скулы и переносицу мальчика, а его мать качалась в кресле у него за спиной, время от времени поглядывая на профиль своего сына.
Причудливые картины сплетались в пламени, образуя живую фреску: мальчик увидел черную повозку, которую везли две белые лошади с траурными плюмажами, увидел облака пара от их дыхания. В повозке лежал незатейливый маленький гроб. Следом шли мужчины и женщины в черной одежде, кого-то сотрясали рыдания, кто-то всхлипывал. Сапоги хрустели по снегу. Приглушенные звуки. Печать тайны на лицах. Пугливо-прищуренные взгляды в сторону багряно-серой горы Джегер. В этом гробу лежал маленький Гриска, и траурная процессия везла то, что от него осталось, на кладбище, где уже поджидал лелкес1.
Смерть. Она всегда казалась мальчику чем-то холодным, чуждым и далеким, не принадлежавшим ни его миру, ни миру отца с матерью, а скорее тому, в котором жила бабушка Эльза, когда стала совсем больной, с пожелтевшей кожей. Тогда отец и произнес это слово: «умирает». В ее комнате нужно было вести себя тихо, потому что она не могла больше петь тебе и хотела теперь только одного — спать. Смерть казалась мальчику временем, когда умолкают все песни и ты счастлив только тогда, когда закрываешь глаза. И вот теперь он смотрел на ту похоронную повозку в своей памяти до тех пор, пока не просело полено и язычок пламени не появился в другом месте. Мальчик вспомнил, как перешептывались одетые во все черное жители Крайека: «Какой ужас! Всего восемь лет. Бог забрал его».
Бог? Остается только молиться и надеяться, что Ивона Гриску и в самом деле забрал Бог.
Мальчик продолжал вспоминать. Он видел, как гроб опускали на веревках в темный квадрат в земле, а лелкес читал молитвы и помахивал распятием. Крышку гроба заколотили гвоздями и обмотали колючей проволокой. Перед тем как могилу засыпали землей, лелкес перекрестился и бросил туда свое распятие. Это случилось неделю назад, до того как потерялась вдова Янош, до того как семья Шандор исчезла снежной воскресной ночью, оставив все свое имущество, до того как Иоганн-отшельник рассказал, что видел обнаженных людей, танцующих на открытой всем ветрам вершине Джегер с огромными волками, что охраняют эту населенную призраками гору. Вскоре после этого Иоганн тоже пропал вместе со своей собакой Видой. Мальчик вспомнил суровое лицо отца, искры глубокой тайны в его глазах. Однажды он слышал, как отец сказал маме: «Они снова зашевелились».
В печи со вздохом осели поленья. Мальчик моргнул и отодвинулся подальше. Спицы в руках матери замерли, она наклонила голову в сторону двери и прислушалась. Ветер ревел, принося с собой снег со склонов горы. Утром нужно будет сильно постараться, чтобы дверь открылась и твердый наст разлетелся вдребезги, словно стекло.
«Папа уже должен был вернуться, — подумал мальчик. — На улице такой холод, такой холод. Конечно же, папа не мог задержаться так надолго».
Казалось, тайны окружали со всех сторон. Только вчера ночью кто-то пришел на кладбище Крайека и раскопал двенадцать могил. Включая ту, в которой лежал Ивон Гриска. Гробов так и не нашли, но ходили слухи, будто бы лелкес разыскал в снегу кости и черепа.
Кто-то постучал в дверь, словно молот ударил по наковальне. Раз, потом еще. Мама вскочила со стула и обернулась.
— Папа! — радостно закричал мальчик.
Он вскочил, тут же забыв об огненном лице в пламени печи, и бросился к двери, но мать ухватила его за плечо.
— Тш-ш-ш! — прошептала она, и они вместе замерли в ожидании, а тени их расплылись по всей дальней стене.
Снова стук в дверь — тяжелый, как свинец. Ветер завывал совсем как мать Ивона Гриски, когда заколоченный гроб ее сына опускали в промерзшую землю.
— Открывайте скорее! — сказал папа. — Я совсем замерз!
— Слава богу! — воскликнула мама. — О, слава богу!
Она подбежала, отперла засов и распахнула дверь. Снег лавиной налетел на нее, искажая очертания глаз, носа и рта. Сгорбленная фигура отца в полушубке и шерстяной шапке шагнула в тусклый свет печи, на его бровях и в бороде сверкали бриллианты льда. Он обхватил маму ручищами, и она едва не утонула в его объятиях. Мальчик тоже бросился к нему, радуясь возвращению отца, потому что быть старшим оказалось труднее, чем он думал. Отец провел ладонью по волосам мальчика и крепко хлопнул по плечу.
— Слава богу, ты дома! — сказала мама, повиснув на нем. — С этим покончено?
— Да, покончено, — ответил отец, развернулся и закрыл дверь на засов.
— Иди сюда, ближе к огню. Боже милосердный, какие холодные у тебя руки! Снимай шубу, пока не промерз до смерти.
Она взяла полушубок, потом шапку. Отец подошел к печи и протянул руки к огню, пытаясь согреться. Пламя отражалось в его глазах рубиновыми искрами. Когда он проходил мимо сына, мальчик сморщил нос. Странный запах принес с собой отец. Запах... чего? Трудно сказать.
— Он весь в грязи!
Мама дрожащими руками отряхнула отцовский полушубок и повесила на крючок у двери. Она чувствовала, что слезы облегчения вот-вот хлынут из глаз, но не хотела плакать при сыне.
— В горах лютый холод, — тихо проговорил отец и двинул носком разодранного сапога полено, из-под которого тут же взвился язычок пламени. — Просто лютый.
Мальчик смотрел, как начинает таять ледяная крошка на побелевшем от мороза отцовском лице. Вдруг отец прикрыл глаза, вздрогнул и тяжко вздохнул: «Уф-ф-ф». Потом снова открыл глаза, обернулся к сыну и посмотрел на него:
— Что ты так на меня вылупился, малыш?
— Ничего. Просто так.
Такой странный запах. Что бы это могло быть?
Отец кивнул:
— Подойди ко мне.
Мальчик сделал один шаг и остановился. Ему вспомнились лошади, везущие гроб, и причитания плакальщиц.
— Ну же! Иди сюда, говорю.
Мать в дальнем углу комнаты все еще держала в руках полушубок. Ее улыбка скривилась, как будто она только что получила пощечину от чьей-то вынырнувшей из тени руки.
— Все в порядке? — спросила она, и в голосе ее прозвучала нотка органа из будапештского собора.
— Да, — ответил отец, протягивая руку к сыну. — Все замечательно, потому что я дома, со своей семьей, там, где и должен быть.
Мальчик заметил, как тень коснулась лица матери и как оно мгновенно потемнело. Рот ее приоткрылся, а глаза расширились в озера, полные недоумения.
Отец взял сына за руку. Кожа на отцовской ладони была твердой, со следами ожогов от веревки. И ужасно холодной. Отец подтянул мальчика ближе. Еще ближе. Пламя огня извивалось, как разворачивающая свои кольца змея.
— Да, — прошептал он, — все в порядке.
Его взгляд остановился на жене.
— Как ты допустила, чтобы в моем доме было так холодно?
— Я... прости меня, — пробормотала она и задрожала, а глаза ее сделались глубокими ямами, полными ужаса.
— Лютый холод, — сказал отец. — Я чувствую, что промерз до костей. А ты, Андре?
Мальчик кивнул, глядя на темное отцовское лицо, выхваченное из тени огнем, и на свое отражение, плавающее в его глазах, более темных, чем прежде. Да, гораздо темнее, словно горные пещеры, и с серебристым налетом по краям. Мальчику пришлось приложить такое усилие, чтобы отвести взгляд, что у него заболела шея. Он задрожал точно так же, как мама. Мальчик и сам не смог бы объяснить, почему его охватил страх. Он только знал, что запах от одежды, кожи и волос отца был точно такой же, как в той комнате, где бабушка Эльза заснула навсегда.
— Мы поступили неправильно, — проворчал отец. — Я, твой дядя Йожеф и другие люди из Крайека. Не стоило нам забираться в горы...
Мама охнула, но мальчик не смог повернуть голову и посмотреть на нее.
— ...потому что мы ошибались. Все мы. Это совсем не то, что мы думали...
Мама заскулила, как попавший в капкан дикий зверь.
— ...понимаешь?
А отец улыбнулся. Теперь он уже стоял спиной к печи, но белизна его лица пробивалась сквозь тени. Рука крепче сжала плечо сына, и мальчик вздрогнул, словно бы северный ветер с ревом пронесся сквозь его душу. Мама всхлипнула, и мальчик хотел оглянуться и посмотреть, что с ней случилось, но он не мог шевельнуться, не мог повернуть голову, не мог даже моргнуть.
— Мой милый, маленький сынок, — с улыбкой произнес отец. — Мой милый, маленький Андре...
И он нагнулся к сыну.
Но в следующий миг его лицо исказилось, а глаза вспыхнули серебром.
— НЕ СМЕЙ! — гаркнул он.
Мальчик вскрикнул и вырвался из отцовской хватки. Он увидел маму с дробовиком в трясущихся руках и раскрытым в отчаянном крике ртом. И как раз в тот момент, когда он подбежал к ней, мама нажала сразу на оба спусковых крючка.
Заряды просвистели над мальчиком и угодили в голову и в горло отцу. Яростно и раскатисто взревев, он отлетел назад и повалился на пол, лицо его скрылось в тени, а сапоги зарылись в красные угли.
Мама выронила ружье, сдавленное рыдание превратилось в приступы безумного смеха. Отдача едва не раздробила ей правое плечо и отбросила к двери так, что из ее глаз хлынули слезы. Мальчик замер с бешено колотящимся сердцем. Густой запах пороха забил его ноздри. Он смотрел на обезумевшую женщину, только что застрелившую его отца, — на ее искаженное лицо, пузырящуюся на губах пену и мечущиеся от одной тени к другой глаза.
И тут с другого конца комнаты послышался долгий, тягучий скрежет.
Мальчик обернулся.
Отец поднимался на ноги. Половина его лица исчезла; подбородок, челюсть и нос свисали белыми, бескровными волокнами. Уцелевшие зубы сверкали в отблесках пламени, а превратившийся в месиво глаз болтался на толстой вене над развороченной дырой на месте бывшей скулы. Пошатываясь, он стоял на корточках, а его огромные пальцы скрючились, словно когти. Он попытался усмехнуться, и оставшаяся половина рта нелепо изогнулась вверх.
И только в это мгновение мальчик и его мать заметили, что из ран не течет кровь.
— Чудовище! — закричала мама, прижимаясь спиной к двери.
Слово ворвалось в голову мальчика, выдирая крупные куски его сознания, так что он застыл и онемел, словно огородное пугало зимой.
— Чудовище! — повторяла мама. — Чудовище!
— Э, не-е-ет, — прошипело обезображенное лицо, и тварь заковыляла к ней, шевеля когтями в голодном нетерпении. — Не так просто, драгоценная моя супруга...
Она схватила сына за руку и отодвинула дверной засов. Тварь была уже близко, когда завывания ветра и стена снега ворвались в дом. Тварь попятилась, прикрывая ладонью единственный глаз. Мама потащила мальчика за собой в ночь. Снег цеплялся им за ноги, пытаясь остановить.
— Бежать! — пробился сквозь рев ветра крик матери. — Нам нужно бежать!
Они пробивались вперед сквозь резкие, как удары кнута, снежные порывы, и мама так крепко обхватила запястье мальчика, что, казалось, ее пальцы стали одним целым с его костями.
Где-то в ночи закричала женщина, пронзительно и испуганно. Затем мужской голос взмолился о пощаде. На бегу мальчик оглянулся на сбившиеся в кучу дома Крайека, но не смог ничего различить сквозь вьюгу. И все же ему показалось, что к сотне голосов ветра примешивается хор жутких воплей. Прерывистая какофония хохота нарастала и нарастала до тех пор, пока не заглушила призывы к Богу и милосердию. Мальчик мельком разглядел свой дом, скрывающийся вдали. Тусклый красный свет вытекал за порог, словно последний уголек угасающего в печи огня, о котором он так заботился. Неповоротливая полуслепая тварь проковыляла во двор через дверной проем. А потом мальчик услышал яростный рев, вырвавшийся из бескровного, изуродованного горла:
— Я НАЙДУ ВАС!
Мама снова дернула мальчика за руку, и он едва не споткнулся, но она все тащила и тащила его за собой, вынуждая перейти на бег. Ветер со свистом хлестал их по лицу, и черные волосы мамы уже побелели от снега, как будто она состарилась в считаные минуты или обезумела, подобно какому-нибудь психу из сумасшедшего дома, что принимает свои кошмары за оскал лишенной теней реальности.
Внезапно из гущи присыпанных снегом сосен показалась чья-то фигура, хрупкая, тонкая и белая, как озерный лед. Ветер трепал длинные волосы и раздувал изъеденные червями лохмотья. Оборванец постоял на заснеженном пригорке, поджидая их, а затем, прежде чем мама успела как следует разглядеть его, заступил им дорогу и с детской улыбкой протянул ладонь, словно бы высеченную изо льда.
— Мне холодно, — сказал Ивон Гриска, по-прежнему улыбаясь. — Я ищу дорогу домой.
Мама остановилась, вскрикнула и выбросила руку перед собой. На мгновение мальчик замер под взглядом Ивона Гриски и услышал в своей голове эхо его шепота: «Ты ведь будешь со мной дружить, Андре?» И он едва не ответил: «Да, о да», но тут мама крикнула что-то, что было унесено ветром. Она потянула его за собой, и он оглянулся с холодным сожалением. Ивон уже забыл о них и медленно зашагал по снегу в сторону Крайека.
— Папа! — позвал мальчик, но услышал в ответ лишь отдаленный, насмешливый вой ветра. — Папа!
Его слабый, усталый голос сорвался. Ресницы отяжелели от снега. Но тут мама с трудом поднялась на ноги и снова потащила его за собой, хотя он отбивался и пытался вырваться. Она отчаянно встряхнула его и закричала:
— Он умер! Неужели ты ничего не понял? Нам надо бежать, Андре, бежать, пока хватит сил!
Ледяные дорожки белым кружевом перечертили ее лицо, и мальчик вдруг понял, что мама сошла с ума. Папа тяжело ранен, потому что мама выстрелила в него. Но он не умер, нет. Он там, он ждет.
А затем пелену тьмы разорвал слабый огонек. Дым из трубы. Они разглядели занесенную снегом крышу и ринулись на этот свет, насквозь промерзшие, спотыкающиеся. Мама что-то бормотала себе под нос, истерически смеялась и подгоняла мальчика. Он боролся с костлявыми пальцами холода, сжимавшими горло.
«Ложись, — шептал ветер ему в затылок. — Остановись и усни прямо здесь. Эта женщина сделала плохо твоему папе, и тебе тоже может. Ложись прямо здесь и согрейся немного, а утром папа придет за тобой. Да, малыш, спи и забудь обо всем».
Потрепанная непогодой вывеска дико скрипела, раскачиваясь туда-сюда над тяжелой дверью. Мальчик разобрал слабые следы слов: «ТРАКТИР „ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ“». Мама бешено заколотила в дверь, в то же время встряхивая мальчика, чтобы он не заснул.
— Впустите нас, пожалуйста, впустите! — кричала она, продолжая стучать по дереву онемевшим кулаком.
Мальчик споткнулся и завалился на нее, свесив голову набок.
Дверь распахнулась рывком, и к ним потянулись длиннорукие тени. Колени мальчика подогнулись, и он услышал, как закричала мама, когда холод — запретным прикосновением любящего чужака — нежно поцеловал его перед сном.
1Лелкес — священник (венг.).
Котел
Пятница, 25 октября
I
Усеянная звездами ночь, черная, как асфальт шоссе, который пузырился, как варево в котле под полуденным солнцем, теперь густо покрывала длинный сухой участок трассы Техас-285 между Форт-Стоктоном и Пекосом. Тьма, плотная и неподвижная, словно глаз бури, зажатая между убийственной жарой сумерек и рассветом. Плоская, как сковорода, земля по обеим сторонам трассы заросла колючим кустарником и свечевыми кактусами. Под брошенными корпусами старых автомобилей, которые солнце и внезапные песчаные бури объели до металла, укрывались свернувшиеся кольцами гремучие змеи, все еще чувствующие ужасные следы укусов солнца.
Возле одного из таких остовов — ржавого и искореженного, с разбитым ветровым стеклом и дырой на месте двигателя, унесенного каким-то умельцем-оптимистом, — обнюхивал землю в поисках воды заяц. Почуяв скрытую глубоко в земле прохладу, он принялся копать передними лапами, но через мгновение остановился, и нос его дернулся в сторону днища машины. Зверек напрягся, уловив змеиный запах. Из темноты донеслось тонкое дребезжание, и заяц отскочил назад. Ничего не произошло. Инстинкт подсказывал зайцу, что внизу скрыто гнездо, и писк змеиных детенышей привлечет охотящуюся где-то мать. Вынюхивая змеиный след, заяц отбегал все дальше от машины в сторону шоссе, и только песок шуршал под его лапами. Он уже добрался до середины дороги, возвращаясь в свою нору к зайчатам, когда внезапная дрожь под лапами заставила его замереть на месте. Заяц повернул голову к югу, длинные уши вздернулись, ловя отдаленный шум.
Сверкающий белый шар медленно восходил над дорогой. Зверек завороженно смотрел на него. Заяц не раз наблюдал, стоя над своей норой, как эта белая штуковина парит в небе, иногда она казалась больше, чем сейчас, иногда — желтее, иногда ее вообще не было, порой из нее торчали усики и она оставляла в воздухе дразнящий запах дождя, который никогда не прольется. Заяц не испугался, потому что привык к виду этой штуковины в небе, но дрожь, которую он сейчас ощущал, взъерошила мех на его спине. Белый шар все рос и рос, неся с собой шум, похожий на раскаты грома. Через мгновение шар ослепил зайца, нервные клетки послали сигнал опасности в мозг. Зверек метнулся к спасительной обочине, оставляя за собой длинную полосу тени.
Заяц был уже, наверное, в трех футах от спасительных колючих зарослей, когда черный как ночь чоппер2 «Харлей-Дэвидсон 1200СС», летящий под восемьдесят миль в час, вильнул прямо на него, раздробив позвоночник. Зверек завизжал, крохотное тельце забилось в предсмертных судорогах. Рессоры почти не почувствовали сотрясения от короткого удара, и огромный мотоцикл с ревом понесся дальше на север.
Несколько минут спустя к остывающей заячьей тушке волнообразно подползла гремучая змея.
Укутанный в кокон грохота и ветра мотоциклист, вглядываясь в белый конус света, отбрасываемый мощной передней фарой, едва уловимым движением направил машину к центру дороги. Он вскинул над головой кулак в черной перчатке, машина заурчала, словно сытая пантера, и рванулась вперед, наращивая скорость, пока стрелка спидометра не зависла чуть ниже отметки девяносто. Гонщик ухмыльнулся под защитным стеклом видавшего виды черного защитного шлема. Он был одет в черную облегающую кожаную куртку и потертые джинсы с кожаными вставками на коленях. На спине старой, исцарапанной куртки раздувала капюшон ярко-красная королевская кобра, светящаяся краска на ней шелушилась, словно змея сбрасывала кожу. Машина с ревом мчалась вперед, раздвигая стену тишины и оставляя позади испуганных обитателей пустыни. Слева от дороги показался яркий рекламный щит, весь изрешеченный ржавыми дырами от пуль — синие музыкальные ноты, парящие над двумя опрокинутыми рыжими пивными бутылками. Гонщик бросил на щит быстрый взгляд и прочитал: «НАЛИВАЙКА ПРЯМО ПО КУРСУ», и чуть ниже: «ЗАПРАВЬСЯ, ПРИЯТЕЛЬ!»
«Ага, — подумал он, — самое время заправиться».
Две минуты спустя во тьме слабо замерцали голубые неоновые вспышки. Гонщик начал сбрасывать скорость, стрелка спидометра стремительно опускалась до восьмидесяти, семидесяти, шестидесяти. Впереди, над дверью приземистого деревянного здания с плоской грязно-красной крышей, виднелась вывеска: «НАЛИВАЙКА». Три легковых автомобиля, внедорожник и грузовой пикап с частично облупленной до грунтовки синей краской сгрудились вокруг него, словно усталые осы вокруг улья. Мотоциклист свернул на заросшую перекати-полем стоянку и выключил двигатель, рев мотора сменил гнусавый голос Фредди Фендера, поющего про «напрасно потраченные дни и ночи». Гонщик выдвинул подножку, и его черный «харлей» чуть подался назад, как притаившийся зверь. Он слез с мотоцикла с напряженными, как струны рояля, мускулами, ощущая меж ног нетерпеливые толчки эрекции.
Он расстегнул ремешок и снял шлем, обнажив хищное, резко очерченное лицо, бескровное и белое, как мрамор. В глубоких впадинах глаз виднелись белые зрачки со слабыми красными прожилками. Издали они казались розовыми, кроличьими, но вблизи превращались в змеиные — холодно горящие, немигающие, гипнотизирующие. Желтовато-белые волосы были коротко подстрижены. Синие полоски вен на висках пульсировали, с небольшой задержкой повторяя ритм музыкального автомата. Он пристегнул шлем к рулю и направился к зданию, по пути бросив взгляд на припаркованные автомобили: в кабине грузовика стояла винтовка, к заднему крылу одной из машин была прилеплена наклейка с рокерской «козой», а на зеркале заднего вида внедорожника болталась пара зеленых игральных костей.
Когда он прошел через сетчатую дверь в большую, наполненную табачным дымом и духотой комнату, все шестеро находившихся там — трое за покерным столом, двое играющих в пул в ореоле подвесной лампы и еще один за стойкой — одновременно подняли головы и замерли. Мотоциклист-альбинос поочередно встретил взгляд каждого из них, а затем уселся на барный стул, красная кобра на его спине казалась в тусклом свете кричаще-яркой. После нескольких мгновений тишины бильярдный кий щелкнул по шару с резкостью пистолетного выстрела.
— Вот черт! — сказал один из игроков, широкоплечий, в красной клетчатой рубашке и пропыленных левисах, вероятно тысячу раз цеплявшихся за колючую проволоку. — Ну, по крайней мере, я запорол тебе верный шар, так ведь, Мэтти?
— Еще бы! — согласился Мэтти, приблизительно сорокалетний долговязый и неуклюжий мужчина с короткими рыжими волосами под пропотевшей ковбойской шляпой, надвинутой на морщинистый лоб.
Он задумчиво пожевал зубочистку, чуть сдвинулся, чтобы лучше рассмотреть расположение шаров, и снова пожевал, все это время краем глаза наблюдая за белобрысым пижоном.
Бармен, здоровенный мексиканец с татуировкой на плечах и черными глазами под тяжелыми веками, склонился над стойкой, кругами водя мокрой тряпкой.
— Чем-нибудь помочь? — спросил он, посмотрев в лицо альбиносу, и тут же почувствовал себя так, словно ему в спину воткнули нож для колки льда.
Он оглянулся туда, где Слим Хокинс, Бобби Хейзелтон и Рэй Коуп уже третий час сидели за своим обычным пятничным покером. Бобби пихнул Рэя локтем в ребра и ухмыльнулся, косясь в сторону бара.
— Пива, — коротко произнес альбинос.
— Да-да, конечно, сейчас.
Бармен Луис, облегченно вздохнув, отвернулся. Вид у мотоциклиста был странноватый, неприятный, раздражающий. Он не выглядел взрослым мужчиной — лет девятнадцати-двадцати, не больше. Луис взял с полки стеклянную кружку и бутылку «Лоун стар» из тарахтящего под баром холодильника. В музыкальном автомате Долли Партон как раз запела «Гори, детка, гори». Луис пододвинул кружку альбиносу и снова вернулся к выписыванию тряпкой кругов по полированному дереву барной стойки. Он вспотел, словно под жарким полуденным солнцем.
На зеленом сукне бильярдного стола застучали друг о друга шары. Один с грохотом упал в угловую лузу.
— Вот так, Уилл! — протянул Мэтти. — Теперь ты должен мне тридцать пять, правильно?
— Ага, ага. Черт возьми, Луис, выключи уже этот долбаный музыкальный ящик, а то люди не могут толком сосредоточиться на игре!
Луис пожал плечами и показал рукой на покерный стол.
— Я люблю, когда громко, — сказал Бобби Хейзелтон, зыря в свои короли и десятки.
Этот парень со стрижкой ежиком и выступающим вперед золотым зубом подрабатывал ковбоем на родео. Три года назад он едва не стал чемпионом Техаса, но один паршивый черный жеребец выбросил его из седла, так что Бобби сломал ключицу сразу в двух местах.
— Музыка помогает мне думать. Иди-ка лучше сюда, Уилл, и я отберу у тебя немного тяжелых монет, которые ты притащил с собой.
— Нет уж, на фиг! Мэтти сегодня и без тебя с этим прекрасно справляется!
Уилл убрал кий на подставку, бросил быстрый взгляд на альбиноса, а потом на Бобби.
— Вы, парни, лучше приглядывайте за стариной Бобби, — предупредил он. — В пятницу вечером он нагрел меня больше чем на пятьдесят баксов.
— Просто повезло, — сказал Бобби и выложил карты на стол.
— Че-о-орт! — мрачно протянул Слим Хокинс.
Бобби сгреб со стола мелочь.
— Иди ты в жопу со своим везением! — буркнул Рэй Коуп. Он наклонился и выплюнул кусочек табака «Рэд мэн» в пустой бумажный стаканчик.
— Боже, как здесь жарко сегодня!
Коуп скользнул взглядом по красной кобре на куртке странного парня. «Байкер хренов, — подумал он, прищурив голубые, как лед, глаза, окруженные мелкими морщинками. — Небось понятия не имеет, что значит честно зарабатывать себе на жизнь. Не иначе один из тех оболтусов, что ограбили на днях магазинчик Джеффа Харди в Пекосе».
Альбинос поднял кружку с пивом и отхлебнул, и Рэй смог разглядеть его руки.
«Ладони под этими перчатками наверняка такие же белые и мягкие, как ляжки Мэри Рут Кэннон».
Его собственные ручищи за десять лет работы на ранчо стали грубыми, мозолистыми и рубцеватыми.
Песня Долли Партон умолкла. Ее место заняла другая пластинка и зашипела-затрещала, словно горячий жир на сковородке. Уэйлон Дженнингс запел о том, что хорошо бы вернуться в Луккенбах, штат Техас. Мэтти заказал еще одну бутылку «Лоун стар» и пачку «Мальборо».
Альбинос допил пиво, посидел немного, уставившись в пустую кружку. Потом усмехнулся, словно только ему одному понятной шутке, но усмешка эта была холодной и жуткой, так что уловившего ее Луиса передернуло. Альбинос повернулся на стуле, размахнулся и запустил кружкой прямо в музыкальный автомат. Цветное стекло и пластик разлетелись вдребезги, как будто по ним одновременно выстрелили сразу из нескольких двустволок. Голос Уэйлона Дженнингса сначала превратился в режущий уши фальцет, а потом загрохотал басом, когда диск проигрывателя пошел вразнос. Замигали лампочки, пластинка зажужжала и остановилась. Бар погрузился в полную тишину, нарушаемую только звоном падающих осколков.
Луис, склонившийся над пивом для Мэтти, поднял голову и оторопело посмотрел на разбитый автомат. «Пресвятая Богородица! — подумал он. — Пять лет назад эта штуковина обошлась мне в триста долларов». Потом перевел взгляд на альбиноса, который наблюдал за ним с дьявольской усмешкой оскалившегося черепа.
— Совсем рехнулся, чувак? — закричал Луис. — За каким хреном ты это сделал?
Стулья со скрежетом отодвинулись от покерного стола. Комната тут же наполнилась, словно озоном, запахом опасности и зашкаливающих эмоций.
Глаза альбиноса казались глыбами льда с кровавыми прожилками.
— Мне не нравятся эти песенки говномесов, — заявил он.
— Ты чокнутый? — завопил Луис, и на лбу у него выступил пот.
Бобби Хейзелтон сжал кулаки и процедил сквозь зубы:
— Ты заплатишь за эту машинку, придурок.
— Как пить дать заплатишь, — поддакнул Рэй Коуп.
Альбинос нарочито медленно повернулся на стуле и посмотрел на них. От его усмешки все вмерзли в пол, кроме Уилла Дженкса, отступившего на шаг.
— Не при деньгах, — сказал альбинос.
— Тогда я вызову шерифа, придурок!
Луис двинулся вдоль стойки к телефону-автомату на стене, но негромкий вымораживающий душу голос альбиноса остановил его:
— Не вызовешь.
Луис замер на месте с бешено колотящимся сердцем.
— Зря ты раздолбал эту машинку, — сказал Мэтти, забирая с подставки бильярдный кий. — У нас тихое местечко.
— Было, — добавил Бобби. — Что ты вообще здесь делаешь, придурок? Может, собрался ограбить кого-то? Позабавиться с чьей-нибудь женой или дочкой, пока мужчины на работе? А?
— Я проездом в Эл-Эй.
Альбинос все с той же едва заметной усмешкой оглядел каждого по очереди. Под прицелом его глаз у Рэя Коупа застыла в жилах кровь, у Уилла Дженкса застучало в висках, а у Слима Хокинса по спине пробежали мурашки.
— Решил остановиться и заправитьcя, как написано на вывеске.
— Ты мне заплатишь, — пригрозил Луис, но голос его дрогнул.
Под стойкой лежал дробовик, но, чтобы достать его, пришлось бы подойти ближе к альбиносу, и что-то подсказывало бармену, что делать этого не следует.
— Никто не просил тебя останавливаться, белобрысый! — Рэй Коуп набрался смелости и двинулся в обход бильярдного стола к альбиносу. — Придурки-байкеры нам здесь ни к чему!
— Сами говномесы мне тоже не нравятся.
Альбинос сказал это спокойно, почти небрежно, словно речь шла о неприятном суховатом привкусе пива «Лоун стар», но волна напряжения мгновенно облетела комнату. Бобби Хейзелтон выпучил глаза от ярости, под мышками расплылись пятна пота. Альбинос начал медленно расстегивать куртку.
— Что ты сказал, придурок? — прошипел Бобби.
Альбинос с безразличным видом шепнул:
— Говно... месы.
— Ах ты, сукин сын! — прокричал Бобби и бросился на мотоциклиста с кулаками.
Но в следующий миг куртка альбиноса распахнулась. Дальше были жуткий грохот, шквал голубого дыма и огромная дыра на месте правого глаза Бобби Хейзелтона. Он завопил и схватился обеими руками за лицо, но пуля с плоской головкой уже разнесла ему затылок, обсыпав окружающих осколками его костей и забрызгав каплями мозга. Бобби завертелся перед покерным столом и рухнул на королей, джокеров и тузов, а ноги на полу продолжали дергаться, как будто покойник еще пытался убежать.
В голубоватом дыму, что вился между ним и остальными, альбинос вытащил из-под куртки пистолет с длинным тонким стволом, черной прямоугольной коробкой магазина и рукояткой, напоминающей отпиленную ручку метлы. Из смертоносного дула все еще вытекал дым. Глаза альбиноса раскрылись чуть шире обычного, когда он посмотрел на изувеченный труп.
— Ты убил его! — не веря своим глазам, воскликнул Слим Хокинс и принялся соскребать кровь Бобби со своей белой ковбойки с перламутровыми пуговицами. — Господи боже, ты же его убил...
Вдруг его горло сжалось, дыхание перехватило, и он блеванул прямо сквозь растопыренные пальцы.
— Господь всемогущий! — произнес разинувший рот Уилл.
Он уже видел штуковину вроде той, что держал в руках этот парень, на оружейной выставке в Хьюстоне. Это был старый автоматический пистолет, какие были у немцев во время Второй мировой войны. «Маузер Брумхэндл» — так, кажется, он назывался. Десять пуль в обойме, и эта проклятая штука может перестрелять их быстрее, чем успеешь моргнуть глазом.
— У этого парня пистолет-пулемет!
— Ага, так и есть, — негромко проговорил альбинос.
Сердце Луиса колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвет грудную клетку. Он глубоко вдохнул и нырнул под стойку за дробовиком. И тут же испуганно вскрикнул, когда мокрый пол ушел из-под ног. Но в тот момент, когда пальцы его все-таки дотянулись до оружия и сжали холодную сталь, альбинос с налитыми жаждой крови глазами повернулся кругом. Луис поднял голову навстречу двум пулям, и через мгновение они снесли ему макушку. Бармен отлетел назад и ударился спиной о шкаф с пивными кружками, мозги его вытекли наружу. Он испустил тихий, жуткий вздох и мешком рухнул на пол.
— О господи! — выдохнул Уилл.
Желчь подступила к горлу, и он едва не задохнулся.
— Держитесь, парни... Только держитесь... — снова и снова повторял Мэтти, словно заезженная пластинка из музыкального автомата.
Лицо его стало таким же белым, как у альбиноса, а ковбойскую шляпу забрызгало кровью Бобби Хейзелтона. Он поднял руки, как будто умолял о пощаде, и так оно и было на самом деле, потому что в это ужасное мгновение все они поняли, что сейчас умрут.
Альбинос шагнул вперед сквозь клубящуюся завесу дыма. Он улыбался, как ребенок, которому не терпится посмотреть, что высыплется из пакетов с рождественскими подарками, если их разорвать.
— Прошу тебя, — хрипло проговорил Уилл с круглыми от ужаса глазами. — Прошу тебя... не убивай нас...
— Я ведь говорил, что остановился, чтобы заправиться, — равнодушно ответил мотоциклист. — Когда попадете в ад, парни, передайте дьяволу, что вас прислал Кобро. Через «о».
Он ухмыльнулся и дал очередь. Окровавленная ковбойская шляпа взлетела к потолку; тела вертелись, корчились и падали, как марионетки на обезумевших нитях; по полу зацокали чьи-то зубы, выстрелом вырванные изо рта; клочки серой рубашки с перламутровыми пуговицами дыханием вулкана отнесло в дальний конец комнаты.
А затем все стихло, если не считать негромкого шлепанья капель.
У Кобро звенело в ушах. Он щелкнул предохранителем маузера и положил пистолет, сверкающий, словно черный бриллиант, на барную стойку. Затем несколько минут с ленивым удовлетворением рассматривал застывшие в нелепых позах трупы. Жадно вдыхал запах крови и наполнялся энергией жизни. «Бог ты мой, как же хорошо! — думал он. — Дьявольски хорошо!» Эрекция прекратилась. Кобро обогнул стойку, достал из холодильника еще одну бутылку пива, осушил ее в два глотка и отшвырнул в кучу пустой посуды. «Может, взять с собой пару-тройку? — задумался он. — Нет, не стоит так нагружаться. Да и места все равно нет. Хочу оставаться быстрым и свободным». Он подобрал свое оружие и засунул в кобуру, пришитую к подкладке куртки. «Эта безделушка обошлась мне в Салинасе в кругленькую сумму, — сказал он себе. — Но она того стоит». Кобро нравилась его пушка, он купил ее у одного хитрого старикана, который клялся, что она не просто пылилась в антикварной оружейной лавке, а побывала в руках у настоящего гестаповца. Правда, магазин пару раз заклинивало, но в остальном она слушалась идеально. Чертовски легко пробивала тело до костей. Кобро застегнул куртку. Пистолет выжег свой отпечаток на его боку, словно клеймо страсти. Он вдыхал и вдыхал запах крови, пока легкие не наполнились горячей сладкой медью. А потом принялся за работу, первым делом очистив кассу. Там лежали купюры номиналом в один, пять и десять долларов — всего чуть больше сорока. Забрать мелочь он не удосужился. Потом перевернул трупы и пошарил у них в карманах, стараясь не оставлять следов в лужах засыхающей крови. В сумме набралось около двухсот долларов. Кобро уже поднимался с корточек, когда заметил золотой зуб, сияющий, как самородок, в полураскрытой пещере рта того парня, которого он пристрелил первым. Выбив зуб прикладом маузера, он вернул пистолет в кобуру, а зуб положил в карман.
Теперь он готов был отправиться дальше.
Воздух пустыни снаружи показался Кобро слабым и разбавленным в сравнении с насыщенным запахом смерти в «Наливайке». Шоссе исчезало в темноте по обе стороны от него, позади над головой мерцала неоновая вывеска, впереди на земле синела его собственная тень. «Скоро кто-нибудь обнаружит этих говномесов, — сказал он сам себе. — И все демоны ада сорвутся с цепи. Ну и ладно. К тому времени, когда появятся патрульные, я буду уже далеко отсюда по дороге в Эл-Эй». Кобро повернул голову к темному небу на западе, все его тело слегка пощипывало.
Ощущение было сильней, чем в Сьюдад-Акунье, сильней, чем в Соноре, и даже сильней, чем в Форт-Стоктоне, всего в нескольких милях отсюда. Как легкое онемение, как мгновенный кайф от понюшки кокса, как мучительно-сладкое предвкушение варящегося в ложке герыча. И с каждым разом становилось все лучше и лучше, постепенно усиливаясь по мере продвижения на запад. Временами ему казалось, что он теперь постоянно чувствует этот запах крови, когда смотрит на запад, как будто весь Тихий океан наполнился кровью и ты можешь купаться в ней сколько душе угодно, пока не напьешься допьяна и не пойдешь ко дну. Как будто ему каплю за каплей скармливали величайший наркотик в мире, и с каждой милей этой поездки безумная жажда Кобро заполучить полный удар по венам только возрастала.
А еще он видел сон, который, возвращаясь снова и снова, тянул его из Мексики обратно в Штаты. В первый раз он приснился Кобро неделю назад и повторялся три ночи подряд, совершенно одинаковый, и это чертовски... жутко: во сне он катил на своем чоппере по длинному извилистому шоссе с высокими пальмами и огромными небоскребами по обочинам. Освещение казалось странным — красноватым и тусклым, словно солнце прилипло к горизонту. Он был в черной куртке, джинсах и черном защитном шлеме, а следом за ним ехала целая армия громил-байкеров на самых разных мотоциклах, какие только может вообразить себе измученный разум, — огнедышащие твари, сверкающие ярко-красным хромом, раскрашенные фиолетовыми, неоново-голубыми и золотыми металлическими блестками, с ревущими, как драконы, моторами. Но эта армия байкеров позади Кобро выглядела как-то странно и походила на скелеты: бледнокожие существа с обведенными тенями глазами, не мигающими в миазматическом свете. Их были сотни, может быть, даже тысячи. Обесцвеченные тела прикрывали лохмотья курток из оленьей кожи; рваные джинсы с кожаными заплатами на коленях; списанные армейские бушлаты, выгоревшие на солнце до болезненно-болотного цвета. На ухмыляющихся черепах некоторых из них позвякивали шлемы со светящейся краской и покрытые трещинами и вмятинами нацистские каски. Кое-кто носил защитные очки. Сквозь стиснутые зубы пробивался зловещий рев, звучавший все громче и громче: «Кобро! КОБРО! КОБРО!» А еще в этом сне он видел белые буквы, выложенные на холмах, что возвышались над широко раскинувшимся городом: «ГОЛЛИВУД».
Жутко.
А две ночи назад он сделался лунатиком. Дважды он открывал глаза в жаркой духоте перед рассветом и понимал, что стоит — на самом деле стоит, черт побери! — во дворе жалкой деревянной лачуги, где он скрывался последние три недели, с тех пор как покинул страну после той вечеринки под Новым Орлеаном без малого месяц назад. Оба раза он просыпался, услышав усталый голос тринадцатилетней проститутки, с которой он тогда жил, — худющей девчонки, с черными, блестящими, как нефть, волосами и глазами сорокалетней женщины, — зовущий его из-за двери: «Señor! Señor!»3 Но за мгновение до того, как этот голос отложился в его мутном сознании, он, кажется, слышал другой — далекий и холодный, словно канадский ветер, шепчущий прямо ему в душу: «Следуй за мной». Оба раза он открывал глаза, стоя лицом на запад.
Кобро моргнул. Внезапный порыв пустынного ветра швырнул песок ему в лицо. Пора двигаться дальше. «А уж когда я доберусь до места, — подумал он, шагая через стоянку к своему чопперу, — там начнется адская вечеринка». Он оседлал свой «харлей», нахлобучил шлем, застегнул ремешок и опустил шлем словно дьявольский рыцарь перед битвой. Надавил на педаль стартера, и грохочущая машина выкатила со стоянки, оставляя позади притихшую «Наливайку» с ее последними клиентами. В животе чувствовалась приятная тяжесть.
На шоссе он разогнался почти до восьмидесяти. Придется ехать по худшей из пустынных дорог, чтобы разминуться с полицией штата. «Осторожность и в самом деле не помешает, — сказал он себе. — Но мне нужно поторапливаться».
Потому что Кобро был убежден в одном: он следует за настойчивым зовом смерти.
II
Энди Палатазин открыл глаза в прохладной темноте собственной спальни с одной леденящей душу мыслью: «Таракан здесь». Он лежал неподвижно — медвежье тело, закутанное в голубые простыни, — и ждал, когда уймется сердцебиение. Лежал и прислушивался к тихим звукам ночи: скрипу лестницы внизу, приглушенному гудению холодильника, тиканью будильника на столике у кровати и всяким другим шепотам, шорохам и потрескиваниям. Он вспомнил, как в детстве мама рассказывала ему сказки про эльфов, что ночью появлялись из темноты верхом на мышах, чтобы устроить праздник, а потом исчезали на рассвете. Рядом с ним шевельнулась Джо, придвигаясь ближе. «Что же разбудило меня? — гадал он. — Раньше я никогда так не просыпался!»
Палатазин чуть приподнял голову — посмотреть на часы. Ушла целая минута на то, чтобы рассмотреть крохотные светящиеся цифры: одиннадцать пятьдесят. «Нет, Таракана здесь нет, — сказал он себе. — Таракан где-то в Лос-Анджелесе и творит все, что ему вздумается». Его замутило от ужаса и отвращения при одной мысли о том, что может принести это утро. Он лег на спину, и пружины кровати сразу провисли и заскулили, как плохо натянутые струны арфы. В любой момент они могли впиться в спину или ягодицы. Матрас был слишком тонкий, свалявшийся за те долгие годы, что нес на себе его нешуточный вес, который колебался от двухсот десяти фунтов летом, когда Палатазин поигрывал в гольф с другими полицейскими, до двухсот тридцати под Рождество, когда он объедался запеканкой с говядиной и сметаной, что готовила для него Джо.
Он лежал, уставившись в потолок. Из-за угла Ромейн-стрит выехал автомобиль, свет фар скользнул по стене и исчез. «Совсем скоро начнется новый день», — сказал себе Палатазин. Октябрь в Лос-Анджелесе. Не похожий на те, что он помнил из детства. То были настоящие октябри, с диким ветром и беспорядочным снегопадом, холодными серыми небесами и градом, стучавшим по подоконнику. Калифорнийские октябри были фальшивыми, пустыми, не приносящими удовольствия: холодный бриз по утрам, а потом еще раз ночью, но при этом жаркое солнце в полдень, если только небо не закрывали облака, что на самом деле случалось крайне редко. Трудно поверить, что где-то идет снег, когда видишь людей в рубашках с короткими рукавами на улицах Эл-Эй. Это был город вечного лета, страна золотой юности. Иногда ему до боли в сердце хотелось увидеть хотя бы одну снежинку. О да, он мог посмотреть на снег осенью и зимой, в ясный день, когда пурпурные склоны гор Сан-Габриэль не скрыты туманом или смогом, но пальмы, раскачивающиеся повсюду, куда ни кинешь взгляд, портили эту картину. В прошлом году температура на Рождество была выше шестидесяти градусов4. Палатазин припомнил рождественские праздники своего детства, при десяти или даже двенадцати градусах ниже нуля, когда окна были залеплены снегом и льдом, и папе приходилось выламывать дверь с помощью...
Воспоминания внезапно оборвались. Он вернулся мыслями к тому, что разбудило его: Таракан. Этот taplo5 ползал где-то по восьмимиллионному городу, ожидая удобного момента для удара. Или, может быть, уже нанося удар. В пятницу ночью молодые проститутки выстраиваются вдоль бульваров Сансет и Голливуд. «Возможно, сегодня он совершит ошибку, — сказал себе Палатазин. — Возможно, он клюнет на одну из женщин-полицейских, и тогда кошмар закончится». Четыре девушки за две недели, и все сначала задушены сильными руками, а потом изнасилованы. А записки, которые это мерзкое чудовище оставляло на трупах! Бессвязные, написанные от руки сообщения, где одновременно говорилось и о Божественном замысле, и о том, что проститутки — в записках они именовались «греховодницами» — лживые посланницы ада, которых может усмирить только смерть. Палатазин помнил текст записок почти слово в слово. Он изучал их снова и снова с самого утра 27 сентября, когда рыбак из Венис обнаружил на берегу, под прогнившим причалом, труп Китт Кимберлин — девятнадцатилетней разведенки с двумя детьми.
«Бог призвал меня в ночи, — говорилось в записке. — Бог прямо сейчас находится среди нас, и из всех людей этого города он призвал меня исполнить его промысел!» Эта первая записка, торопливо накорябанная синими чернилами на обычной машинописной бумаге из аптекарского магазина, не была подписана. Но полицейский из Вениса по фамилии Дуччо заметил, что рот покойницы набит дохлыми тараканами; история просочилась в прессу, и «Лос-Анджелес тэттлер» первой напечатала передовицу, которую, разумеется, написала Гейл Кларк, под заголовком «ГДЕ ТАРАКАН НАНЕСЕТ СЛЕДУЮЩИЙ УДАР?». Зловещие фотографии с места убийства, сделанные Джеком Киддом, были разбросаны по всей странице, и на той неделе поганая газетенка разошлась, наверное, миллионным тиражом. Когда следующую жертву — шестнадцатилетнюю чикано6 — нашли под брезентом на пустыре в Голливуде, там снова оказались мертвые тараканы, и другие газеты подхватили это прозвище.
Третье сообщение было подписано: «Таракан. Ха-ха! Мне нравится». Последняя записка, найденная на трупе голубоглазой блондинки, сбежавшей из Сиэтла, тревожила сильней остальных: «Мастер зовет меня. Теперь он обращается ко мне по имени, и я должен ответить. Он говорит, что я нужен ему, и у меня перестает болеть голова. Он сказал, что я все делаю неправильно и что он научит меня такому, о чем я даже не мечтал. Больше вы обо мне не услышите». Она тоже была подписана прозвищем Таракан, и рот девушки опять был забит насекомыми.
Это случилось 10 октября. И вот уже тринадцать дней о нем ни слуху ни духу. Где он? Что он задумал? Прятался, ждал своего часа и посмеивался над тем, как полицейский департамент Эл-Эй роет землю, проверяя каждую наводку; каждый слух; каждую услышанную в баре или бильярдной историю о том, что кто-то знает кого-то, кто якобы знаком с парнем, который по пьяни хвастался, что прикончил какую-то девку и ему все сошло с рук; каждый рассказ сутенера о попавшемся ему той ночью по-настоящему стремном клиенте со странным горящим взглядом, который говорил, что у него есть с собой горстка тараканов для Китт Кимберлин; каждый послеполуденный телефонный звонок испуганной жены, шептавшей в трубку, что она не может понять, что произошло с ее Гарри, или Томом, или Джо, но ведет он себя очень странно и возвращается домой почти на рассвете. Палатазин словно бы слышал коллективное: «Да, мэм, спасибо, что позвонили, мы все выясним» — от дюжины разных полицейских в разных участках по всему городу, произнесенное именно в это мгновение.
Все газеты, от «Таймс» до «Тэттлер», нацелились исключительно на Таракана и его преступления. Вечерние телевизионные новости постоянно напоминали о нем, на что-то намекали, на кого-то ссылались. Какое-то время торговля телом на бульварах Сансет и Голливуд после полуночи затихла, но теперь дело кипит как обычно. Правда, никто ничего не забыл: шутка о том, что полиция Эл-Эй не в состоянии отыскать даже таракана, кое-кому показалась очень смешной. Эти два слова преследовали Палатазина повсюду, не выходили из головы даже по ночам, хихикали, лежа возле его кровати, как разлагающийся труп, чтобы он запнулся о них, когда отправится поутру чистить зубы: «Найди Таракана!»
Как? Разумеется, этот парень псих. Животное, fattyu7, маньяк. Но при этом хитрый и осторожный. А город такой огромный, такой безграничный, в нем полно потенциальных убийц. Как? Над этим вопросом Палатазин бился постоянно, потому что именно он — капитан отдела по расследованию убийств в Паркер-центре8 в даунтауне Эл-Эй — отвечал за это дело. Он видел страх и недоверие на лицах горожан, когда те стояли кучками на бульварах или размышляли об изменчивых поворотах жизни и смерти в прокуренных барах. По своей омерзительности действия этого маньяка превосходили все, что совершили Хилсайдские душители9. Но если что-то и могло привлечь внимание всего Эл-Эй, то только шоу ужасов.
«Мерзкая тварь», — думал Палатазин, глядя в потолок и пытаясь представить себе внешность этого человека. Судя по синякам на шеях жертв, у него должны быть чрезвычайно большие и сильные кисти рук; вероятно, предплечья и плечи тоже хорошо развиты. Возможно, у него еще и очень быстрые рефлексы — только одна из женщин сумела впиться ногтями ему в кожу, но даже по этому крошечному кусочку специалисты из полицейской лаборатории установили, что Таракан был черноволосым белым мужчиной, скорее всего — моложе сорока лет. Психически больной человек, садист, казалось наслаждавшийся новообретенной известностью. Но что вынудило его залечь на дно? Что заставило его прекратить убийства так же внезапно, как они и начались? «Тринадцать дней, — подумал Палатазин. — След все остывает и остывает. Чем он сейчас занят? Где прячется?»
И тут Палатазин вдруг осознал, что слышит какой-то посторонний шум. Тот звук, который, как он интуитивно понял, как раз и разбудил его.
Это был легкий, тихий скрип, будто кто-то прохаживался по полу возле кровати. Рядом снова шевельнулась и вздохнула Джо, погруженная в сон.
У Палатазина заледенела кровь. Он поднял голову.
В ногах кровати, перед окном, выходившим на Ромейн-стрит, вдоль которой стояли плечом к плечу, словно давние друзья, старые дома с деревянными перекрытиями, сидела в кресле-качалке Нина, мать Палатазина, сидела и раскачивалась взад-вперед. Она была маленькой, морщинистой и усталой на вид, но глаза ее сурово сверкали в темноте.
Сердце бешено заколотилось в груди Палатазина. Он сел, выпрямившись, и услышал свой собственный шепот, сначала на родном венгерском, а потом уже на английском:
— Anya... мама... Боже мой!
Взгляд матери остался непреклонным. Она словно бы пыталась что-то сказать, он видел, как шевелятся ее губы, а впалые щеки подрагивают от напряжения. Она приподняла слабую руку и махнула ею так, будто хотела, чтобы сын немедленно встал, словно бы говоря: «Опоздаешь в школу, лежебока».
— Что случилось? — спросил он с посеревшим лицом. — Что случилось?
Чья-то рука схватила его за плечо. Он охнул и обернулся, по спине забегали мурашки. Его жена, маленькая, милая женщина сорока с небольшим лет, с тонкими, как фарфор, костями, глядела на него затуманенными темно-синими глазами.
— Пора вставать? — еле ворочая языком, спросила она.
— Нет еще, — ответил он. — Спи.
— Что тебе приготовить на завтрак?
Он наклонился, поцеловал ее в щеку, и она положила голову обратно на подушку. Ее дыхание мгновенно успокоилось. Он обернулся к окну, и на лбу выступили бисеринки холодного пота.
Кресло-качалка стояло в углу, на своем обычном месте, и было пустым. На мгновение ему показалось, что оно дернулось, но, приглядевшись, он понял, что кресло не качается. И вообще не качалось. Еще один автомобиль проехал по улице, послав короткий отблеск света гоняться за вцепившимися в потолок тенями.
Палатазин долго смотрел на кресло, а потом снова лег на кровать. Натянул простыню до самой шеи. Мысли дико вертелись в голове, словно обрывки разодранной в клочья газеты. «Конечно же, это все давление. НАЙДИ ТАРАКАНА. Но я же видел ее, видел! Утром снова начнется беготня, опросы свидетелей и телефонные звонки. НАЙДИ ТАРАКАНА. Я видел, как моя мать сидела в этом кресле... День начнется рано, так что тебе нужно поспать... закрой глаза... я видел ее... закрой глаза... да, да, видел!»
Наконец веки отяжелели, и глаза закрылись. Сон принес кошмарную тень, которая преследовала женщину и маленького мальчика по равнине, заваленной высокими сугробами. Последняя связная мысль, перед тем как он бросился наутек по заснеженному полю, была о том, что мать умерла в первую неделю сентября.
III
Приблизительно в то же время, когда Энди Палатазин смотрел на пустое кресло-качалку, Митчелл Эверетт Гидеон, сорокачетырехлетний предприниматель высшего разряда, недавно избранный вице-президентом Клуба миллионеров Лос-Анджелеса, прикурил темнолистовую двухдолларовую сигару «Хойя де Никарагуа» от золотой зажигалки «Данхилл». Этот был бойкий низкорослый мужчина с объемистым брюшком и лицом, которое можно было бы посчитать невинным, как у Шалтая-Болтая, если бы не глубоко посаженные темные глаза и жесткая линия тонкогубого рта. Сидя в устланном золотистым ковром кабинете своего особняка в стиле пуэбло, располагавшегося в Лорел-Каньоне, Гидеон изучал полдюжины счетов, разложенных на антикварном столе из красного дерева. Это были счета на поставку самых обычных товаров: пара составов необработанных дубовых досок определенной длины и ширины, прибывших на фабрику в районе Хайленд-Парка; контейнеры с олифой и морилкой; несколько рулонов шелка от «Ли Вон и Ко» из Чайна-тауна; тюки хлопкового тика; шесть бочек с бальзамирующей жидкостью.
— Чтоб вы подавились, грабители! — проворчал он, выдавая свое нью-йоркское происхождение простым скруглением языка. — Грязные, подлые грабители! Особенно Ли Вон. Пятнадцать лет веду дела с этим китайцем, — продолжил он, прикусив сигару. — А теперь вдруг старый усёрок в третий раз за год поднимает цену. Господи!
И остальные ничуть не лучше. Дуб в нынешние времена стоит столько, что можно без штанов остаться, и на прошлой неделе Винченцо со склада лесоматериалов братьев Гомес позвонил Гидеону, чтобы поплакаться о том, чем он пожертвовал, продавая товар так дешево.
«Задницей ты моей пожертвовал! — подумал Гидеон, жуя сигару. — Еще один чертов грабитель! Ну ничего, через два-три месяца наступит время перезаключения контрактов. Тогда и посмотрим, кто хочет иметь со мной дело, а кто нет!»
Он набрал полный рот дыма, выдохнул в потолок и смел со стола счета рукой с бриллиантовым кольцом на пальце.
«Накладные расходы в этом году просто убийственные, — сказал он себе. — Пожалуй, только одна бальзамирующая жидкость не взлетела в цене, хотя ребята из лаборатории Де Витта тоже угрожающе шумели об этом. Как, черт побери, вести достойную жизнь в такие времена?» Зажав сигару в зубах, Гидеон поднялся из-за стола, прошел в дальний конец кабинета и налил себя изрядную порцию «Чивас Ригала» из графина. Он был в отглаженных до хруста брюках цвета дубовой коры, огненно-алой рубашке, расстегнутой на груди и открывавшей вид на золотые цепочки на шее, и коричневых мокасинах от «Гуччи». На кармане рубашки белыми буквами была вышита монограмма: МГ. Прихватив с собой сигару и стакан с «Чивасом», Гидеон вышел через стеклянную дверь на длинную террасу с коваными чугунными перилами. Прямо под ним был пятидесятифутовый обрыв в темноту, заросшую деревьями и кустарниками, а слева едва различимые за густой стеной сосен мерцали огни дома другого обитателя каньона. Впереди, словно куча крикливых украшений, разбросанных по черному бархату стола, открывалась головокружительная панорама разноцветных огней — Беверли-Хиллз, Голливуд и Эл-Эй, справа налево и куда дотянется взгляд. Крошечные фары игрушечных автомобилей двигались по бульварам Голливуд, Сансет и Санта-Моника; неоновые огни дискотек, баров и рок-клубов на Стрипе пульсировали каждый в своем ритме. Извилистые улицы Беверли-Хиллз были унизаны сверкающими белыми искрами, как будто огромное множество звезд упало с неба на землю и теперь медленно угасало. Этот электрический гобелен прерывали черные квадраты парков и кладбищ. Гидеон вдохнул сигарный дым, наблюдая за тем, как светофор на Фаунтейн-авеню, размером с булавочную головку, сменил цвет на зеленый. Потом повернул голову на долю дюйма и увидел, как сверкающая голубая пылинка свернула по пандусу на широкую полосу Голливудского скоростного шоссе и помчалась в сторону Эл-Эй. «Миллионы людей там, внизу, — подумал Гидеон, — сейчас спят, пьют, дерутся, беседуют, обманывают и обманываются, любят и ненавидят. И рано или поздно каждому из них понадобится то, что я продаю». От этой мысли настроение слегка улучшилось. «Мир все вращается и вращается, — сказал он себе. — И каждый день уносит с собой горстку новых неудачников. Автомобильные аварии, убийства и самоубийства — старуха-природа берет свое. Но я знаю, что тебе нужно, детка, и у меня большие планы».
Иногда здесь, на Скай-Виста-роуд, Гидеон чувствовал себя богом, и ему казалось, что он может дотянуться до небес и написать на этой огромной черной классной доске: «МИТЧ ГИДЕОН», чтобы это увидели все старые пердуны во всех государственных школах (и в особенности Четырехглазый Граймс, утверждавший, будто бы из него не получится ничего, кроме бандита). «Разумеется, они все уже умерли, — думал он. — И, надеюсь, похоронены в сосновых ящиках, пропускающих воду, которая капает на их мертвенно-бледные седые головы». Но все же ему хотелось, чтобы все эти люди, говорившие, что ему прямая дорога в воспитательный дом или прямо в Томбс10, каким-то образом узнали, что он теперь на вершине мира, владеет испанским особняком за миллион баксов на Скай-Виста-роуд, курит сигары по два доллара за штуку, носит туфли от «Гуччи», пьет «Чивас Ригал» из хрустального стакана и смотрит сверху на маленьких людишек, суетящихся в долине. Теперь он — Митч Гидеон, «похоронный король Лос-Анджелеса».
Из каньона прилетел холодный ветер, раскачал сосновые ветви и завихрился вокруг него, сдув с сигары дюймовый столбик пепла. Темно-каштановая накладка фальшивых волос, приклеенная над седыми бакенбардами, осталась на месте. Казалось, Гидеон улавливал в этом ветре насыщенные ароматы матерого дуба, морилки, олифы, шеллака и комочков воска, застрявших в ветоши, сырых опилок и жевательного табака — ароматов его юности, поделенной между исправительным домом и обучением у Джейкоба Ривина, бруклинского гробовщика. Золотые были денечки...
Гидеон затушил сигару о перила и зашвырнул окурок в ночь. Он уже собирался вернуться к домашнему теплу, но вдруг повернул голову вправо и замер, глядя вдаль, мимо россыпи белых огней Николс-Каньона на придавленные тьмой холмы над «Голливудской чашей»11.
Он ощущал магнетическое притяжение замка Кронстина, как будто был стрелкой компаса, и сознавал, что его взгляд прикован к этому месту за двумя милями сосен, карликовых пальм, крыш домов и голых скал. Замок уже больше сорока лет стоял, словно струп, на том месте, где земля вспучилась вершиной горы, в конце Блэквуд-роуд. И уже в пятый раз за последние дни Митч Гидеон внезапно ощутил страстное желание выйти из дома, сесть в «мерседес» шоколадного цвета и направиться по этой разбитой, забытой Богом дороге к огромному готическому собору. Он прошел вдоль террасы так далеко, как только мог, и остановился, обхватив одной рукой холодные перила и глядя в пустоту. Холодный ветер снова налетел на него, покрыв пупырышками обнаженную кожу, и уже прошелестел мимо, когда Гидеону почудилось, будто его окликают по имени из невообразимой дали. Все вокруг стало расплывчатым, словно он смотрел через огромное, залитое дождем оконное стекло; огни Николс-Каньона превратились в длинные размытые полосы белого и желтого света. В висках запульсировало, словно огромная невидимая рука надавила на его голову с двух сторон. И на мгновение Гидеон решил, что и в самом деле видит вдалеке зловещий стокомнатный замок под белой свечой луны, мерцающей за испанским кружевом облаков. Он крепче вцепился в перила, и теперь ему привиделась бесконечная река простых, необработанных гробов, плывущая к нему вдоль черных берегов конвейерной ленты. Рядом с ним стояли другие люди — мужчины, женщины и даже маленькие дети, но густая паутина теней мешала рассмотреть их лица. Конвейерная лента несла гробы к погрузочной площадке, где их поджидали трейлеры с урчащими моторами. Казалось, что все эти люди знакомы друг с другом, но по какой-то причине никто ни с кем не разговаривал. Длинные ряды люминесцентных ламп горели едва ли вполнакала, и люди вокруг Гидеона двигались словно лунатики, словно лишенные лиц тени. Конвейерная лента катилась все быстрей и быстрей, поднося все больше и больше гробов для погрузки в трейлеры. В руках у Гидеона откуда-то взялась лопата. Когда гроб приближался, стоявший перед ним рабочий наклонялся и откидывал крышку. Гидеон зачерпывал лопатой бурую песчаную землю из огромной кучи, что была навалена у него за спиной, и бросал в гроб; следующий рабочий делал то же самое, как и следующий за ним. Дальше по конвейеру гроб снова закрывали, к нему с грохотом подъезжал погрузчик и перекладывал его в трейлер. Гидеон понял, что испачкал свою рубашку.
— Митч! — проговорил кто-то прямо ему в ухо.
Он услышал, как что-то упало на бетон, и решил сначала, что это была его лопата. «Я не успеваю! Нужно поднажать!» — подумал он. Но потом ощутил на щеке октябрьский ветер с запахом духов «Шанель»; Эстель Гидеон стояла рядом с мужем со слегка припухшими от сна карими глазами, в свитере, наброшенном на плечи поверх серебристого платья, которое плохо скрывало живот и бедра, подаренные ей годами изысканных обедов. Ее прискорбно жабообразное лицо было густо намазано зелеными и белыми косметическими кремами из «Элизабет Арден» на Родео-драйв. Гидеон моргнул и поглядел себе под ноги на осколки хрустального стакана.
— Ох! — тихо сказал он. — Я его уронил.
— Что ты здесь делаешь, милый? — спросила жена. — Тут же холодно!
На мгновение Гидеон задумался, что он здесь делал.
— Я... я работал, — вспомнил он. — В кабинете.
Гидеон протер глаза и посмотрел туда, где, как он хорошо знал, притаился в темноте замок Кронстина. По спине пробежал озноб, и Гидеон поспешно отвел глаза.
— Я просто вышел подышать. Тебе не спится?
— Я спала, — сказала она и зевнула. — Но мне захотелось немножко мороженого. Когда ты собираешься лечь?
— Через несколько минут. Я просматривал счета. Этот кровосос Вон словно заноза в моей заднице.
Гидеон посмотрел на мерцающий вдали город и подумал: «Прямо сейчас там кто-то умирает. Сказать тебе, что я сделаю? Я предложу тебе особую цену на тот тенистый участок, обитый шелком дубовый гроб в конкистадорском стиле и добавлю бесплатную услугу „Золотая вечность“».
Он вдохнул кисло-сладкий запах полировочного воска и опустил взгляд на руку, державшую лопату.
— Ты устроил здесь настоящую помойку, — сказала жена и зацокала языком. — Сколько ты принял?
— Что? А, всего один стакан. Смотри под ноги, крошка. Черт возьми, оставь, Натали утром все уберет. Должна же она заниматься чем-то еще, кроме вытряхивания пепельниц и просмотра дурацких мыльных опер!
Эстель несколько мгновений молча смотрела на него.
— Ты какой-то странный сегодня, Митч. С тобой все в порядке?
— Странный? Чем?
— Озабоченный или встревоженный, не знаю. Если бы дела пошли плохо, ты ведь сказал бы мне?
— Конечно сказал бы.
«Черта с два!» — подумал Гидеон. В последний раз, когда он пытался рассказать ей о трудностях в своем бизнесе, она уснула прямо на нем, продолжая бессмысленно кивать. Казалось, его проблемы больше вообще никого не интересуют. За исключением Карен, двадцатилетней любовницы Гидеона, живущей в Марина-дель-Рее. С ней он не только опять почувствовал себя мальчишкой, но и провел много ночей за разговорами, вместо того чтобы тупо трахаться. У Эстель тоже были любовники, и Митч без труда мог определить, когда к ней присасывался кто-то новый, потому что она каждый раз снова начинала посещать занятия в Оздоровительном клубе Беверли-Хиллз. Каждый раз это были молодые загорелые красавцы — теннисисты, пляжные бездельники, спасатели. Он не возражал, зная, что у Эстель хватит ума не подпускать их слишком близко к кошельку. Это было полюбовное соглашение: он получал свое, она — свое. В каком-то смысле они даже любили друг друга, пусть даже и не физически. Оставались добрыми друзьями. А бракоразводный процесс встал бы ему поперек горла, поскольку он построил свой бизнес на деньгах ее папаши из Нью-Йорка.
— Холодно, — сказала Эстель. — Пойдем спать.
— Хорошо, хорошо, иду.
Гидеон стоял неподвижно, спиной чувствуя, как замок Кронстина притягивает его, словно магнит.
— Какая-то жуть! — прошептал он.
— Что еще за жуть, Митч? Ты слышал по радио новости об этом убийце Таракане?
— Нет, не в этом дело. Черт возьми, что случилось с Митци? Вроде бы пора уже нам что-то о ней услышать!
Эстель пожала плечами:
— Собаки иногда убегают.
— Но сторожевые собаки не должны убегать! Я заплатил за эту суку больше трехсот баксов! Ты хочешь сказать, что она сбежала от меня спустя четыре года?
— Тогда, может быть, ее кто-то украл? Я слышала про такое. Похитители собак любят красть доберманов.
— Задницу мою они любят красть! Митци оттяпала бы руку любому, кто попытался бы запихнуть ее в машину! Просто жить в этом долбаном городе стало опасно! Грабители вламываются в дома по всему каньону, вокруг шастают всякие психи вроде этого Таракана, а копы не знают, в какую сторону смотреть.
Его глаза потемнели.
— А ты помнишь, что случилось в замке Кронстина?
— Это было одиннадцать лет назад, — напомнила она.
— Одиннадцать лет или одиннадцать минут, но это ведь все равно произошло. Господи, я должен все разузнать! Я видел тело этого старика... то, что от него осталось.