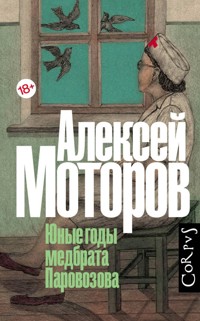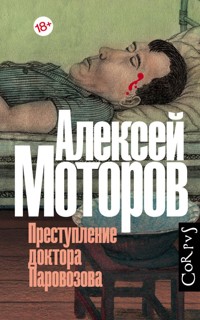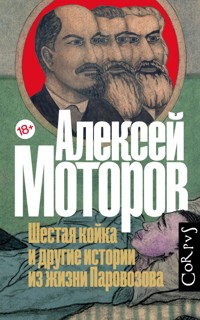
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Русский Corpus
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова" — долгожданная третья книга Алексея Моторова, автора знаменитых воспоминаний о работе в московских больницах на излете советских времен. Первая его книга "Юные годы медбрата Паровозова" стала бестселлером и принесла писателю-дебютанту Приз читательских симпатий литературной премии "НОС". Затем последовало не менее успешное "Преступление доктора Паровозова" — продолжение приключений бывшего медбрата, теперь уже дипломированного хирурга, работающего в Москве в дни октябрьского путча 1993‑го. В "Шестой койке" Алексей Моторов, мастер безумных и парадоксальных сюжетов, вспоминает яркие моменты своей жизни, начиная с самого раннего детства. В свойственной ему неподражаемой манере он рассказывает о себе и своей семье, о взрослении на фоне брежневского застоя, о событиях недавнего прошлого и, как всегда, веселит читателя невероятными, но подлинными случаями из повседневного больничного быта. И, конечно, здесь снова действует незабываемый медбрат Паровозов собственной персоной.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Алексей Моторов Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова
© А. Моторов, 2021
© А. Бондаренко, оформление, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Издательство CORPUS ®
Светлой памяти Виллена Кандрора
В прежнее время книги писали писатели, а читали читатели. Теперь книги пишут читатели и не читает никто.
Шестая койка
Когда издательство затеяло переиздать моих двух «Паровозовых», было решено выпустить их в новых обложках, уже в третий раз. Это чтоб и мне стало казаться, будто у меня не две книжки, а полдюжины. А на обложки придумали поместить мои фотографии того времени, о котором идет речь в повествовании.
Фотографии той поры у меня были. Немного, десяток-полтора. Их сделал в начале восемьдесят третьего мой друг Ванька Романов. Он тоже работал медбратом, мы с ним одновременно пришли в реанимацию, как только окончили училище при Первом меде. Но если я туда попал случайно, можно сказать – сдуру, подав документы в училище после первого провала в институт, то Ванька ни о каком врачебном поприще даже и не помышлял. Просто решил стать медбратом, безо всяких дальнейших перспектив.
Он происходил из церковной семьи, что по тем временам казалось делом удивительным. Отец его был ктитором храма в Сокольниках, дядя имел приход в Литве, а брат Колька зарабатывал на хлеб в качестве референта иностранного отдела Московской патриархии.
Жили они так, что не снилось никаким профессорам, народным артистам и даже фарцовщикам. Огромная квартира на Фрунзенской набережной, дача с двумя бассейнами, баней и бильярдом, а машины они меняли чаще, чем обычные люди ботинки.
Несмотря на это, Иван был парнем скромным, достаток не демонстрировал, лишь изредка позволял себе то на отцовских «жигулях» на работу приехать, то заявиться в канадской дубленке брата Коли.
Вот и тогда он притащил на субботнее дежурство какой-то диковинный фотоаппарат, хромированный, тяжелый, с большим объективом, затвор у которого спускался с солидным жужжанием.
Вечером как нельзя кстати нашлась свободная минутка, и мы давай фотографироваться. Молодые, бестолковые, нам тогда еще и двадцати не было. Поэтому все больше рожи строили, дурака валяли.
Альбом обнаружился в нижней тумбе шкафа, в самом дальнем ряду. Вот они, эти фотографии, стандартного формата, черно-белые. Я позирую на больничном фоне, под белым халатом угадывается хирургическая форма. Все как по заказу. Там же нашлись фотографии институтской поры и времен работы в Первой градской, как раз на вторую книжку, где заглавный персонаж уже малость постарше. Минут за пять я их отсканировал и скопом отослал художнику издательства Андрею Бондаренко.
Тот уже ближе к ночи ответил, что для первой книжки вполне сгодится фотография, где я сижу на полу около койки. А для второй, по мнению Бондаренко, самая лучшая та, где забытый ныне фотограф подловил меня у кафедры оперативной хирургии, с папироской во рту, но подобное безобразие не пропустит цензура, так как содержит открытую демонстрацию курения табака, что нынче является абсолютно недопустимым, почти как призыв к свержению власти.
Поэтому над второй книжкой Бондаренко еще будет думать, а фотографию для первой он с чистым сердцем завтра же предложит издательству.
Уже попрощавшись, я вдруг решил внимательно разглядеть выбранную им фотографию во всех подробностях.
На ней я запечатлен сидящим в проходе между столом и четвертой койкой в первом блоке нашей реанимации, рука подпирает щеку. Вид у меня несколько уставший, немного печальный, чтобы не сказать – жалобный. На столе угадываются какие-то бумаги, пузырек дешевого клея и настольная лампа. За мной стоит аппарат для искусственной вентиляции легких модели РО-6, и если приглядеться, то можно увидеть, что ручка регулятора объема у него присобачена к пластиковой шкале крест-накрест пластырем.
Я тут же вспомнил этот аппарат – с удивительным постоянством я фиксировал всякую ерунду, на долгие годы накрепко врезавшуюся в мозг. У этого аппарата действительно во время работы регулятор объема медленно смещался с каждым дыхательным циклом, и чтоб он не сползал на максимум, его приходилось крепить подручными средствами.
Затем всплыла фамилия больного, что в то дежурство лежал на первой койке, – Мельников. Мельников накануне получил ножом в сердце во время драки на рабочем месте в инструментальном цеху. То, что на заводах нравы суровые, я убедился за месяц школьной практики в качестве токаря на заводе ЗИЛ.
Мельникова привезли вовремя, моментально взяли на стол, заштопали, по части хирургии там был полный порядок, но из-за недостатка кислорода по причине массивной кровопотери у него пострадал мозг. И он, скорее всего на время, ну а может, и навсегда, превратился в полного дурачка. Лежал и сутки напролет распевал матерные частушки, так что к вечеру мы выучили их наизусть и даже подпевали про себя:
Когда мы утомлялись от этого вокала, то кололи ему седуксен, и на пару часов наступала тишина. Жена Мельникова очень жалела мужа, она была женщиной простой, со своими представлениями о реабилитации в послеоперационном периоде, поэтому нажарила ему полный таз котлет и торжественно вручила их мне в часы приема передач.
– Вы уж там проследите, чтоб Петя все съел, – попросила она, заглядывая мне в лицо, – а то загнется мужик от вашей шамовки больничной.
Мы с Ваней честно, маленькими кусочками, пытались кормить Петю, но тот, еще не отошедший от последствий недавней поножовщины, быстро утомился, насытившись всего-навсего половинкой котлеты.
Котлеты были такие красивые и источали такой умопомрачительный аромат, что мы недолго сопротивлялись искушению. Вечно сытый Ваня съел две, а я четыре. А потом мы эту огромную миску в холодильник затолкали, совесть все-таки надо иметь.
Это было в субботу, а в понедельник Мельникова перевели в отделение. Его катили на хромированной финской койке, в ногах у него стояла эта миска с котлетами, и он распевал во всю глотку:
Санитары отводили глаза, мол, мы здесь совершенно ни при чем, а с дурака спрос невелик.
Да бог с ним, с этим Петей Мельниковым, хотя его слабоумие было и занятным. В это время на противоположном конце блока, на шестой койке, лежал другой человек.
Скорая доставила ее поздним вечером в канун Нового года. Это было не традиционное поступление с улицы, а перевод из другой больницы. Но переводы происходят днем, а тут прикатили на ночь глядя, да еще без предварительного согласования. Бригада пояснила, что в той больнице, куда она поступила позавчера, нет нейрохирургии, а у нас имеется. Поэтому решили везти сюда, ведь кроме изолированной черепномозговой ничего не нашли, вот нашим нейрохирургам и разбираться.
Все понятно. Пошли вторые сутки после госпитализации, она помирает, и тому стационару неохота летальностью показатели портить, вот и решили пациентку сбагрить, пока не поздно.
А то, что она помирает, было ясно уже при первом на нее взгляде. Лежала серая, с разбитым в кашу лицом, на каком-то грязном одеяле и дышала через раз. А когда в машине измерили давление, а там меньше восьмидесяти в систоле и брадикардия, сомнений и вовсе не осталось.
Как обычно, вяло поругали скорую. Что же вы в таком состоянии везете больную с другого конца города и ничего во время транспортировки не предпринимаете? Хоть бы для понта банку какую прокапали, вы ж не таксисты. А у них стандартный ответ наготове, будто все они одну методичку читают. Мы, говорят, собирались и капать, и колоть, но так торопились, так спешили, что не успели. Им ведь действительно – только бы довезти. Таксисты и есть.
Перед тем как рвануть в ночь на своей кибитке, они сообщили на посошок, что, по их данным, девушку случайно обнаружили на дороге, по всему видно, что ее сбила машина, скорее всего грузовик, от удара она пролетела несколько метров, врезавшись головой в бордюр, а машина конечно же умчалась, найди ее теперь, да и искать никто не будет, это ж ведь не кино.
Мы ее принимали с доктором Мазурком. Он был комсоргом нашего отделения и все время пытался сделать из меня человека. Подлавливал в укромном месте и начинал:
– Леха, – спрашивал он устало, – ты ведь комсомолец?
Я обреченно кивал, понимая, куда он клонит.
– А знаешь ли ты, – продолжал Мазурок, – кто может считаться комсомольцем?
– Каждый субъект, достигший половой зрелости, Юрий Владимирович! – пытался безуспешно острить я. – И уж особенно тот, кто в состоянии запомнить, сколько орденов у Ленинского комсомола.
Про ордена у комсомола – это был любимый вопрос во всех райкомах на собеседованиях для вступающих в ряды ВЛКСМ. И что орденов этих шесть, знали все, включая совсем уж безнадежных олигофренов.
– Нет, Леха! – вовсе не собираясь поддаваться на мои провокации, торжественно объявлял Юрий Владимирович. – Комсомольцем может считаться тот, кто признает устав и вовремя платит членские взносы!
После чего следовал традиционный вопрос:
– Ты взносы платить собираешься?
Собственно, ради этого все и устраивалось.
Ну и под занавес, получив от меня заверения, что взносы мной будут уплачены в ближайшее время, повеселевший Мазурок обычно советовал:
– Да! Чем дурака валять, ты бы лучше физику учил, Леха!
Какой уж тут дурака валять при таком графике. А насчет физики – это правда. Я из-за этой проклятой физики к тому времени уже третий раз в институт пролетал.
Вот с Мазурком мы и колдовали полночи над этой девушкой. Она толком уже не дышала, сразу на аппарат загремела. Как только ее эти деятели со скорой довезли без интубации – непонятно.
Мазурок тогда стал у нее и лечащим врачом. Юрий Владимирович являл собой редчайший пример комсорга, но при этом хорошего и грамотного доктора. В этом смысле Наташе – так звали эту девушку – повезло. А в остальном дела там были совсем кислые. Тяжелейший ушиб мозга, кома. Ни сознания, ни дыхания, ни движения.
Нейрохирурги разводили руками, внутримозговых гематом там не оказалось, оперировать было нечего.
Ее положили в первом блоке на шестую койку, вели консервативно, лечили, не халтурили, но без особых надежд. Хотя она была молодая, всего девятнадцать, мне тогдашнему ровесница, мы-то знали и видели, как и у молодых заканчиваются такие травмы. Если и отек мозга не доконает, так кроме этого есть еще и пневмония, пролежни, сепсис.
Шло время. Она не умирала, но и не улучшалась. Лежала горячая как печка. При тяжелых травмах мозга температура шпарит из-за повреждения центральных структур, и такую температуру ничем не сбить.
А еще к ней приходила мама. Вернее, не совсем к ней. Тогда в реанимацию не пускали. Все контакты были в холле у дверей отделения. Поэтому она не видела свою дочь, а лишь четко являлась к часу дня, беседовала с Мазурком и приносила передачи. Каждый день. Неизменно приветливая и в ровном настроении. Это бывает далеко не всегда, чтобы родственники приходили каждый день. Да. Многие не знают, но пациентов в реанимации навещают ежедневно не так часто, как представляется. Некоторых совсем редко. А иных и вовсе никогда.
Я всегда безошибочно определял, как к тому или иному нашему больному относятся домашние, стоило мне открыть тумбочку, лишь по виду передач.
Передачи, что приносила мама Наташи, были на загляденье. Все бутылочки и баночки разложены, упакованы, подписаны. Что вводить в зонд на завтрак, что на обед, а что на ужин.
И там, в каждой передаче, всякий раз лежал маленький пакет. Точнее, бумажный кулек. К нему черной аптечной резинкой был прикреплен листочек. Половинка страницы из тетради в клетку. И несколько слов ровным красивым почерком.
Уважаемые медики. Большое спасибо за заботу о моей дочери Наташе.
Это вам к чаю.
За все эти долгие дни и недели текст не менялся.
В кульке были конфеты. «Мишки», «Белочки». Немного, граммов двести. Как раз на нашу сестринскую бригаду.
Каждый день. Каждый день кулек с этой запиской. И на каждом дежурстве, к каждому вечернему чаепитию мы вытряхивали эти конфеты на блюдце. И я видел, как кто-нибудь из сестер нет-нет да и смахнет слезу.
А ведь те, кто работают в реанимации, они далеко не сентиментальные люди. И чтобы их проняло, это надо постараться. Но у нее, у мамы этой Наташи, получилось. И дело вовсе не в конфетах.
Сами того не замечая, мы стали чаще к ней подходить. Чаще перестилать. Чаще крутить, вертеть, переворачивая с боку на бок. Устраивали ей мытье головы, даже в ванной купали, двое поддерживали на простыне, а так как она не дышала, еще кто-нибудь один проводил вентиляцию с помощью специального мешка. За несколько месяцев комы у нее не появилось ни единого пролежня, и это в отсутствие санитаров.
Однако все понимали, что шансов немного. И Мазурок всякий раз говорил матери, что вероятность положительного исхода невелика. Но та будто и не слышала, все так же являлась к часу дня для беседы, и кулек с запиской был в каждой передаче.
Когда к концу третьего месяца Наташа пошевелила пальцем, то матери говорить не стали, боясь обнадежить. Может, это какие-то остаточные рефлексы или судорога.
Еще через неделю появились отчетливые движения в правой руке. Спустя три дня она стала приоткрывать глаза на окрик. А еще через неделю стала сопротивляться аппарату. Задышала сама.
Но порой выход из комы после такой травмы – это еще ничего не значит. Можно начать дышать, даже ходить, но остаться растением. На всю отмеренную жизнь. Сколько мы выпустили таких. Лежат, уставившись в потолок невидящими глазами.
Я подтаскивал к ее койке стул, садился рядом, вкладывал руку в ладонь и приказывал:
– Пожми руку!
И чувствовал, как она своей теплой слабой кистью пытается сжать мои пальцы.
Чтобы исключить бессознательное, говорил:
– Пожми два раза!
Замирая, ждал. И она пожимала. Раз. И через секунду другой.
Сердце мое тут же ускоряло бег. Значит, не растение. Значит, есть надежда. Я не уходил сразу, сидел еще несколько минут и просто смотрел.
В день, когда ее решили отключить от аппарата, у ее койки собралось все отделение, даже буфетчица и сестра-хозяйка.
Мазурок сам вытащил ей трахеостомическую трубу и громко спросил:
– Как зовут тебя?
И она просипела:
– Наташа!
Кто-то из сотрудниц заревел, размазывая слезы.
– Как дела у тебя, Наташа?
Та обвела всю нашу толпу мутным еще взглядом и вдруг произнесла:
– Я беременна.
Тут все дружно засмеялись, стали хлопать Мазурка по спине:
– Ну Юрка, ну молодец, и лечишь хорошо, и времени зря не теряешь!
А тот смущенно махал рукой:
– Да ну вас, придурки!
А потом отправился в холл, где за дверями ждала ее мать.
Сегодня для нее хорошие новости.
Мы решили держать ее у себя подольше. Передержали лишних пару недель. Тех, кто так тяжело достался, не спешили переводить в отделение.
Было уже лето, я дежурил по второму блоку, когда со стороны холла раздался звонок. Раньше там у нас были двери из толстого стекла, к Олимпиаде на них даже нарисовали красивую эмблему «Москва-80», но стекла быстро разнесли каталками, оказалось, что они хоть и толстые, но бьются в мелкую крошку. Поэтому установили обычные деревянные двери, покрасили их белым и приладили звонок.
За дверью стояла мама Наташи.
– Ой, Леша! Как хорошо, что вы сегодня дежурите! – Она знала всех нас по именам, выучила за все те месяцы. – Наташа сегодня хотела зайти, сказать спасибо. Нас в пятницу выписывают. Домой идем. Я сейчас только поднимусь за ней в отделение, мы минут через десять будем, ладно?
Почему-то я страшно разволновался. Просто места себе не находил. Наверное, потому что не видел Наташу с того дня, как ее отправили долечиваться в нейрохирургию. А еще потому, что наши больные очень редко приходят сказать спасибо. Мы почти никого их не видим после перевода. А когда случайно встречаемся в коридорах отделений, то не узнаем друг друга.
Я сбегал в гараж, судорожно перекурил и принялся ждать.
Закатное солнце сквозь окна било в глаза, и когда они показались в дверях, у меня не получилось сразу разглядеть Наташино лицо, только силуэт, хотя я тут же отметил, что она идет сама, легко и без поддержки.
Потом, когда рассмотрел, то в первое мгновение даже дыхание перехватило. Как-то из-за всего вместе. А девочкой она оказалась очень красивой, ладной, стройной. В розовых брючках и полосатой футболке.
Нет, я бы никогда ее не узнал. Когда она у нас лежала, отекшая, опухшая, с ободранным об асфальт лицом, там даже возраст трудно было разобрать.
Она первой протянула руку и пожала мне пальцы. Сильнее, чем тогда, при первых проблесках сознания. И так же, как тогда, у меня заколотилось сердце и пересохло во рту, хотя это было обычное приветствие.
Я их усадил в кресла, а сам остался стоять. Разговор поначалу не клеился, выскакивали первые, какие-то неловкие слова, к тому же я стеснялся глаза на нее поднять. Ведь мы чего только с ней не делали за это время, а тут такая! Она вдруг спросила:
– Много со мной было возни?
И я почему-то соврал:
– Да нет, ерунда!
Чуть позже, когда мы уже расслабились, разговорились, я заставил ее развязать косынку и полюбовался шрамом от трахеостомы. Нормально мы с Мазурком сработали, а то иногда смотреть страшно. Заметил, что плохо еще слушаются пальцы левой руки.
– Я, как только вижу своего инструктора по ЛФК, вернее, ее красные брюки в конце коридора, – с легкой улыбкой сообщила мне Наташа, – сразу пытаюсь удрать куда-нибудь, забиться, спрятаться, так больно эту руку разрабатывать.
Мы еще немного поговорили. Под конец я настолько осмелел, что спросил:
– Слушай, а почему ты, когда очнулась, сказала, что беременна?
Тут они обе переглянулись и засмеялись.
– Неужели так сказала?
Я подтвердил.
– Мы живем напротив роддома. И я часто смотрю, как там под окнами орут новоиспеченные папаши, как приезжают наряженные машины, как забирают мам с детьми, – стала объяснять она. – И часто я думала, настанет ли такой день, когда я буду лежать в этом роддоме и смотреть уже оттуда на окна нашей квартиры. А когда очнулась после какого-то странного тяжелого сна без снов и увидела вокруг людей в белых халатах, то, видимо, решила, что пришел этот самый момент.
За все время разговора мать не произнесла ни слова. Не отрываясь, смотрела на свою дочь и улыбалась. Уже надо было прощаться, я решил их проводить по лестнице до выхода на первый этаж. Пока мы преодолевали эти три десятка ступенек, я вдруг почувствовал, что не узнал что-то очень важное. И тут понял, что именно. В дверях придержал мать за руку и спросил:
– Вы кем работаете?
– Медсестрой! – ответила она. – Я всю жизнь медсестрой работаю. Раньше в больнице, сейчас в поликлинике.
Вот оно что. Она знала, от кого тут все зависит. Понимала цену лишней секунды внимания. И я сказал:
– Спасибо вам большое!
Она взглянула удивленно, ничего не ответила и поспешила за дочерью, та уже подходила к лифту. Розовые брючки и футболка в полоску.
Больше я их никогда не видел.
Утром я ехал домой и впервые за долгое время ощущал не апатию и опустошенность, столь обычные после бессонного дежурства, а странное умиротворение. Настолько явное, что даже подумал – может, не такая уж страшная ошибка эта моя нынешняя работа. Да и в институт поступлю, мне бы только физику сдать. Все еще будет. Все не напрасно.
Книжка вышла с той самой фотографией. И теперь всякий раз, когда я смотрю на обложку, то думаю о тех нескольких словах на листочках в клетку и женщине, что много месяцев, день за днем, отвоевывала свою дочь у смерти.
Шестая койка, где лежала Наташа, в кадр не попала, но я знаю, что мне, тому, что на фотографии, сидящему между кроватью и столом, достаточно подняться, сделать несколько шагов и коснуться ее рукой.
Петушок на палочке
Анастасии Бардиной
– Я вам уже сто раз говорила, мамаша, с такими миндалинами он так и будет всю дорогу болеть! – сердито сказала тетя врач и бросила свою дурацкую железку в белую кривую миску, отчего там противно звякнуло. – Удалять и даже не думать!
Мама стояла где-то там, за спиной, я ее не видел. Тетя врач посмотрела на меня и добавила строгим голосом:
– Так, а ну прекрати давиться, я давно закончила!
Я тут же перестал, хотя она закончила не давно, а только что, а эта железка, которой смотрят горло, она такая длинная, целый километр. Дома врачи берут ложечку, от ложечки тоже давишься, но не так сильно. У врачей вообще полно всякого, чем они делают больно. Вот мне Ася, моя двоюродная сестра, еще давно рассказывала про шприц и показывала его на картинке. На шприц надевают иголку и колют этой иголкой того, кто заболел.
Ася тогда спросила:
– Если болеешь, зачем же еще иголкой колоть? От этого же только хуже будет.
И правда непонятно. Еще у врачей есть пинцеты, такой пинцет лежит у деда Яши в ящике стола. Пинцетом вырывают зубы, когда они болят. Это тоже Ася рассказала. Ася умная, она все на свете знает.
У тети врача целая куча инструментов. Вот они, рядом, на белой тряпочке. Я стараюсь туда не смотреть, но голова сама поворачивается. И длинные есть железки, и с маленьким зеркальцем на конце, и разные кривые иголки, и короткие трубочки, мне одной такой только что уши смотрели, больно не было, только в ушах стало холодно. Еще есть всякие блестящие гнутые ножницы, маленькие ножички и маленькие ложки с толстыми-претолстыми ручками. Но больше всего я боюсь такой страшной штуки, она с одного конца как ножницы, а с другого – как щипцы, когда на нее смотрю, у меня не в ухе, а в животе холодно становится.
Нет, все-таки лучше болеть дома и никуда не ходить. В поликлинике, кроме картинок на стенах, нет ничего интересного. Я люблю эти картинки разглядывать, там есть очень страшные. Они ведь чем страшней, тем интереснее. Самые страшные висят в конце коридора, но когда я с бабой Аней, она меня туда не отпускает. Наверное, боится, как бы со мной не случилось то, что с котенком из книжки. Он ночью по лунной дороге отправился на луну, вернулся весь в лунном свете и светился в темноте как лампа. Вот бы мне так.
Но баба Аня сказала, что знать ничего не желает ни про котенка, ни про луну, ни про все остальное. Она меня всегда учит, чтоб я вел себя как послушный мальчик, а то вдруг люди посмотрят на меня и скажут, что я озорник. Вести себя как послушный мальчик – это молчать, не бегать и ничего не трогать.
Сегодня мы здесь с мамой, все потому что баба Аня вчера опять стала жаловаться, какая она старая, как ей со мной тяжело, какой я непослушный, и пусть мама берет отгул. Еще добавила, что скоро умрет и всем на это наплевать, но мама сердится, когда это слышит.
– Ты уже двадцать лет твердишь о своей скорой смерти, смени пластинку.
Но ведь у бабы Ани нет ни пластинок, ни проигрывателя. Она радио любит слушать, никогда его не выключает. Пластинки есть у нас на даче, где мы с бабой Людой, другой моей бабушкой, любим слушать песни Вертинского и разные сказки. Вот из-за того, что мама все перепутала, баба Аня сразу же обиделась и сообщила, что теперь-то уж она точно со мной никуда не пойдет. Баба Аня всегда обижается. Обижается и тут же плачет. Баба Люда обычно говорит:
– Сочувствую, Танечка. Вашей маме что заплакать, что в туалет сходить.
Мне жалко бабу Аню. Тех, кто плачет, всегда жалко. Зато я знаю, кто бабу Аню не жалеет. Тетя Люся – жена дяди Лени, маминого брата. Недавно у бабы Ани день рожденья был, и там гости курили, шумели и говорили: «Дай бог тебе здоровья, Анечка, живи до ста лет». Но баба Аня замахала на всех руками и пожаловалась, что, может, даже до зимы не доживет, так себя плохо чувствует. Тетя Люся как раз посуду выносила на кухню и, когда мимо меня проходила, сказала негромко:
– Ты нас еще всех переживешь, ведьма старая!
– Вот что, мамаша, дам я вам направление в Филатовскую. – Тетя врач встала со стула и повернула зеркало с дырочкой у себя на голове. – Лучше ложитесь прямо сейчас, пока жара не наступила.
Я люблю, когда жара. Мы тогда на пруд ходим купаться. У нас на даче пруд есть. Там еще в прошлом году один дядя утонул. Он потом на берегу лежал, не шевелился, все на него смотреть ходили, и мы с Асей тоже.
– Так, держите, мамаша, подпишите у заведующей, печать в регистратуре. – Тетя врач протянула бумажку. – И не затягивайте, а то так и до порока сердца допрыгаетесь.
Прыгать я тоже люблю. У нас в Москве в комнате диван стоит, на нем очень здорово прыгать. Но мама не разрешает на диване прыгать, говорит, что я его продавлю. Наверное, когда с больным горлом прыгаешь, можно себе сердце продавить, и оно перестанет стучать. А если сердце перестает стучать, человек умирает. Это баба Люда нам рассказывала недавно.
Баба Люда много всего нам рассказывает и много всего читает. А больше всего она любит рассказывать про Иисуса Христа и читать писателя Льва Толстого. Еще она любит играть на гитаре и петь песни. А одну песню она даже про меня сочинила и часто ее поет.
Тетя врач попросила, чтобы мы позвали следующего, мама сказала: «До свидания!», оставила меня в коридоре на лавочке, а сама пошла к заведующей. В коридоре было много людей, и детей, и взрослых, и никто не обращал на меня никакого внимания. Это потому что я сейчас веду себя как послушный мальчик. Молчу, не бегаю и ничего не трогаю, жалко, баба Аня не видит.
Буду сидеть и читать слова на той большой картинке, что висит напротив, хотя я ее уже наизусть знаю.
Там нарисованы дети с лицами как у измятых кукол.
– Жертвы пьяного зачатия! – прочитал я громко.
Сидящая под картинкой некрасивая толстая тетя вздрогнула и, прижав к себе некрасивую толстую девочку, с ужасом уставилась на меня.
– Какая прелесть! – всплеснула руками другая тетя, кудрявая, в очках, и засмеялась. – Боря, Боря, ты только посмотри на этого вундеркинда, он уже читать умеет, надо же!
Она ткнула локтем большого мальчика. Тот тоже был в очках, тоже кудрявый и читал толстую книгу. Мальчик взглянул на меня и снова уткнулся в книжку.
– За жертву пьяного зачатия так это зятю моему спасибо! – сообщила вдруг строгая старушка с палкой. – Таким внуком меня наградил, прости господи!
Рядом с ней сидел мальчик чуть меньше меня, с открытым ртом, из носа у него текли сопли.
Кудрявая тетя посмотрела на него, вздохнула, покачала головой и стала смотреть в книгу своего мальчика.
Тут вернулась мама, а эта кудрявая в очках ее спрашивает:
– Сколько лет вашему сыну?
Мама ей говорит:
– Четыре скоро, через два месяца.
Та удивилась:
– Надо же какой способный, да и вы молодец, научили, а мой Боря только к школе читать начал, зато сейчас все время с книжкой, приходится силой отнимать, зрение себе испортил, вот сидим к окулисту, пришли за рецептом на новые очки.
Подумаешь, я давно читать умею, я еще зимой рассказ «Филипок» сам прочитал. Зимой баба Люда нас с Асей читать учила. Но все обычно хвалят маму, ну и пусть. А очки носить не хочу, те, кто очки носят, все некрасивые.
Мы вышли на улицу, тут мама говорит:
– Отвезу тебя на дачу, а в начале недели снова за тобой приеду.
Я так обрадовался, даже запрыгал. Потому что на даче лучше всего. И хорошо, что мама туда приедет, а то я ее почти не вижу. Я ведь там живу, на даче, и зимой, и летом, в Москву меня редко берут. Конечно, в Москве тоже интересно, в прошлый раз мы в кино пошли, мама с папой и я, где фильм про индейцев показывали, «Чингачгук – Большой Змей». Фильм хороший, там индейцы эти друг в друга маленькими топориками кидаются, только я все время ждал, когда же появится этот большой змей, но так и не дождался.
В троллейбусе мама сказала:
– Тебе скоро горло полечат, зато потом можешь мороженого есть, сколько захочешь! И на юг теперь с нами поедешь, а то тем детям, у кого горло болит, на юг ездить нельзя.
Какой же у меня сегодня день счастливый! И на дачу отвезут, и мама скоро за мной вернется, а когда на Десне будем с дедом Яшей, он около остановки мне мороженое купит, а не только Асе. А еще мы на юг поедем, я, мама и папа. Я знаю, что такое юг, это там, где жарко и растут пальмы с кокосами, как в Тунисе, где тетя Юля, Асина мама, работала.
Мама приехала на дачу после выходных, даже ночевать не осталась, сказала бабе Люде, что прямо сейчас отвезет меня в Москву, чтобы утром в Филатовской быть. Баба Люда согласилась, что это правильно, и спросила про папу. Мама вздохнула и ответила, что папа ушел в поход на байдарках и будет не скоро. Байдарки – это такие лодки, на которых папа любит плавать по разным рекам. Баба Люда погладила меня по голове, и мы поехали в Москву.
В Москве я захотел посмотреть «Спокойной ночи, малыши!», но мама сказала, что телевизор сломался. Я немного поиграл, но одному, без Аси, играть было неинтересно, и тогда я лег спать.
Утром, когда мы шли в эту Филатовскую, я всю дорогу говорил, как здорово, что мне полечат горло и мы сразу пойдем есть мороженое, только мама почему-то молчала. Потом мы спустились в подземный переход, там стояла какая-то тетя в пестром платке, и, когда мы проходили мимо, она быстро заговорила:
– Купи леденец, красавица, сыну твоему радость будет, да и тебе счастье.
В руках у нее было много леденцов на палочках, но самым лучшим, самым красивым был огромный красный петушок. Я как его увидел, так и остолбенел.
Тут мама дернула меня за руку, сказала, что мы и так опаздываем, да еще ты встал, но вдруг посмотрела внимательно и спросила:
– Ладно, хочешь, я тебе куплю леденец?
И я ответил шепотом:
– Хочу!
Тогда мама достала кошелек и купила этого большого красного петушка. Тетя протянула его мне и рассмеялась:
– Держи свой гостинец, кареглазый!
Петушок был тяжелый, на толстой деревянной палочке, с большим пышным хвостом и красивым гребешком. Я шел и смотрел только на него, даже не заметил, что мы подошли к какому-то дому. Мама объяснила, что туда с леденцом нельзя и нужно его пока спрятать в сумку.
Мне очень не хотелось с ним расставаться, но я подумал, мы же скоро отсюда выйдем, отправимся есть мороженое, мама сразу мне отдаст петушка, и тогда все люди будут идти и смотреть на него, такого красивого. А есть я его не буду, отвезу на дачу и обязательно поделюсь с Асей.
Внутри того дома, куда мы пришли, люди очень быстро ходили туда-сюда. Мама стала у всех спрашивать, куда идти, но сначала никто не знал. Потом кто-то объяснил, что нам нужно в приемный покой. Мне показались очень смешными эти слова – «приемный покой». Когда мы его нашли, этот приемный покой, там были две тети. Одна сидела за столом, а другая стояла рядом. Та, которая сидела, спросила, есть ли у нас направление, и когда мама стала искать его в сумке, я постарался разглядеть там моего петушка, но тут мама сумку закрыла.
Тетя взяла у мамы какую-то бумажку, прочитала и сказала другой, что меня можно отправлять. Мы зашли с этой другой в соседнюю комнату, где она велела снять одежду, потом надела на меня чужие синие штаны, белую рубашку и повела по очень длинному коридору.
А я все время оборачивался, ведь нужно маму подождать, но тетя крепко держала меня за руку и все приговаривала:
– Иди, иди, не крути головой.
Когда мы поднялись по лестнице, тетя стала звонить в дверь. Нам так долго не открывали, что она даже удивилась:
– Спят они там все, что ли?
А я все стоял, оглядывался, ждал, что вот-вот мама покажется, но тут дверь открылась, там стояла новая тетя, и она сказала:
– Чего застыл, проходи.
Внутри было шумно от голосов, как в детском саду, меня туда водили всего неделю, потом я начал болеть и снова на дачу вернулся. Может, это такой детский сад?
Тетя посмотрела на меня и спросила:
– Ну что, долго здесь стоять собираешься? Иди за мной, палату покажу.
Мы пришли в огромную комнату, где бегало много детей и стояло много кроватей. Тетя показала пальцем:
– Вот твоя кровать, вот горшок, веди себя хорошо, а то влетит.
Я знал, что вести себя хорошо – не бегать, ничего не трогать и молчать, но все-таки спросил: а где же моя мама?
Она рассердилась и даже закричала:
– Придет, придет твоя мама, вот пристал, мне давно пора белье получать, а я тут сопли вам подтираю!
Подошли две девочки, большие, старше Аси, им, может, целых шесть лет или даже шесть с половиной. Они сначала просто смотрели на меня, и одна спросила:
– Тебя что, на операцию положили?
Какую еще такую операцию, путают они что-то.
– Нет, мне горло тут полечат, и я пойду с мамой мороженое есть.
А вторая девочка говорит:
– Понятно, значит, у тебя гланды. Всем, у кого гланды, делают операцию, но ты не бойся, она обязательно с заморозкой будет. Тут всем операцию с заморозкой делают.
Мне это совсем не понравилось.
– Нет, я не хочу операцию, не хочу заморозку, я хочу, чтобы мама за мной сейчас пришла, она меня ищет, но никак найти не может.
Первая девочка ко второй повернулась и сказала:
– Ладно, не пугай его! Разве не видишь, он совсем малыш, ничего не понимает, не надо ему про операцию говорить. Я всегда малышей жалею!
Вторая посмотрела на меня и кивнула:
– Теперь я сама вижу, что малыш, а сначала подумала – он взрослый.
Первая девочка говорит мне:
– Вот что, малыш, хочешь, мы будем о тебе заботиться?
И я ответил:
– Да, хочу.
Тут за мной пришла какая-то тетя, опять новая, девочки ее называли няней. Я няню спросил, нашлась ли моя мама. И няня ответила:
– Нашлась, куда денется.
А сама привела меня не к маме, а в маленькую комнату, где сидели тети врачи. Одна посмотрела мне длинной железкой горло и другой кивнула:
– Давай его на среду, во вторую очередь.
Я их тоже стал спрашивать про маму, и они сказали:
– Увидишь, увидишь ты маму свою, а сейчас ступай обратно.
Окрыли дверь и позвали няню, чтобы она меня в палату отвела. Потом был обед, после обеда всех положили спать, а я не спал, все ждал, когда придет мама. И когда нас подняли, ждал, и когда настал ужин, ждал, даже когда на ночь спать уложили, тоже ждал.
На следующий день мама опять не пришла. Я все смотрел и смотрел на дверь, представлял, как она войдет, скажет, что заблудилась, что искала меня днем и ночью, но теперь нашла, и мы с ней пойдем отсюда. А на улице она достанет из сумки моего петушка, и я буду идти, на него любоваться.
Те девочки, которые обо мне заботились, все время говорили, что мама придет, обязательно придет, не переживай.
На третий день, я только проснулся, ко мне подошла няня, сказала, что мне нельзя завтракать и чтоб я сидел на месте, а то ей меня еще искать. Я обрадовался, значит, мама пришла, наконец-то ей меня отдадут.
Я сидел на стуле, сидел долго-долго, пока опять не пришла няня. Она повела меня куда-то по коридору, где в конце была белая дверь, и я подумал, что за этой дверью стоит мама.
Няня приоткрыла дверь и что-то спросила. А я поднял глаза и прочитал надпись большими красными буквами под потолком: ОПЕРАЦИОННАЯ. И сразу понял – нет там никакой мамы. Понял, что за этими дверями и делают ту самую операцию, которой меня тут все время пугали. И мне стало так страшно, как никогда еще не было.
Из-за двери показалась тетя в белом халате, в белом колпаке и с белой повязкой на лице, у нее только глаза были видны. Она больно взяла меня за плечо и приказала: «Пойдем со мной». Сначала мы вошли в комнату, всю в белой плитке, с умывальниками на стене. В конце комнаты тоже была дверь, и за этой дверью раздавались какие-то странные, очень неприятные звуки. Тетя в белом открыла эту дверь и подтолкнула меня вперед.
Там стояли кресла, много кресел, в которых сидели дети. Над этими детьми стояли врачи с повязками на лицах и что-то с ними такое делали, отчего дети громко стонали, а врачи громко звенели своими инструментами. Когда я проходил мимо первого кресла, то увидел, как у мальчика, который там сидел, врач длинными щипцами достал изо рта огромную липкую кровавую сосиску, а потом бросил ее в таз, и подумал, что этот мальчик, наверное, сейчас умрет. Мне тут же захотелось убежать, но тетя еще сильнее сжала плечо и зашептала прямо в ухо:
– Так, иди не упирайся!
И мы пошли с ней мимо всех этих стонущих детей, мимо тазов, полных кровавых сосисок, мимо застеленных рыжей клеенкой столиков, с которых стекали какие-то темно-красные сопли, и пришли в самый дальний угол, где стояло пустое черное кресло со страшными желтыми ремнями.
Меня усадили в это кресло, туго привязали руки ремнями и вставили что-то в рот, отчего он перестал закрываться. А когда включили яркий свет, то напротив села незнакомая тетя врач в очках. У нее тоже была повязка на лице, поэтому я видел только ее очки и руки в перчатках, и когда она поднесла руки прямо к моим глазам, я вдруг увидел, что у нее не хватает одного пальца. Она взяла шприц с огромной иголкой и этим шприцом и этой страшной рукой без пальца полезла мне в рот. И стала делать мне так больно, что нельзя было терпеть, а кричать я не мог и поэтому застонал точно так же, как и другие дети.
– Лампу поправьте, ни черта не видно! – очень зло сказала тетя врач. – Да еще и шприц течет, не могли нормальный дать?
Она наконец вытащила этот свой шприц и скомандовала кому-то:
– Голову держите ему!
Потом она взяла в руку какую-то железку, придвинулась так близко, что я увидел свое отражение в круглом зеркале с дырочкой у нее на голове, и тут у меня в горле что-то захрустело, порвалось, забулькало, и я рванулся, забился, изо всех сил пытаясь вырваться из этих ремней, из этих сильных рук, державших меня.
Не хочу, не хочу вашего мороженого, не хочу ваш юг, я никогда больше не буду болеть, только отпустите, отпустите, не мучайте меня больше!!!
Я лежал на кровати, а рядом, на соседней, лежала девочка. Она была большая, даже больше тех девочек, которые обо мне заботились. Ее кровать была так близко, что, если протянуть руку, можно было дотронуться. Девочка лежала на спине, смотрела в потолок, а во рту у нее были ножницы. А может, даже и не ножницы, а та страшная штука, которая наполовину ножницы, наполовину щипцы. И эти ножницы были привязаны бинтом, намотанным вокруг ее головы.
Девочка лежала и пела. Я сначала никак не мог поверить, что она поет, и, хоть мне и запретили разговаривать, я шепотом спросил:
– Ты плачешь?
Она помотала головой и произнесла:
– А-а!
Ножницы мешали ей говорить. Я опять спросил:
– А что ты делаешь?
– А-па-у! – ответила девочка и скосила глаза на меня: – Па-у!
– Поешь? – удивился я.
Девочка кивнула и прикрыла глаза.
– И тебе что, – никак не мог поверить я, – совсем не больно?
– А-а! – помотала она головой и опять запела.
Так мы лежали долго, она пела, а я на нее смотрел. Потом пришли две няни, с такой кроватью на колесах, и сказали:
– Ну что, Зоя Космодемьянская, поехали!
И увезли ее куда-то.
А еще через два дня, сразу после завтрака, няня принесла мою одежду и приказала собираться.
Когда я переоделся, одна из тех девочек, которые обо мне заботились, протянула очень красивый цветок:
– Вот, держи! Это анютины глазки, я их для тебя специально на клумбе сорвала, отдай маме своей! Только скажи, чтобы она их в воду поставила, а то завянут. Мы же тебе говорили, что мама за тобой придет, а ты не верил.
Мама стояла на первом этаже вместе с тетей Юлей, что-то ей говорила и улыбалась. Она увидела меня и крикнула:
– Алеша!
Я подошел к ней, выставив вперед руку с цветком:
– Мама, вот тебе цветочек. Он называется анютины глазки. Девочки сказали, нужно обязательно его поставить в воду, чтобы он не завял.
И отправился к выходу на улицу.
Мы ехали в такси, я смотрел в окно, а мама негромко говорила тете Юле:
– Слушай, ничего не понимаю, думала, Алешка ко мне бросится, а он даже глаз не поднимает. Да и голос какой-то у него чужой, тоненький.
А тетя Юля ей отвечала:
– Танька, так бывает. Бывает, что и взрослые от боли и горя свихиваются. А голос – ему же там, наверное, все раскромсали. Да ты не переживай, пройдет.
А я смотрел в окно и все думал о той девочке с ножницами во рту. Куда ее тогда повезли? Что она сейчас делает?
Дома я немного походил по комнатам, полистал книжки, а потом спросил:
– Мама, где мой петушок на палочке?
И мама сказала:
– Знаешь, на твоего петушка кто-то книгу тяжелую положил и раздавил. Пришлось выбросить, от него ведь только крошки остались.
– А палочка? – снова спросил я. – Палочка от него, она где?
– Да и палочку тоже выбросили, – пожала плечами мама. – Зачем тебе эта палочка?
– А куда, – я все никак не мог поверить, – куда ты его выбросила?
– Как куда? – удивилась мама. – В мусоропровод, куда же еще!
Было уже поздно, я долго лежал в кровати, все представлял себе эти блестящие красные крошки, которые остались от самого красивого, самого лучшего, самого дорогого моего петушка. И как их берут и высыпают в мусоропровод. И вдруг я горько заплакал, впервые за эти несколько дней. И плакал долго, пока не уснул.
Давай еще подождем
Эле Аракеловой
– Странно! Очень странно! – в который раз за последние три часа произнесла мама. – Ведь обещали же встретить. Она снова стала напряженно вглядываться в раскаленную безлюдную степь.
– Может, у них что-нибудь случилось?
– Может, и случилось! – легко согласился я, хотя меня никто и не спрашивал, мама завела традиционный разговор сама с собой, и влезать было совсем необязательно. Да и потом, к версии, что у них что-то случилось, мама возвращалась с завидным постоянством. Чтобы ей не было одиноко, я тоже начал обозревать пространство в разных направлениях, но все-таки не удержался и вполголоса пробормотал: – А может, и ничего не случилось!
Рельсы уходили куда-то за горизонт, искривляясь в жарком июльском мареве. Интересно, сколько нам еще ждать? У меня скоро мозги закипят.
– Давай еще подождем! – будто услышав мои мысли, предложила мама, видимо тоже сама себе, потому как в мою сторону и не посмотрела. – Не могли же они про нас забыть?
Почему это не могли? Я вот читал в журнале «Вокруг света» про одного человека, его контузило во время войны. Так он вообще все забыл, тридцать лет ничего не мог вспомнить, в том числе и свое имя. Но в прошлом году к нему вдруг память вернулась, он даже указал место на чердаке, где еще школьником свою копилку спрятал.
– Сними рубашку! – вдруг обратив на меня внимание, приказала мама. – Загорай! А то лето скоро кончится, а ты совсем бледный.
Маме всегда хотелось, чтобы я был другим. Не таким, как на самом деле, а былинным богатырем. Неделю назад, едва меня увидела, так сразу расстроилась:
– Эх, Алешка, я-то думала, ты из лагеря высоким приедешь!
Оказалось, племянница ее подруги с майских праздников вымахала на целых восемь сантиметров, а я подкачал, так и не стал великаном с прошлого месяца.
Идея загорать мне совсем не понравилась, наоборот, очень хотелось залезть в тень, укрыться от этого злого солнца, но ни кустика, ни деревца поблизости не наблюдалось. Можно было зайти в маленькое здание вокзала, но мама на это не решалась, боясь разминуться с теми, кто нас должен был встречать.
Минут через двадцать показался товарный состав, он полз еле-еле, лениво перестукивая колесами, как и остальные поезда, что за это время проехали мимо нас. Будто у них у всех батарейки на исходе. Мы проводили его взглядом.
– Ну все, пошли! Не можем же мы тут до ночи торчать! – не успел поезд скрыться из виду, наконец-то решилась мама. Она тяжело вздохнула и оторвала от земли чемодан и большую сумку. – Так, не стой! Бери вещи!
Я тоже вздохнул, больше для порядка, надел рюкзак и подхватил ведро, которое с начала нашего путешествия уже успело отбить мне обе ноги.
Когда крышка ведра в очередной раз больно стукнула меня по колену, мама сообщила:
– Только у меня адреса нет!
Другой бы наверняка удивился, но не я. С мамой это вечная история. Вот собираемся мы в гости, мама уже в дверях звонит подруге, сообщает, что выходит.
– Да, Люда, напомни, какая там остановка от метро, седьмая? Этаж пятый, правильно? А квартира – тридцать четыре? Вот видишь, как я все помню. А дом? Какой? Ага, поняла, зеленый, рядом с остановкой. Ну все, жди, скоро будем.
Приезжаем мы, вылезаем из троллейбуса, а дело зимой, начало января, и в этом Чертанове мало того что тьма кромешная, вечер, седьмой час, так еще и пурга разыгралась, поди здесь разыщи зеленый дом. Да они в темноте все серые, даже очертания толком не разобрать, лишь окна в них светятся, а там люди за окнами сидят, хорошо им, наверное, тепло, сытно. И тут выясняется, что мама знает все, то есть этаж, номер квартиры, сколько там комнат, какие обои на стенах, книжки в шкафах, какие у подруги телевизор с холодильником. Но про номер дома, как и про название улицы, на которой дом этот стоит, не имеет ни малейшего понятия.
Как говорится, все в жизни бывает, в такой ситуации нужно всего-то разыскать ближайший исправный телефон-автомат, позвонить – и дело с концом, да не тут-то было. Номер телефона в записной книжке, а книжка дома, спрятана в тумбочке. Записную книжку мама с собой никогда не носит по двум причинам. Во-первых, у нее фотографическая память и шпаргалки ей ни к чему, а во-вторых, она очень боится книжку потерять, потому что тогда не сможет никому позвонить, так как телефоны наизусть она не помнит.
Здесь главное – ничего не спрашивать, мама этого очень не любит. Она обязательно скажет, что я только и делаю, что заставляю ее нервничать, да и вообще все это случилось из-за меня, потому что с таким все на свете забудешь, не то что адрес.
Мама с секунду озирается, затем рукой указывает путь куда-то туда, в направлении далеких мерцающих огней, и прямо от остановки отважно устремляется вглубь жилого массива. И мы, увязая в сугробах, в потемках пробираемся по дворам и пустырям, где ветер сбивает с ног, снежное крошево летит в глаза и за шиворот, и в каждом подъезде всех этих одинаковых домов, что попадаются на пути, мы поднимаемся на пятый этаж, где мама начинает исступленно обзванивать тридцать четвертые квартиры.
Встревоженным людям, что выбегают на эти лихорадочные звонки, запыхавшаяся мама задает единственный, но сверхважный вопрос:
– Простите, а ваш дом не зеленый?
Пару часов спустя, падая от усталости, обзвонив все тридцать четвертые квартиры в радиусе полутора километров, где никто из местных жителей так и не смог припомнить здания зеленого цвета, смирившись, что больше ничего не остается, кроме как возвращаться домой, мама от отчаяния совершает неожиданный поступок, то есть решается зайти в дом в десяти шагах от той остановки, на которую мы прибыли.
Надо ли говорить, что именно там обнаруживается искомая квартира, накрытый праздничный стол с давно остывшим ужином и потерявшая всякую надежду нас увидеть подруга Люда.
Кстати, дом оказался вовсе не зеленым, а стандартно белым, хотя при ярком солнце действительно с нежно-салатовым оттенком, но главное, как сказала мама, мы его нашли, остальное совершенно не важно.
Вот почему, когда мама сообщила, что она не знает адреса, я и бровью не повел, подумаешь, новости.
Мы посовещались, наугад выбрали одну из многочисленных дорог, что в разнообразных направлениях пересекали степь, и пошли себе, ковыляя, с нашей поклажей.
А началось все с того, что в начале июня в мамин институт прибыли две практикантки, Таня с Валей. Они были студентками химического техникума города Днепропетровска, откуда их направили в Москву на полтора месяца набираться уму-разуму. Девушки были стройные, глазастые, симпатичные, обеим по восемнадцать. Таня была брюнеткой, Валя – шатенкой. Таня поспокойнее, Валя побойчее.
И все бы хорошо, но почти сразу же выяснилось, что остановиться им негде. Институт был не учебный, а научно-исследовательский, без общежития. Да еще, как назло, в Москве у них ни родни, ни знакомых.
Первую ночь они провели в сквере на лавочке, вторую и третью на вокзале. Тане с Валей такая спартанская жизнь радости не доставила, строгие милиционеры вырастали как из-под земли, грозили штрафом и высылкой из столицы, а ночные лихие хлопцы мало того что приставали с глупостями, так еще и требовали пить с ними вино прямо из бутылки. Девочки приуныли, в гробу они видели такую практику, впору было паковать вещи и возвращаться домой.
– Ой, как же мы забыли! – встрепенулись сотрудники института. – У нас в соседней лаборатории женщина, так она одна живет в трех комнатах. Давайте в перерыв к ней забежим, может, она вас и пустит на квартиру.
Вот так Таня с Валей оказались у нас дома.
Мама была человеком компанейским, с людьми сходилась легко, общение было любимой формой ее досуга. Она тотчас выделила девочкам по комнате и денег с них не взяла. Телефон в новой квартире когда еще установят, я торчал в пионерском лагере, а тут как нельзя кстати две собеседницы, с которыми та же дорога на работу и обратно стала куда веселее. И как у мамы это водилось, очень скоро она стала ходить с Таней и Валей в кино, гулять в Измайловском парке, печь им пироги и покупать вкусное в отделе заказов местного гастронома.
Я увидел Таню с Валей уже под конец их практики, когда вернулся из лагеря. Именно в этот момент мама решила организовать им культурную программу, но прагматичная тихая Таня музеям и выставкам вдруг предпочла центральные магазины, и даже традиционный мамин напор действия не возымел, поэтому к прекрасному приобщилась только Валя.
Вместе мы побывали в Останкинском дворце, Музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее и в Московском зоопарке. Больше всего Вале понравился именно зоопарк.
Чтобы она не так уж завидовала Тане, мы отвели Валю в ГУМ, ЦУМ, Военторг и магазин «Ванда», где та накупила подарков родне, да и себя не обидела, обзаведясь польским замшевым поясом, индийской косынкой и гаванской сигарой за шестьдесят копеек. Как объяснила нам Валя, курить крепкое – лучшее средство, когда ломит зубы.
Вечером, совсем уж расстаравшись, мама устроила девушкам прощальный ужин при свечах, в конце которого Валя, раскрасневшись, встала с рюмкой в руке и с чувством произнесла:
– Татьяна Никитична, спасибо вам за все! Теперь и вы приезжайте до нас!
После чего мама, чрезвычайно воодушевившись, принялась выпытывать у Вали, что же такого необыкновенного есть в тех местах, куда ее пригласили сейчас исключительно из вежливости.
Тут необходимо сказать, что у мамы две главные радости в жизни: лес с грибами и речка с берегами.
И если по поводу речки я полностью разделял мамины чувства, то к лесу у меня отношение было не такое уж однозначное.
Дело в том, что мама рассматривала лес как источник пропитания и обожала, не разгибаясь, часами ползать в зарослях, разыскивая грибы-ягоды. Я тоже не чурался этого занятия, но был не столь самоотвержен, чтоб добровольно вставать с петухами, лишь бы быть в лесу первыми. На все мои робкие протесты у мамы был железный аргумент:
– А на Новый год ты грибы есть любишь?
Мне всякий раз хотелось объяснить, что люблю, но не до такой степени, чтоб из-за одного праздничного застолья полмесяца вставать ни свет ни заря и пропахивать километры на карачках, но вместо этого лишь опускал глаза и пожимал плечами.
Короче говоря, мама спросила Валю:
– А речка там есть у вас?
Валя широко развела руками, словно царевна-лебедь крылами:
– Велика ричка Псёл!
Мама невероятно обрадовалась и продолжила:
– А лес? Лес тоже есть?
Валя на секунду задумалась, кивнула и развела руки уже на максимум возможного:
– А як же! Великий лис!
С той минуты судьба отпуска была решена. Мама стала с жаром утверждать, что если куда и стоит ехать, так это только в те сказочные края. Погода там летом прекрасная, полно овощей и фруктов, а такому, как мне, деревенская жизнь лишь на пользу, я стану крепче, выше, шире, наберусь сил и здоровья перед учебным годом.
На следующий день, провожая Таню с Валей на вокзал, мама там же, при них, купила билеты прямо до места, получила от Вали жаркие заверения, что та нас встретит в определенный день и час, да не одна, вся многочисленная родня прибудет на станцию в честь дорогих гостей. Мы посадили девочек на поезд, помахали рукой и стали интенсивно готовиться к поездке. Два дня носились по магазинам и закупали разную снедь типа конфет, тушенки и селедки в горчичном соусе, а на третий двинулись в путь.
Сначала мы ехали до Курска на каком-то раздолбанном и грязном поезде. Попутчик, дядька с порванной ноздрей, свесившись с полки, кивая на меня, говорил маме:
– Вот почему я никогда не отправлю своего сына в пионерский лагерь! Смотрите, чему его там научили.
Подумаешь! Я всего-то рассказал десяток анекдотов, спел несколько песенок и честно признался, что хотя и курил всю вторую смену, но сейчас уже бросил. Но дядька битый час убеждал маму, что воспитание в коллективе превращает любого нормального ребенка в уголовника, и до конца поездки косился на меня с опаской.
В Курск мы прибыли поздно ночью, посидели там на платформе и через пару часов на другом поезде отправились в город Льгов. Оказалось, что тот, первый, который до Курска, был еще очень даже ничего – во всяком случае, там тараканы по людям не ползали.
До Льгова мы добрались рано утром и там решили позавтракать, но нам сказали, что буфет закрыт до сентября, пришлось есть конфеты из рюкзака и запивать водой из колонки. Наконец подали поезд до нужного нам полустанка. В который раз мы втащили вещи в тамбур и покатили.
Такой поезд я видел лишь в фильмах про гражданскую войну. Эти деревянные коробки на колесах и поездом-то трудно было назвать. В первых двух поездах хоть туалет был. Состав шел с черепашьей скоростью на юг и постоянно останавливался среди полей, а я все ждал, что на эшелон налетит банда какого-нибудь батьки Ангела. За это время мама успела объяснить, что путь мы держим туда, где проходит граница между Россией и Украиной. То есть там еще Россия, но говорят все уже по-украински. Но по-украински не так, как бывает на Украине, что невозможно понять, а как Таня с Валей.
Когда мы прибыли на нужную нам станцию, солнце уже стояло в зените. Платформы там не было вовсе, из тамбура пришлось спрыгивать прямо на землю. Я не удержал ведро, и оно с грохотом покатилось вдоль состава.
– И-ди-от! – по складам сказала мама.
Помимо нас из поезда вылезли две какие-то толстые бабы с огромными мешками. Они закинули поклажу в кузов поджидавшего их трактора, кряхтя и повизгивая, забрались туда сами. Трактор прокашлялся, дернулся, отчего бабы в кузове повалились друг на друга и завизжали с новой силой. Трактор вдруг заглох, но вскоре зафырчал, снова дернулся и поехал куда-то, весело тарахтя.
Никакой Вали, как, впрочем, и многочисленной родни, не обнаружилось. Вокруг нас на многие километры простиралась степь.
– Странно, никого нет! – удивилась мама, секунду помолчала и добавила уверенно: – Ну, ничего, подождем, сейчас они появятся.
Но они так и не появились.
Степь вкусно пахла. Она жужжала, стрекотала и посвистывала на все лады. Пыль на дороге была мягкая, теплая и глубокая, по щиколотку. Если топнуть ногой, она вздымалась красивым облачком. Такую пыль хорошо бы в пакет собрать и сделать бомбочку. Я снял кеды, связал между собой шнурками, повесил их на шею и пошел босиком.
Эх, если бы не это проклятое ведро! Чего я только не пробовал с ним делать! Тащу за ручку – бьет по ноге, несу на отлете – немеет рука, перехватил двумя руками перед собой – свело живот. А все мама, сдались ей эти грибы. И где она собирается их искать? За те несколько часов, что мы здесь блуждаем, я не то что леса, даже рощицы не заметил. Трава-мурава да редкие поля с сахарной свеклой.
Острова белых хаток были разбросаны тут и там, насколько хватало глаз. По дорогам между селами ездили редкие телеги с цыганами. Лошади от жары шли еле-еле и иногда вставали как вкопанные. Цыгане косили на нас глазом, лениво чмокали губами и дергали за вожжи. Когда телега проезжала, поднятая пыль долго тянулась дымным следом, казалось, будто телега горит. Однажды прогромыхал грузовик, и пыльный столб взвился на полнеба и висел долго-долго, а мы с мамой тут же стали с ног до головы как известью присыпанные, полчаса потом чихали и кашляли.
В первой же деревне, попавшейся на пути, мама отправилась в сельсовет.
– В таких местах, – уверенно сказала она, – все друг друга знают!
В хате, где висел портрет Ленина, сидели люди с цигарками в зубах и громко разговаривали. Едва мы туда ввалились, они повернулись на звук громыхающего ведра и с любопытством уставились на нас и на наши вещи.
– Слухаю вас, граждане! – обратился к нам, по-видимому, главный и указал на длинную лавку. – Сидайте!
Мама осталась стоять, а я уселся на ведро. Пусть хоть какой от него прок будет.
– Мы в гости приехали, из Москвы! – начала мама, обращаясь ко всем сразу, включая и Ленина на стене. – Нас встретить обещали, но почему-то не встретили.
При слове «Москва» народ дружно приосанился и обменялся многозначительными взглядами. Наверно, им было приятно, что в их края занесло столичных жителей.
– Так до кого вы прыихалы? – любезно осведомился главный. – Як звуть друзив ваших?
– Валя! Ее Валя зовут! – со всей готовностью сообщила мама. – Девушка, молодая, высокая! В Москве на практике была, в нашем институте! Она еще в техникуме учится, не то в Донецке, не то в Ворошиловграде!
Люди внимательно слушали.
– Не то в Харькове! – уже с некоторым сомнением произнесла мама, но энергично закончила: – В общем, в каком-то химическом техникуме!
И с надеждой посмотрела на людей вокруг.
Те пожали плечами.
– А в якому сели вона живе, ця Валя? – спросил другой мужик, с усами как у Тараса Бульбы. – У нас Валентин богато!
– В каком селе? – повторила мама и, немного замявшись, продолжила: – Я точно не знаю, но Валя говорила, что недалеко от станции, всего несколько километров.
Люди в сельсовете переглянулись.
– Так у нас в районе сорок сел, – вступил третий мужик, он говорил по-русски почти чисто. – Лучше скажите, как фамилия Вали вашей?
– Ой! Ее фамилия! – Потерла лоб мама и вдруг запнулась. – Фамилия…
Я-то сразу все понял и нервно заерзал на своем ведре.
А они сидели и ждали.
Наконец мама подняла глаза и начала задумчиво перечислять:
– Вот то ли Пакша, то ли Гакша, то ли Бакша…
– Мабуть, Гаркуша? – сочувственно подсказал кто-то. – Ни?
– Нет! – после долгой паузы неуверенно ответила мама. – Не Гаркуша.
– Знаете, – продолжила она, – у нее сестра еще есть младшая, родители.
Но и эти важные сведения не помогли.
Мама еще какое-то время перечисляла возможные варианты Валиной фамилии, но к цели это не приблизило.
Эти люди явно очень хотели нам помочь, они долго перебирали всех им известных Валь, но, как назло, нашей среди них не оказалось.
Валя-горбатая, Валя-вдовая, Валя Шумейко – мать троих хлопчиков, Валя Чумак-косая, Валя Гончар-дурочка и Валя Писарчук-трактористка.
Все эти Валентины не подходили либо по возрасту, либо по внешности, либо по семейному положению. А главное – в Москве из них никто не был отродясь.
И тогда мы поняли, что пора двигаться. Попрощались и отправились дальше.
Та же картина повторялась в каждом селе. Мама сбивчиво объясняла про то, как нас обещали встретить, да не встретили, рассказывала, какая из себя Валя, про ее практику в Москве и учебу в техникуме неизвестного города.
Под занавес маме традиционно говорили, укоризненно покачивая головой: женщина, как же вы ее на квартиру к себе пустили, а фамилию узнать не удосужились? Да еще, сами говорите, полтора месяца работали вместе. А уж ехать в такую даль, не зная ни имени, ни адреса, да еще не одной, а с хлопчиком!
– А я ведь помнила, помнила, – жалобно отвечала мама, – но вот сейчас почему-то раз – и из головы выскочило.
Мама и имена-фамилии – это вообще отдельная тема. Например, моего одноклассника Диму Кончакова она упорно звала Сережей Колпаковым, а одноклассницу Лену Теверовскую, ту вообще почему-то величала Таней Голубевой. И переучивать ее было делом безнадежным. Если разговор заходил об известных людях, например артистах, то в лучшем случае мама правильно произносила первую букву фамилии, а чаще и это была задача из непосильных. Самое интересное, что с течением времени я научился интуитивно разгадывать эти ее сложные шарады. Но если вдруг я делал вид, что не понимаю, о ком идет речь, мама начинала подозревать, что я над ней издеваюсь. Как она умудрялась при этом запоминать и легко произносить названия сложных химических формул типа циклопентанпергидрофенантрен, для меня всегда оставалось загадкой.
Тем временем пчелы перестали жужжать, бабочки порхать, солнце неумолимо клонилось к закату. От конфет уже тошнило, за весь день мы съели буханку, купленную в сельпо, запив колодезной водой.
Мы обошли пять или шесть сел. Лямки рюкзака натерли кровавые полосы на ключицах, а ведро с вечно звякающей крышкой довело меня до белого каления. На моих ногах уже не было живого места. Тысячу раз я собирался зашвырнуть ведро куда подальше за спиной у мамы, но, учитывая наличие в ведре гречки и риса, благоразумно воздерживался от этого шага, осознавая всю серьезность последствий.
Когда мы переходили по мосту через какую-то мелкую речушку, я остановился и вдруг неожиданно для себя сказал:
– Может, на станцию пойдем?
Мы плутали уже часов семь, если не больше.
На удивление мама не разразилась традиционной речью в том смысле, что какая еще может быть станция, когда мы приехали отдыхать, есть фрукты и набираться сил, и если б я ее не доводил, она давно бы вспомнила фамилию нашей Вали и даже адрес.
Нет, она остановилась, опустила сумку и чемодан. Посмотрела на меня растерянно и, можно сказать, виновато.
– Давай еще в одно село зайдем? Да и поездов, наверное, уже никаких нет, придется где-нибудь здесь на ночлег проситься. Должен же кто-нибудь нас пустить, за деньги?
– Давай зайдем! – легко согласился я. Мне вдруг стало очень жалко маму. – Вот смотри, впереди деревня какая-то.
Действительно, прямо по курсу виднелись хатки, розовые в закатном солнце. Поднажав, минут через десять мы дохромали до дома с табличкой «Правление».
Несмотря на вечер, внутри еще оставалось два человека: женщина в косынке, она сидела за столом, и мужик в пиджаке и кирзовых сапогах. Этот стоял рядом и, заложив пальцы за ремень, раскачивался с пятки на мысок, отчего его сапоги громко скрипели. Кроме Ленина, тут на стене висел еще портрет Карла Маркса.
В который раз мы втащили наши вещи, в который раз крышка ведра прогремела приветствие и в который раз, отвечая на вопрос, что нас сюда занесло, мама начала свой печальный рассказ, как нас обещали встретить, да не встретили, про Валю, техникум и практику в Москве.
И конечно, эти люди, как и все остальные, поинтересовались фамилией Вали.
И опять мама принялась за этот свой безнадежный пасьянс:
– Пакша, Гакша, Бакша, Макша, Лакша…
Лакша! За сегодня мама произнесла это впервые. И тут, как потом у меня иногда случалось в состоянии крайней усталости, я вдруг отчетливо увидел нашу квартиру, прихожую и табуретку, одиноко стоящую в углу. А на табуретке почтовый конверт. И на конверте, в графе «Обратный адрес», надпись синими чернилами: «Москва, Кирпичная ул., 8. Валентина Лахта». По возвращении из лагеря не успел я чемодан на пол поставить, как бросил взгляд на этот конверт. А ведь мне казалось, что ни одного слова я там прочитать не успел.
– Мама, – медленно сказал я, – а может быть, все-таки Лахта?
– Что? – раздраженно спросила мама. – Какая еще Лахта?
– Фамилия Вали нашей! – терпеливо начал объяснять я. – Не Макша, не Лакша, а Лахта!
– Лахта??? – переспросил мужик. – Так вы Валю Лахту шукаете?
Я кивнул.
Он вывел маму на крыльцо и указал на дом напротив:
– Дывитесь! От це хата!
Мы все-таки их нашли.
Когда в ответ на наш громкий и нервный стук наконец отворились ворота, первой, кого я увидел, была Валя. Она стояла, держала в руках какой-то тазик, видимо собираясь задать корм курам. Вся ее родня находилась там же, и все они уставились на нас. На их лицах читалось то же выражение, что у всех людей в многочисленных сельсоветах, что мы обошли за сегодняшний день. Казалось, еще немного – и кто-нибудь из них скажет:
– Слухаю вас, граждане, хто вы таки, що вам потрибно?
Первой молчание нарушила Валя. Она поставила свой тазик на седло мопеда и заголосила:
– Ой, ой, прыихалы! Мамо, тато, дывитися, це Татьяна Никитична!
Валин папа улыбнулся нам стальными коронками, мама золотыми.
– Татьяна Никитична, идите до хаты, «Четыре танкиста и собаку» бачить!
Валя сказала это так, будто мы уже виделись четверть часа назад, а сейчас случайно проходили мимо.
– Валя! Ну почему же вы нас не встретили! – начала мама, даже не укоризненно, а как бы немного извиняясь. – Мы весь день тут по такой жаре ходим, ищем!
Валя улыбнулась и махнула рукой:
– А що нас шукаты, тут вси знають, де Лахты живуть!
Мама заморгала и потупилась. Я засмеялся. Валя продолжила:
– Я сама хотила зустриты, потом батю попросыла, вин з кумом и поихав.