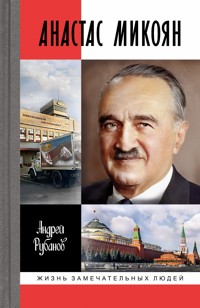Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Проза Андрея Рубанова
- Sprache: Russisch
Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами. Во времена, о которых здесь рассказано, букв ещё не придумали. Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в поисках любимого — его звали Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что она его найдёт. Но все помогали. В те времена каждый помогал каждому — иначе было не выжить. В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довёл до края земли, третий донёс до неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места. «Много сюжетных линий, удивительно продуманный язык каждого из трёх Иванов-рассказчиков, и ты листаешь и ждёшь, когда же оно всё сплетётся… Наверное, я хотела бы сделать саундтрек к фильму по этой книге» (Наталья О'Шей, основательница и солистка группы «Мельница»). «Роман Андрея Рубанова — внезапное чудо. Это несомненное литературное событие, это прекрасная сказка, сложно и ладно устроенная, это архетипическое фэнтези — выворачивающее наизнанку законы жанра, это многоуровневая работа со славянской мифологией, которая наконец-то не сводится к пересказу Афанасьева, Даля, Проппа и Фрезера — а распахивает бездны, где рождался и выживал дух, позднее оказавшийся русским. Неожиданная, необходимая и крутая книга» (Шамиль Идиатуллин, писатель).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Андрей Рубанов Финист – ясный сокол
Сказ первый Глумила
1.
Тут у вас хорошо. Интересно. Все пьяные, все весёлые. В таких местах бывать – одно удовольствие. Я люблю, когда шумно, когда толпа, когда не знаешь, что дальше будет. То ли ограбят, то ли приголубят, то ли взашей вытолкают.
Звать меня Иван.
Есть второе имя, заветное, но я его потом скажу, и то – если ты мне придёшься по нраву. А не придёшься – не скажу.
А третье имя, смертное, не скажу совсем. Его назову только богам, когда помру.
Да, у меня есть бубен. Большой, в мой рост. Его завтра на лодке привезут. Есть и малые бубенчики – не скажу где.
Скажу только, что отлили те бубенчики из такой чистой меди, что когда они звенят – даже змеи танцуют.
Потому что если я тебе скажу, где мои бубенчики, – так ты меня возьмёшь да зарежешь, ради той чистой меди.
Да, по-вашему я – скоморох. По-нашему – «глумила». Или «глумец». Шут, ага.
Скоморох, скоробрёх.
Конечно, я знаю ваш язык. Я сам венед. А ты, судя по говору, вятич. Вот, угадал.
А отец мой помер. Пошёл в лес, и его зверь задрал. Когда он меня родил, ему было восемьдесят четыре года.
Когда он помер, мне исполнилось пять.
Но рассказ вообще не про меня, а про молодую девку.
Если в рассказе нет молодой девки – это, как ты понимаешь, и не рассказ вовсе.
Обязательно девка должна быть.
Конечно, я не местный. Здесь у вас бывал – но очень давно. Может, лет семь назад. С тех пор всё тут изменилось. Лучше стало. Очень мне у вас нравится. Народу – толпа, все нарядные, на каждом углу пиво наливают и брагу. И девчонки красивые. Такие, что подойти страшно. Нет, я не робкий, я ж глумила, мы робкими не бываем. Перед старшинами не робею, в любой богатой гридне держусь как у себя дома, а девчонку увижу – сам не свой.
Нет, ты мне так много вопросов не задавай. Лучше налей.
Я буду рассказывать сначала коротко, затем всё более подробно. Моё лицо при этом может принять неприятное выражение. Кроме того, в определённое время я впаду в нарочитое состояние, могу крикнуть, или заговорить не своим голосом, или хватануть себя зубами за пальцы. Может и слюна изо рта пойти, или сопля из ноздри выбежать.
Но в таком телесном проявлении не будет ничего стыдного.
Я не обещал, что будет легко и приятно.
Ничему не удивляйся, просто слушай и получай удовольствие. Понимаешь меня? Хорошо. Тогда слушай.
Это было во время оно.
Очень, очень давно. Когда я был горячий, лёгкий, точный и весёлый.
Когда моему разуму открывается расстояние между тем борзым мальчишкой и мною теперешним – я ужасаюсь и восхищаюсь силе водоворота времени, протекающего через всё живое.
Коловрат всесилен, это так.
С тех времён я прожил ещё две судьбы. Был вором, потом колдуном. Теперь живу четвёртую судьбу. Может, и не последнюю.
Я мало помню из бестолковой юности. Только самое изумительное, самое стыдное и самое страшное. Наша память так устроена.
И вот эта девка была самый изумительный человек, которого я встретил в те лета.
А всё, что с ней случилось, – самая страшная быль изо всех моих былей.
В прочие годы передо мной появлялись и другие невероятные люди, скроенные по удивительным меркам, туго заряженные силой жизни. Но девка Марья первая из них встретилась мне в мельтешении людской гущи. Поэтому она навсегда со мной останется: на дне разума, в самой твёрдой памяти.
Моя мать была обычная баба, дочь бортника. А отец тоже был глумила. Скоморох. И мать, когда влюбилась, с ним ушла, и так родился я.
И дед мой тоже был глумила, и прадед.
Навыков много в этом деле, и они передаются от отца к сыну.
Но не обязательно: бывает, что отец – какой-нибудь простой засечный оратай, а сын – и поёт, и играет, и чего только не вытворяет.
Вот мой друг тех времён, рыжий Кирьяк – он был именно такой. Глумила в первом колене.
А я – потомственный, и число колен моих велико: мой род от Дамира, и от Глеба, и от Владуха, и от Новика, а там дальше и другие есть, и слава их гремела по всей Оке до самого Итиля и дальше до Лукового моря.
И пока я не начал своего рассказа, скажи мне – где тут можно недорого переночевать?
Отсюда – четвёртый дом? Но там нет домов, только землянки. Нет, я не против, но моим костям полезно спать на дереве. Без обид, ага? Допустим, ежели я заплачу полкуны лысых за три ночи? С хорошей хозяйкой? Подберёшь мне что-нибудь? Пока я не охмелел?
Рассказывать буду долго, предупреждаю, до утра могу, если твоей браги хватит.
Да, кстати! Пока не забыл. Вы тут, извиняюсь, кому требу подносите?
В смысле, какому богу жертвуете?
Чего молчите? Это простой вопрос.
Мать моя подносила Мокоши, чтоб был в доме достаток, и скотьему богу, чтоб дал ещё детей, и Хорсу, богу света и тепла. В моей родной селитьбе все подносили Хорсу – ну вот и мать подносила ему, а вы кому подносите?
Ага, понимаю. Ну что же, хорошо.
Вот и я ему теперь жертвую из первой чаши.
Да прольётся сладкая брага прямо в горло этого сильного бога.
Пошли удачу вашему дому, и чтоб его двери, когда надо, открывались во всю ширину – а когда надо, закрывались накрепко.
Сам я не скажу, чтобы часто подносил требу, и у меня нет какого-то одного бога, на которого я полагаюсь.
Мне кажется, боги мало про нас думают, а больше заняты своими делами.
Они такие же, как мы, они тоже движутся по кругу, они ничего не могут изменить.
Иногда мне кажется, что боги нас обманывают. Мы проливаем кровь на их алтари, а на самом деле наша кровь им не нужна, а нужно что-то другое.
Подожди, не надо так глазами сверкать. Я не хулитель богам. Но я не обещал, что рассказ будет простым. Мы уговорились, что я буду излагать, а вы слушать, – слушайте и молчите. Я жертвую, как любой другой нормальный человек, всегда, когда мне нужна подмога. Я бродяга, мы же глумилы, мы ходим из одного места в другое, а в каждой селитьбе свои порядки: в одном месте стоит Мара – и я жертвую Маре, в другом месте стоит Хорс, и я тогда жертвую Хорсу.
Конечно, от сердца жертвую, иначе какая жертва? Но, повторяю, я не из тех, кто по любому поводу курицу на требище несёт. Честно признаюсь. Когда закончу этот сказ, сами поймёте.
Один умный человек, живший на другом конце света, сказал: бог получает божью долю, а человек – человеческую. В общем, я больше думаю про свою, человеческую долю, а боги свою божью долю как получали, так и будут получать.
Однажды я был в городе, где стояли два идола, бог скота и бог неба, и эти идолы были такие древние, что от времени черты их стёрлись, и волхвы забыли, кто есть кто, и стали называть их просто «два бога», устроили общий жертвенник и приносили одну требу двум богам сразу. И ничего, богатый был город, красивый, и его жители не знали горя.
А в другом месте, далеко на севере, люди жертвовали окаменевшему черепу древнего змея, причём кровь не проливали, а отдавали зубы. Волхв брал дубовую киянку, выбивал человеку один-два зуба и клал внутрь черепа. Вот это жертва, я понимаю! Я видел тот череп – высотой в три сажени, он на одну половину врос в землю, а на вторую половину был доверху наполнен пожертвованными человечьими зубами. Сами волхвы при том змеевом требище тоже были без зубов, все кроме одного, молодого ученика – он всем остальным жевал.
А в третьем месте я видел идола, который весь по самую макушку был погружён в землю, но понемногу сам собой выпрастывался из земли, очень медленно, год за годом, на полвершка в год, выше и выше, так что однажды показались глаза, а затем и нос, и шея; в тот год, когда я его видел, он вылез по грудь. Ему жертвовали очень много, он был весь покрыт свежей кровью и выглядел почти живым – короче говоря, я оттуда быстро ушёл, как сейчас помню. Волхвы с того требища говорили, что когда идол выйдет весь из земли – он подпрыгнет, и в тот же миг весь средний мир лопнет пополам.
Нет, я не боюсь гнева богов. За что им на меня злиться? Кто я такой? Я не князь, не старшина, не ярл, не богач, не вор, не злыдень, я всего только шут.
Я боюсь одного: что мой рассказ не будет интересным.
Если ты перестанешь меня слушать, отвернёшься, начнёшь скучать, зевать и думать о постороннем – это для меня самая страшная беда.
По сравнению с этим – гнев богов ничего не стоит, поверь.
Поэтому мне важно найти правильные слова, самые точные, пусть и не самые красивые. Красивое слово часто обманывает, как обманчива любая красота.
Посмотри на меня, мне сто девятнадцать лет, я отвратительный старик, а когда-то всё было иначе: я тоже был красивым, нравился бабам и не знал у них отказа; но это другой рассказ, а пока слушай первый.
И не мешкай наливать.
И насчёт ночлега для меня не забудь подумать.
2.
Ту девку звали Марья, и она была младшая дочь кузнеца.
За два года до того я и мой лучший друг, рыжий Кирьяк, брат по крови, ровесник, парень огромной ловкости, объединились в глумецкую ватагу. Мы стучали на бубнах по праздникам и свадьбам, вдоль средней Оки, вплоть до самого Резана.
Но в Резан сунуться и помыслить не могли: ходили слухи, что там всё делено-переделено, и глумецкие оравы в очередь стоят, чтобы в богатых домах петь, плясать и в бубны бить за серебряные деньги.
Мы с рыжим Кирьяком были, конечно, лучшие.
С четырёх лет мы решили, что будем лихими глумилами без страха и пристанища.
Мой отец многому меня научил, но я мало помню из его уроков.
Мать про него ничего не рассказывала и, как я понял, всю жизнь на него злилась, чего-то не могла ему простить. Думаю, он прибрёл в их городище, постучал на бубне, спел, сплясал, шуток нашутковал, мёда выпил, да её угостил, а она и влюбись. А он – честный малый – увёз её из родительского дома, таскал какое-то время за собой, то на лодке, то пешком, а ей это было не нужно.
Когда отец погиб, мать осела в Озёрской селитьбе, и держала коз, и всё меня, в малые года, склоняла в козопасы, – очень выгодное дело, всегда сыт и согрет, а к вонище можно и привыкнуть. Но я отца вспоминал, его рассказы, уроки: убегал куда подальше, колесом вертелся, палки подкидывал, приговорки приговаривал, – козопасом скучно быть, а глумилой интересно.
А Кирьяк был мой череззаборный сосед; так наша ватажка и образовалась.
С возраста пяти лет мы, вкупе с остальными детьми нашего селища, каждые двадцать дней ходили к ведуну на правку. Нас приматывали крепкими ремнями за руки и за ноги, подвешивали – и растягивали на четыре стороны, подвязывая к ремням камни, в зависимости от возраста – всё более и более тяжкие. Понемногу мои кости и сухожилия обрели такую крепость, что к двенадцати годам я легко выдёргивал с корнем берёзу высотой в два моих роста.
Ведун говорил, что настоящий разум человека заключён отнюдь не в голове, а в костях; там, внутри – тоже есть мозг, и, по словам ведуна, именно этот мозг, костный, и ведёт человека по жизни, подсказывает верные решения, управляет.
Не головой думает человек, учил ведун, но собственными костями.
Мы с Кирьяком, молодые ребята, в ведовские премудрости не вникали. Но нам нравилось быть сильными.
Нет такого мальчишки, который не мечтал бы стать богатырём, наподобие легендарного Святогора.
Ну, а дальше, как ты понимаешь, – глумиле нужен бубен.
Маленький бубен я себе сделал в семь лет, а на настоящий большой – копил все свои молодые годы.
Свой первый большой бубен никогда не забуду. Он ревел, как бог войны. Если я начинал в него бить на закате – к полуночи девки впадали в забытьё. Очень сильный был бубен – я его пробил до дыр за несколько месяцев, однако не жалею.
Конечно, его лучше сделать самому, тут много ума не надо. Добыл шкуру, срезал мездру, просушил, натянул. Бывает, не рассчитаешь, кожа сгниёт. Или плохо натянешь, тогда не будет звука. Много всяких премудростей – но не сложней, чем смастерить конскую упряжь.
Кожа стоит дорого, поэтому бубен всегда надо беречь, а главное – не показывать посторонним людям, иначе сглазят.
Мастерить бубен следует с чистыми помыслами, как и любой другой предмет, хоть железный меч, хоть лыковый туес.
Главное – подружиться с ним, с бубном, когда он уже готов, понять характер: что он может, а чего не может. Потому что, если заставлять бубен делать то, чего он не умеет, – бубен перестанет тебя понимать и сам собой сгниёт, или, что ещё позорнее, поменяет хозяина. То есть, однажды его у тебя отнимут.
И вот я и друг мой, рыжий Кирьяк, пять лет работали, землю копали, пни корчевали, лыко драли, навоз собирали и лесные камни. И к началу взрослой самостоятельной жизни, к двенадцати годам, накопили себе на сапоги с ремёнными подошвами, на широкие поясные ремни с медными бляхами, на бронзовые ножи – для сохранности жизни, и на большие бубны – для заработка.
В нашей селитьбе, как и везде, половина мальчишек с шести лет училась биться на дубинах и рогатинах, и все мечтали попасть в княжьи воины, и все в двенадцать лет пошли к князю, проситься на службу, но князь из всех парней взял воевать только одного, самого здорового и самого глупого, и тот вернулся через два года без руки да с отрезанными ушами.
Руку, сказал, отдал за князя, а уши – за долги.
Так что мы с Кирьяком, когда решили стать глумилами, много не потеряли.
Да, пока не забыл.
Надо же нам тут отдать честь князьям и вождям, которые вершили судьбы мира в те дремучие времена.
В годы моей юности в землях на заход от Оки правил резанский князь, то ли именем Ренко, сын Дежко, то ли, наоборот, Дежко, сын Ренко. Всех князей невозможно было упомнить. Князья часто менялись. По четыре, по пять раз в год в каждой селитьбе, в каждом городище родовые старшины или волхвы скликали людей, чтоб объявить: там-то и там-то, на восход от Оки, или на заход от Осетра, теперь сидит и сидеть будет князь Хорь, сын Всеслава, или князь Яромир, сын Крука, или ярл Олев, сын Торстейна.
Для простых людей это ничего не меняло. Все князья, вожди и ярлы в середине весны садились в лодьи, вместе с воинами, и уходили вниз по рекам, в походы, за добычей и славой, оставив вместо себя злыдней и посадников; возвращались осенью, и далеко не в полном составе; иногда в серебре, иногда пустыми.
В любом случае, большинство из нас жило отдельно от князей, уплачивая малую виру и ничего не требуя взамен.
Бывало, из степи приходили воры-кочевники: скифы, сарматы, пачинаки. Жгли дома, убивали мужчин, угоняли детей и девок. В такие времена князья и ярлы раздавали медь и серебро, и овец из своих стад, и семена из собственных хранилищ, чтобы не угас народ и бабы продолжали рожать детей.
Бывало даже, что князья снаряжали погоню, настигали уходящие воровские шайки и карали, а пленных отбивали и возвращали по домам.
А бывало наоборот: после прихода поганых степняков никакой князь не появлялся, и никто помощи не давал. Общины восставали из праха собственными трудами.
А бывало, что приходил свой же законный князь – и грабил хуже кочевника, отбирал всю медь и всё железо, и все куны.
С другой стороны, если кочевники не набегали по десять лет кряду – возможно, то была заслуга князей, договорившихся со степными пришельцами.
Никогда не поймёшь: воры не приходят, потому что сами не хотят, или потому что князь дал защиту.
Никогда не сообразишь: то ли князь жив благодаря тебе, то ли ты жив благодаря князю.
Иногда мы благодарили князей, иногда проклинали.
Но про сильных мира сего думали мало и не каждый день.
В те времена всякая селитьба жила обособленно, своей общинной мыслью и общинным делом: где-то растили клубнику, где-то – яблоки и груши, где-то родился хлеб, а где-то не родился, где-то выделывали меха, где-то били рыбу, где-то разводили птиц, коней и собак.
Помню, важный и знаменитый князь сидел в Коломне, на слиянии двух больших рек; он брал виру с каждого, кто шёл мимо него по той или другой реке. Князя звали Лихарь, по прозвищу «муравейный». Всё мое детство мальчишки забавляли друг друга рассказами о муравейном князе Лихаре. Он мне очень нравился, он был совершенно беспощаден. Непокорных привязывал к коромыслу и опускал, в нагом виде, головой вниз в муравейник, и оставлял, а спустя три дня возвращался, вынимал голый костяк и показывал людям; так за годы своего княжения скормил муравьям, говорят, тысячу человек. Потом сказали, что Лихарь «сидит за столом отцов», то есть погиб во славе, убит с оружием в руке; и вместо него теперь его сын: Сава Лихович.
Уж не знаю, продолжил сын обычай муравейной казни или отменил; я к тому времени сам повзрослел и перестал забавляться кровожадными байками.
В нашей земле в те времена было две дюжины больших городов, и в каждом городе сидел князь, и каждый из князей менялся раз в несколько лет.
Но бывали и такие, кто правил по полвека кряду: некоторых не брали ни болезни, ни старость, ни нож недруга.
В свои двенадцать лет я знал имена и отчества примерно пятидесяти князей, сидевших по берегам семи рек от Серпухова до Можая.
На самом деле их было больше, под три сотни – но я всех не помнил. Это было неинтересно.
Все князья, как один, строили крепости, собирали и выкупали у людей лесные камни, валили и вывозили из лесов саженные брёвна, возводили дома, а вокруг городов – башни и стены; копали рвы, поднимали насыпи; на холмах у речных поворотов рубили остроги и сторожевые вышки. И в спокойные годы любой древодел или каменотёс мог прийти на княжий двор и получить работу с хорошей платой.
Очень любили мы строить, и умели, и сейчас любим и умеем, прекрасное это дело, и от него никому не бывает вреда, одна только польза. И строили в моём народе много, и вся моя жизнь прошла под стук топоров.
Придёшь, бывало, в город, где три года не был, – а там, глядишь, новая башня, или новая стена, свежее дерево издалека сияет, словно золото.
Ещё лучше жилось оружейникам и кузнецам; каждая кузня находилась под особой защитой князя и выполняла только его уроки. Князь давал металл, князь забирал готовые изделия, князь платил щедро и без обмана.
Князь или не князь, а ежели обманешь кузнеца – однажды в бою клинок в твоей руке сломается пополам; не успеешь оглянуться, как сядешь за стол отцов.
Но, повторю, если ты не был ремесленным умельцем, если мирно пахал землю или охотился на зверя – ты легко обходился без князя.
Можно было, например, промышлять рыболовством на каком-нибудь глухом притоке, всю жизнь тянуть из воды жирных щук, ловить раков по затонам, завести жену, детей и внуков, коня и собак, дом поставить – и никогда не увидеть перед собой никакого князя, и не платить никакой виры.
В некоторых землях, наоборот, хранили особый обычай: княжья стража могла остановить на торной тропе любого бродягу и спросить, знает ли он, кто сидит в этой земле князем? Если бродяга не мог ответить – получал по шее.
Могу сказать одно: город Резан на берегу Оки, между лесом и степью, был тогда главной столицей известной мне части земли, средоточием человеческого могущества, и слава резанских князей гремела всюду.
Резанские князья вели свой род прямо от щуров и пращуров. В резанских князьях текла великанья кровь.
По крайней мере, так говорили.
Однажды древние люди собственноручно собрали из великаньих мослов костяную скамью – и посадили на неё первого резанского князя, именем Акил. Ходили слухи, что костяная скамья имеет высоту в два человеческих роста и вся сплошь обмотана великаньими жилами, склеена великаньей желчью и обмазана великаньей кровью в дюжину слоёв, и вонь от той скамьи такая, что сам князь сидеть на той скамье может только самое малое время, и оттого все собрания и рядилища в доме резанских князей проходят очень быстро, иначе собравшиеся не выдерживают скверного духа и падают замертво.
Проверить такие россказни я не мог – в Резане не был отродясь, и вообще в дома князей старался не заходить.
Честно признаться, меня никогда не тянуло в ту сторону. Где власть и привилегии – там и без меня тесно.
А я всегда хотел быть сам по себе, ни от кого не зависеть и не угождать никому, кроме красивых женщин.
Главное было – понимать, что сам я никогда не стану князем, даже если очень захочу.
Князь рождается от князя, как медведь от медведя, как рысь от рыси, как пчела от пчелы, как рябина от рябины.
Родился бы девкой – может, чаще думал бы про князей, мечтал бы: вот, однажды приедет, полюбит, посадит на коня и увезёт. Такие случаи известны.
Но я родился глумилой, от отца-глумилы, и не жалею.
На том закончу про князей: в моём рассказе их будет мало.
И тех, кто слагает песни про подвиги князей, всегда достаточно, а ты попробуй сложи песню про простого человека.
3.
Однажды прибегает ко мне Кирьяк и говорит, что нашёл нам богатый урок: идти в Резан и там отбить на бубнах две полных ночи, на Купалу. Причём, как отдельно заметил Кирьяк, люди из Резана просят не просто шайку глумцов, не просто первых попавшихся – а именно нас. То есть, слух про наши шутовские придумки распространился далеко по обеим берегам Оки. И узнать такую новость было очень приятно, у меня даже голова закружилась. Молва пошла – значит, зауважали!
– Молодёжь, – сказал Кирьяк, – соберётся из самого Резана и всех окрестных мест. Будет огромная толпа. Они хотят такое гульбище, чтоб землю насквозь прощекотать – и до смерти запомнить во всех подробностях.
Чем больше он рассказывал, чем решительней крутил ладонями перед моим лицом, тем ясней я понимал: моё время настаёт.
У меня была мечта: устроить такой огромный праздник, чтобы люди чествовали меня, как героя, и потом помнили сто лет.
Мечта есть у каждого, и моя выглядела так: я делаю знаменитое, из ряда вон выходящее веселье, в сотню костров, в пять тысяч гостей, я сбиваю в кровь пальцы, и кожа моего бубна лопается, не выдержав натуги, – но слава о празднике и о тех, кто его устроил, расходится по всему миру, от горячих степей до ледяных равнин.
И я навсегда остаюсь в памяти людей как человек, устроивший лучшее, самое горячее, бешеное гульбище.
Помимо этой, всем понятной, явной мечты, которую я ни от кого не скрывал, имелась у меня в особом месте сердца и другая мечта: заветная. В её честь я принял своё второе, тайное имя. Теперь я его не назову, и про тайную мечту ничего не сообщу; может, позже.
– Но мы не выдержим, – сказал я в тот день Кирьяку. – Две ночи подряд, вдвоём. До Резана пять дней пути. Как мы будем в бубны бить, после пяти дней на вёслах, против течения? Нужен третий.
– Третьего, – ответил мне Кирьяк, – найдём по пути. Некогда думать, ехать надо срочно. Будем медлить – позовут других. Мы не одни такие молодцы, есть и прочие. Слава про нас пошла – хорошо, но не думай, что жар-птицу за хвост держишь.
И мы засобирались в Резан.
Повторю: в те времена это был город городов.
В Резане – грибы с глазами.
Их едят – а они глядят.
С раннего детства я и мои друзья верили, что есть в мире особенное место, средоточие богатства, жестокости и самых постыдных проявлений человеческой природы; ужасная чёрная поляна в чёрном лесу, берег чёрной реки, чёрная крепость, битком набитая ворами, оборотнями, весёлыми девками, серебром, сладким мёдом и жареным мясом. Город, окружённый тыном из костей великанов и морских зверей, а также невероятных чудищ из земель столь отдалённых, что не всякий разум вообразит такое отдаление.
Говорили, что «резан» – от слова «резать»; любого, кто там живёт, хотя бы раз пытались зарезать, или он сам пытался зарезать кого-то. Но те, кто поумнее, поправляли, что слово происходит от обычая резать деньгу: каждую лодку, следующую по Оке мимо Резана, княжьи злыдни останавливали и от любой деньги, найденной на лодке, отрубали топором четвёртую часть, а иногда и третью: в зависимости от того, насколько богаты были люди в той лодке.
Говорили, что в Резане живёт такое несметное количество людей, что от паров их дыхания над городом всегда висит кислый туман.
Сколько себя помню, от Резана катилась слава, и вся сплошь дурная. Вот отравили пришлого скотогона. Вот задушили в лесу девку, а потом посмотрели – а девка была нетронута; то есть, убили именно чтобы убить, а не для сокрытия известного поступка. Вот проигравшегося неудачника раздели донага, и одежды не хватило для уплаты, и тогда его обрили налысо и выдернули ногти, в том числе на ногах, и продали то и другое местным ведьмам, и те дали за ногти серебром – но этого всё равно не хватило для покрытия долга, и тогда несчастного, уже лишённого волос и ногтей, били кнутовьём и продали в рабы.
И мы верили, что на улицах Резана просто так, в грязи, валяется удача, которую не умеют подобрать тамошние ленивые дураки.
Когда Кирьяк сказал «Резан» – я сначала оробел, и дух в горле спёрло.
Не мешкая, мы побежали к рыбакам и забрали самую большую лодку, какую смогли найти. Хозяин лодки ходил на сома, но в это лето сомы вдруг перестали ловиться в нашей части реки, поумнели, наверное, и ушли на другое место, – хозяин лодки был очень рад. Даже засверкал глазами от нежданной удачи.
Когда я отдал ему полную цену – пять новых собольих кун, – у дядьки задрожали исполосованные шрамами ладони.
– Давно хотел её продать, – сказал он. – У меня другая есть, легче. Но эта тоже хорошая, ходкая. Четверых вмещает, и ещё груз. Вы её только носом об камни не бейте.
4.
Перед отъездом пошли в село и купили петуха, затем отправились на требище и пожертвовали Яриле всю петушиную кровь и все кости, как полагается. Только клюв Кирьяк выломал ножом и повесил себе на гайтан, в знак того, что рассчитывает на постоянную поддержку горячего света из верхнего мира.
Волхвов не стали звать – сами пришли на требище, сами разделись донага, сами рассекли птице горло, сами облили камни кровью, сами вымазались ею: лица, ладони, грудь и причинное место, и ноги.
Рыжий Кирьяк верил богам, да. А я не слишком верил.
Пока мы творили требу, волхвы стояли позади нас – один старый и двое молодых учеников, тощие, полуголые, сплошь изрезанные ножевыми лезвиями, насквозь пропахшие дымом; молчали, громко сглатывали слюну. У старшего волхва знак Коловрата был вырезан ножом во всю грудь и живот. Ждали, пока мы закончим. Мы ничего не были должны волхвам, и они нам тоже, наша личная договорённость с богом никого не касалась, кроме нас и самого бога. Мы его накормили, мы пролили кровь на его язык – и теперь рассчитывали, что и он, бог света, сделает ради нас что-нибудь столь же важное. Пошлёт три-четыре дня зноя, настоящей летней теплыни.
Когда мы закончили, – волхвы, которым надоело ждать, торопливо обошли нас и забрали с камней требуху: предложили погадать.
Но мы отказались. В гадания только молодые девки верят.
Волхвы ушли, забрав требуху с собой.
Почему мы поднесли жертву именно Яриле – понятно. На гульбищах нужно, чтобы было тепло и вёдро. Да и в пути тоже дождь нежелателен.
Кроме того, Кирьяк был рыжий, а все рыжие жертвуют Яриле.
Тем же днём собрались и поехали.
Лодка – долблёная, с насаженными бортами – отлично вместила два наших бубна и два чувала с рухлом. Но, к сожалению, на ходу оказалась тяжела. Мы оба быстро запарились, и за первый день пути прошли только половину того, на что рассчитывали.
Ветра не было, парус не помогал; шли на вёслах, сбили ладони в кровь. Остановились ночевать в Косыре, большой и богатой селитьбе на высоком, заросшем соснами холме, в том месте, где Осётр впадает в Оку, – и там нашли себе в ватагу третьего: местного глумилу по имени Митроха.
Он был старый дед, и сначала мы расстроились. Он был раз в восемь старше против нас, его седая борода, торчащая вперёд, как у козла, была заплетена в четыре косицы, а волосы стояли твёрдым дыбом, и весь он был узкий, мосластый, корюзлый.
Один его глаз смотрел в сторону и вверх. Второй глаз, правда, горел как уголь. А спина была вся в шрамах: видать, часто били.
Конечно, мы заставили его взять бубен и показать умение, – но кривоглазый дед не сплоховал. Он знал четыре плясовых боя, и ладонями умел, и колотушкой, и со сменой скорости, и ещё сам подвывал басом. Как только он разогнался и вошёл в раж – я понял, что наблюдаю настоящего умельца.
Кирьяк, правда, сомневался, выдержит ли наш новый товарищ две ночи работы с полной нагрузкой, – но я решил про это пока не думать.
Мне нравилось, что с нами идёт опытный человек: у опытных всегда есть, чему поучиться.
Даже если половина того, что рассказал нам этот старый Митроха, была выдумана – вторая половина внушала уважение.
Дед говорил, что видел и холодное море, и тёплое, и Белое, и Луковое, и Новгород, и Цесарь-Город, и Резан, и Искоростень, и ещё дюжину дюжин городов и селищ. Земля-то наша громадна, за жизнь не обойти, а он, Митроха, утверждал, что обошёл, и когда я смотрел в его выцветшие глаза – понимал, что не врёт.
Глумилы никогда не врут, это важно понимать, и ты для себя отложи в разум, что врать в моём ремесле – последнее дело, как дерьмо нюхать, и даже хуже.
Зачем врать, если правда богаче, и ярче, и горячее всякой лжи?
Когда боги создали для людей средний мир, они всё делали по правде, и как они придумали и сочинили – так человек придумать и сочинить не может, хоть весь изоврись.
Вы уж мне поверьте. Я прожил сто девятнадцать лет, и для меня врать – всё равно что ковыряться в зубах, которых давно нет.
Утром, когда кривоглазый Митроха пришёл на берег, со своим рухлом, – мы увидели, что рухла у него – малая котомка. В три раза меньше, чем у нас.
Зато пояс Митрохи был украшен спереди двумя медными бляхами в виде медвежьих морд, такими искусными, что в иных местах за каждую такую бляху можно было в те времена легко лишиться головы.
Вот одна из тех его медных блях: на́, смотри.
Видишь медведя? Вот уши, а вот пасть с зубами. Попробуй скажи, что непохоже.
Эта бляха со мной почти сто лет, я не продаю её и не меняю.
Если хороший кузнец раскуёт эту бляху, можно сделать нож длиною в половину локтя. Сколько стоит такой нож – думай сам. В мои молодые годы медные ножи и бляхи шли по весу денег: четыре деньги нельзя сковать в нож, а шесть уже можно.
Так мы продолжили путь втроём: я, Кирьяк и Митроха, двое молодых и один немолодой. Три наших бубна, надёжно укрытые, лежали поперёк лодки. Двое сидели на вёслах, третий – на кормиле; потом менялись. Дед Митроха правил ловко, лучше нас, точно мимо стремени, и когда он сидел на кормиле, грести было легче. Когда править садился Кирьяк – лодка шла тяжелее. Когда я сам сменял Кирьяка и садился за кормило, я понимал, что кормчий из меня такой же плохой, как из моего рыжего друга. Мне быстро надоедало сжимать под локтем деревянный дрын, и я начинал что-то сочинять, глуму или песню.
А ночью мы двое, молодые, лежали без сна, глядя в звёздное небо, задыхаясь от счастья – так хорошо было нам жить на белом свете, так больно кололи глаза небесные огни в чёрном днище верхнего мира. Так горько пахло цветами и тёплой водой. Так завораживали мечты о будущем.
А Митроха, немолодой, спал, отвернувшись от неба, спрятав лицо под локоть – человек другого времени. И при свете луны были хорошо видны длинные шрамы на его мосластой спине.
Конечно, нас часто бьют. А пробуют – ещё чаще.
Бьют, потому что мы везде чужие, пришлые. Бьют, потому что со стороны кажется: наша глумецкая дорожка весёлая и лёгкая.
Ещё бьют, полагая нас ведьмаками, колдунами, мастерами навести порчу; что отчасти правда.
Глумец что кузнец, якшается с нечистью, в селищах не ночует, не столуется. Так люди говорят.
Но меня, например, побить нелегко. Я с детства ловкий, а как перешёл в отроческие годы – нагулял плечевую крепость. Моего товарища Кирьяка и вовсе нельзя одолеть иначе, как втроём, или если – с оружиями. Кирьяк прыгучий и гибкий – едва размахнёшься, а он уже у тебя за спиной.
Но бывает, что и вдвоём мы не могли отбиться, если наседают семеро; бывало, что попадало нам сильно, да.
Нас бьют за самые наши глумы, за острый язык, за шутки.
В нынешние годы распространились разные шуты, кто на что горазд; понятно, что я в этом уже мало разбираюсь. Есть такие, что вроде шуты, а на самом деле умнее умного. Есть, кто учит разным языкам. Есть, кто режет по мягкому дереву и по вощаницам искусные мелкие руны, образующие правильные ставы. И даже есть умельцы, которые по сходной цене вырежут нужный знак прямо на тебе самом, на твоей шкуре, на лбу или на щеке – и за несколько раз создадут толстый шрам, а потом внутри и снаружи этого шрама натолкают тонкой иглой краску, которая остаётся пожизненно.
Вот до каких пределов сложности додумался человек в наши сложные, но совершенно бесчувственные времена.
А тогда, при моих молодых летах, люди в повседневной жизни стояли гораздо ближе к смерти, чем сейчас, и время иначе проходило через их сознание. У них в распоряжении имелось меньше лет и дней, чем у нас, их правнуков, и они видели мир ярче, траву зеленей, а их женщины и мёд были слаще. Развлечения были проще, грубей. Но и честней.
Всего было меньше. Штанов, ножей, еды, здоровья. Но в скудости есть острота ощущения.
Большие бубны теперь вышли из спроса. Что и говорить: человечество сильно поумнело за то время, как я являюсь его живой частью. Мой младший правнук ещё не отрастил усов, а уже знает наизусть и глумы, и песни, и ещё множество разного трёпа, и бубнов у него два, и ни на одном он толком стучать не умеет, и ничуть от этого не страдает. И как он, мой правнук, и ему подобные сейчас развлекаются – я не понимаю.
5.
На пятое утро, уже вблизи Резана, мы услышали истошные вопли: на берегу мужики били дубинами пойманную мавку.
Она визжала, извивалась, молотила радужным хвостом и всё норовила уползти к воде; её молча тащили назад за зелёные волосы – и продолжали: деловито, без спешки, без злобы. Красные от натуги лица мужиков не выражали ничего, кроме усталости: по жаре дубиной особо не помашешь.
Били по всем правилам, на месте поимки, всемером на одну; до нас доносился хруст ломаемых костей.
Мавок, кикимор, шишиг и прочую нежить нельзя умертвить, – они и так не живые и не мёртвые; но всегда можно измолотить, костяк порушить, свернуть шею, связать и вырезать на спинах и грудях руны смерти. Если действовать по правилам, то побитая мавка навсегда уходит из мест поимки, и за ней – все её подруги. Так что мужики с дрекольем, разбивая дубины о мокрое тело водяной женщины, делали полезное и важное дело, но всё равно – видеть мучения зелёной твари и слышать её отчаянный визг было нелегко, и мы налегли на вёсла.
– Дурной знак, – сказал я, оглянувшись на Кирьяка.
– Наоборот, – сказал дед Митроха. – Добрый. Бьют – значит, любят. Нас тут полюбят, в общем. Всё будет хорошо.
И мы, все трое, не сговариваясь, на короткое время бросили вёсла, подняли левые руки к лицам и троекратным движением больших пальцев отогнали возможную неудачу.
Мужики на берегу заметили нас, но дела своего не прекратили, и мы тоже – сделали вид, что не увидели ничего особенного. Когда бьют нежить – в этом нет никакой потехи, одна только печальная необходимость. Если не бить – нежить смелеет, селится ближе и ближе к людям, ворует сначала скотину, а потом и детей, и бывали случаи, когда целые богатые и многолюдные селитьбы целиком вымирали от нашествия; страшное дело.
К нашему счастью, поднялся ветер и отнёс крики побиваемой мавки в сторону.
Прежде чем зайти в город, нам следовало отыскать место и надёжно спрятать рухло, а главное – наши бубны. Мы, скоморохи, вообще не заходим в города и селитьбы, а свои стоянки устраиваем в безопасных окрестностях. Это важная мера предосторожности. И это объяснимо, в этом есть лад и ряд. Во-первых, большинство простолюдинов полагают, что мы водимся с колдунами, ведунами и нежитью. И, следовательно, пускать нас в дома и во дворы – нельзя.
Не то, чтоб мы дружили с нежитью – но мы её не боимся, поскольку много странствуем, и, значит, много видим из того, что простой человек не видит. В том числе и нежить встречаем нередко. Я, например, змеев много раз видел. Чаще – дохлых, но несколько раз и живых, и даже кладки их яиц трогал своими руками. Но это к моему рассказу не относится – может, расскажу в другую ночь.
Во-вторых, и в-главных: люди думают, что скоморошьи котомки набиты серебром, и если ограбить скомороха – можно хорошо поживиться. Большой глумецкий бубен стоит примерно двадцать кун – чем не барыш? Вот почему глумцы везде ведут себя осторожно, и свои большие бубны выносят к людям только во время гульбища, а в прочее время прячут надёжно.
Так и мы спрятали.
Не дойдя до посада две версты, сошли на берег, нашли сухую поляну и отправились разведать место.
Тропа вела вдоль берега, затем упиралась в большую старую засеку: многие сотни стволов лежали крест-накрест, сплетясь старыми, сгнившими, затканными паутиной ветвями; всюду ползали гадюки. Засеку устроили, наверное, лет двести назад, она давно утратила значение: тропа свернула в сторону, посуху огибая непролаз, и вывела к широкому расчищенному проходу, за которым в полуденном знойном воздухе колебались дымы многих десятков домашних очагов: тут начинался город.
Не заходя в улицу, мы развернулись и пошли обратно. Путь к цели был разведан, теперь следовало устроить стоянку.
Мы развели костёр, собрали шалаш. Кирьяк обошёл поляну по кругу и на стволах четырёх высоких берёз вырезал ножом обереги: на восход вырезал Силу, на заход вырезал Алатырь, на юг и на север вырезал Уды. И ещё потом помочился под каждую берёзу. Защитив, таким образом, наше место от обид его бывших хозяев, зверей. Рысь тут жила, или россомаха, или кабан, или лось – всем им теперь пришлось потесниться, уйти на время; теперь каждую ночь они будут приходить и смотреть из чащобы на наш костёр: ждать, пока мы уйдём.
Митроха первым вызвался сторожить стоянку. Мы с Кирьяком не возражали, тут же повалились и заснули, так же, как заснул бы любой, кто пять дней прошёл вёслами на тяжёлой лодке против течения.
И это была первая ночь моей новой жизни.
Потому что назавтра я встретил ту девку.
Утром я долго плавал в тёплой ряской воде, чтоб хоть немного растратить накопившуюся за время сна молодую силу; потом Кирьяк остался стеречь стоянку, а мы с дедом пошли в город.
Митроха заново заплёл в косицы свою бородёнку, выворачивая кривой глаз, и мне велел тщательно намочить и расчесать волосы.
До засеки – и на юг от берега, через проход в начало города, в посад.
Потянулись жёлтые песчаные отлоги, и мостки, и вытащенные на берег лодки; снасти сушатся, бабы выполаскивают крашеное рядно, в садках щуки и налимы хвостами молотят, над воротами – кабаньи черепа. Старики плетут сети. Малые ребята на волокуше лесной валун тащат – на продажу (я увидел и засмеялся, я сам так делал много лет). Козы орут, собаки брешут. И так – две версты.
Полдень – самое время, вернувшись с рыбалки, пожарить на углях целую щуку или осетра, и накормить досыта жену, детей и стариков, и самому насытиться, и ещё оставить кошкам.
Возле каждого дома у двери были вывешены на продажу или обмен крючки из рыбьих костей, мотки корневищ и лыковых верёвок: здесь, как и всюду по берегам великой реки, старики ещё умели изготавливать сети и садки из корневищ, как делали тысячу лет назад их древние потомки, современники великанов.
Во многих местах мы слышали пение, повсюду блеяли козлята, повсюду стучали киянки и топоры: отцы семейств поправляли стены домов, борта лодок, изгороди.
Если бы мне сказали, что я шагаю по центру города, – я бы легко поверил; но то был не город, а лишь его дальняя окраина.
Так мы добрались до главных ворот.
Дорога пошла в холм, и в конце того холма я увидел – впервые в жизни – башню, высотой до облаков, сложенную из брёвен в четыре обхвата. Едва язык не проглотил.
А когда рассмотрел висящий над воротами змеиный череп, размером с телёнка, с зубами в три ряда – на самом деле проглотил, и задохнулся бы, если б дед Митроха не ударил меня кулаком по загривку.
– Не зевай, дурень, – тихо сказал он. – Я здесь уже бывал. Молчи и держись подле.
У ворот нельзя было протолкаться, кроме как грубостью. Никакого порядка не было; ожидающие очереди сбились в одну горячую толпу, дышащую луком и бестолковой удалью. Все обменивались азартными возгласами, наблюдая, как того или другого счастливца запускают внутрь. Охрана выбирала произвольно, тыкая пальцем то в сармата в ушастом кожаном шлеме, то в купчишку, нагруженного конопляным вервием.
Когда проезжали верховые, перед ними расступались, но и они у ворот спешивались и через ворота проходили пешком, ведя коня в поводу.
Земля, вытоптанная долыса, закиданная ореховой скорлупой, плевками и высморканными соплями, скверно пахла. И вся заполненная людьми дорога до городских ворот показалась мне грязной и смрадной, словно каждый гость Резана спешил перед входом очиститься, сбросить с себя всё лишнее, самое стыдное и срамное, чтоб внутри городских стен предстать обновлённым, свежим.
Каждый четвёртый в толпе был нищий бродяга в одних портах, трясущийся от недоедания и болезней, пришедший от отчаяния, от невыносимого желания прожить на белом свете ещё полгода или год. Здесь были люди, никогда не стригшие бороды и волос, и люди, сошедшие с ума, и люди, изгнанные из своих общин и пришедшие просить правды у князя, и люди вроде меня – бродяги и шатуны лёгкого нрава, и люди, явившиеся с тайными посланиями из дальних углов земли, и люди, желающие продаться в рабы.
Здесь были несколько воров всех мастей, несколько убийц, несколько ловкачей, добывавших хлеб игрой в зернь, и несколько раскрашенных доступных девок.
Через это человеческое варево Митроха провёл меня, раздвигая всех плечом, молча, быстро и решительно, как будто мы с ним, двое в цветастых рубахах и широких кожаных поясах, были тут самые деловые, как будто нам было кровь из носу необходимо попасть в город как можно быстрей.
Охране в воротах Митроха сообщил, что мы ищем Велибора.
Охрана, вооружённая огромными сажалами длиной в руку, велела нам ждать: Велибору, мол, скажут, и он сам к нам выйдет.
И не видать бы мне города Резана, если б Митроха, опытный человек, не вынул полкуны лысых и не сунул стражу в жадную ладонь.
Нас пропустили за ворота.
Дальше со мной случилось то, что случается с любым молодым дураком, впервые попавшим в центр мира. Я оглох, ослеп, ноги мои подогнулись от страха – сил хватало только на то, чтобы сжимать пальцами плечо Митрохи, который шагал впереди, безошибочно – даром что кривоглазый – прокладывая дорогу в безумной людской каше.
Улица, замощённая полубрёвнами, гремела голосами. Повсюду висел дым, пахнущий жареным мясом и жареной рыбой, закваской, солодом, чесноком, горящим жиром, новыми кожами; бранились мальчишки, собирающие навоз; через каждые пятьдесят шагов, вдоль стен, стояли бочки с водой, на случай пожара; бабы в богатых душегрейках грызли яблоки и пересмеивались; пришлые степняки-сарматы, трое, бритоголовые и кривоногие, хохотали, показывая друг другу пальцем на крытые дёрном крыши домов, и страшно воняли конской мочой; медленно проехал на огромном вороном мерине широкоплечий человек в горностаевом воротнике, с сажалом в наборных ножнах, с серебряной гривной на дочерна загорелой шее: княжий злыдень.
Четверо мужиков пронесли огромный сундук, а вела их заплаканная девка в серебряных ожерельях: видать, жена сбежала от мужа.
А за ней шли целой ватагой птицеловы, с мрачными, неприятными рожами, и у каждого в клетке встрескивали крыльями и голуби, и синицы, и сороки, а у одного даже ворон сидел, чёрный как уголь, и я, увидев этого ворона, поспешил отвернуться и зажмурить глаза несколько раз подряд, чтобы забыть, как будто увиденного и не было.
В моей селитьбе воронов не ловили. Ловить ворона – всё равно что ловить волка или медведя. Нехорошо, неправильно.
Когда увидел этого ворона – понял, что про Резан говорили верно: это действительно чёрная поляна в чёрном лесу, опасное гнездо, где люди живут – и ни во что не верят.
Но, конечно, эта толпа, суета, этот размах, эти дубовые, сплошь покрытые резьбой двери с тяжёлыми засовами, на толстых, обмазанных жиром кожаных петлях, этот скрип твёрдого дерева под ногами, этот смех, эти раскрашенные девки – всё казалось мне сладкой песней моей великой славы.
Митроха дёрнул меня за рукав, мы свернули резко, как будто убегали, и зашли за скрипучую калитку, и там ухмыльчивая рябая баба – кабатчица – налила нам по кружке крепкой браги и насыпала каждому жменю жареных тыквенных семечек, и мы что-то опять заплатили, но платил Митроха; я, как и было сказано, только рот разевал во все стороны, олух олухом.
Брага шибанула в нос, я тут же окосел.
Потом прошли через площадь, перед княжьим двором; оттуда в одну сторону вела дорога в торговый ряд, а в другую сторону – на требище, а на распутье стояла богатая меняльная лавка, где за три лысых куны можно было получить новую, а если зазеваешься – ничего не получить, кроме как по шее; тут же скучал стражник, поигрывая булавой и заглядываясь на богатую, в жемчугах, бабу, азартно бранившую менялу за лукавство. Подле лавки высилась огромная гора лесного камня. По древнему обычаю, в любой город можно было принести лесной камень и обменять его возле княжьих ворот на яичко или чашку мёда.
А прямо напротив лавки отыскался дом Велибора.
Возле Велиборовой двери сидел на толстом ремне пёс размером с телёнка, так что в дом мы не пошли, а встали поодаль, решили дождаться, пока кто-нибудь не выйдет.
Вышел, по счастью, сам Велибор, оказавшийся мальчиком лет десяти от силы, румяным, красивым и вежливым.
После первых слов стало ясно, что этот красивый маленький Велибор, сын местного вельможи, впервые в жизни устраивает для себя и друзей большое гульбище, и никакого опыта у него нет. И он очень боится опозориться, и готов платить серебром, лишь бы праздник получился.
А про нас он услышал от друзей из Серпухова, – дошли слухи, что есть новые интересные ребята, неутомимые, и берут недорого.
У старого Митрохи, когда он это услышал, косой глаз загорелся огнём. Да и я тоже сообразил: в руки идёт большая выгода. Но у меня хватило ума не подать виду и помалкивать: я уже понял, что Митроха хорошо соображает в глумецком деле и ему можно доверить любой торг.
А он – преобразился, спину сгорбил, мохнатые брови сдвинул, улыбался мальчишке, как родимому сыночку, слова выговаривал ласково, кивал мелко, ноздри раздувал, и когда объявлял цену – пальцами себе помогал, как будто с глухим имел дело. Честное слово, даже запах, идущий от старого хитрюги, стал слаще. Поистине, ничем невозможно заменить опыт, накопленный трудной жизнью.
Если бы я тогда рядился вместо Митрохи – я бы не выторговал и четверти того, что мы получили.
На голубом глазу Митроха назначил в оплату по два туеса ягод, по караваю хлеба, по половинке курицы, по жбану мёда, по жбану браги – на каждого из троих, не считая основного – по три дюжины новых кун каждому, из них половина вперёд, либо ту же цену медными деньгами, из расчёта дюжина кун к одной деньге, либо серебром, из расчёта две дюжины кун к одной деньге, итого – четыре с половиной серебряных деньги; половину вперёд задатком, из того задатка одну деньгу располовинить, и полденьги отдать новыми кунами.
Чтобы вы понимали: три дюжины новых кун хватило бы мне на целую долгополую шубу, век носить – не сносить.
А серебряных денег я в те свои юные годы вообще в глаза не видел, даже издалека.
А тут, значит, мальчик Велибор в собольем воротничке убегает к себе в дом и через некоторое время возвращается и не моргнув глазом вручает нам одну целую серебряную деньгу, и одну половину деньги, и ещё стопку новых кун.
Полный задаток.
Ударили по рукам, поклонились земно – и расстались.
Дед Митроха проворно переметал куны в пальцах и затолкал себе за пазуху, а деньгу отдал мне, и я сунул её за щеку: надёжней места нет.
А пустой кошель Митроха повесил на пояс, чтоб, значит, лихой вор, если глаз положит, – стащил бы пустой кошель, а не саму ценность.
И так мы проделали обратный путь, через площадь, мимо кружала, мимо бочек с водой, мимо смеющихся девок – пока не выбрались за ворота.
Я всё перекатывал во рту холодное кислое серебро, не веря, что мечта моя рядом.
А когда выбрались, первая моя мысль была – бежать как можно быстрей, никаких гульбищ не устраивать, про богатого мальчика Велибора забыть, а его серебро потратить.
Так нас искушают боги нижнего, тёмного мира, склоняя к предательству.
К полудню мы вернулись в стан, а там Кирьяк уже вконец изныл от скуки и неизвестности. Но когда увидел серебро – примолк.
Старый Митроха попросил меня отдать серебряную деньгу, положил на свою коричневую ладонь и поднёс к моему лицу, а потом к лицу Кирьяка, и сказал:
– Хотите – забирайте. Мальчишку богатого обманем, ничего делать не будем. Я вернусь домой, а вы – идите в город. Тебя, – сказал он Кирьяку, – никто не видел. А тебя, – сказал он мне, – видел только Велибор, да и тот не запомнил, потому что говорил с ним я, а ты сбоку стоял. Берите деньгу, идите в Резан. Я вас научу, где переночевать, где пожрать и выпить. Деньга серебра – нормально для молодого парня, для начала. Обживётесь – разберётесь. Может, станете личными княжьими шутами, или женитесь на дочках ярлов, или прикормитесь при каком-нибудь кружале – в общем, найдёте дело. Решайтесь, парни, – сказал нам дед Митроха. – Идите и покорите этот город.
Мы с Кирьяком, внимательно выслушав сказанное, переглянулись, и Кирьяк ответил, за нас обоих:
– Нет, старик. Мы сделаем то, зачем нас позвали. Мы устроим гульбище и будем бить в бубны.
А я добавил, тоже – от нас обоих:
– Нам мало серебра. Нам нужна ещё слава.
И кривоглазый Митроха вдруг как-то ссутулился, кивнул, рукой махнул, слезящиеся зенки отвернул, как будто ему сказали какую-то прямую правду.
И мы оставили его у костра, доваривать уху, а сами пошли поглядеть, что в округе творится.
Выбрали тропу не вдоль берега, а поперёк, дальше в лес, и не прошли и ста шагов, как лес кончился, и начался овраг, заросший лопухами, а по нему бежал звонкий прохладный ручей, а в стороне от оврага стояла кузня, и дом кузнеца, не защищённый, как вы понимаете, ни тыном, ни даже малой изгородью. Потому как без надобности: никакой живой человек по доброй воле в дом кузнеца не сунется.
Лишь висела, на вбитом в землю осиновом шесте, дощечка с руной опоры: свидетельством того, что живущие тут люди признаю́т княжью власть, платят виру и находятся под полной защитой.
И девка шла с корзиной постиранного тряпья, вниз по ручью, к реке.
Догнали, позвали, обернулась – и я пропал.
Таких зелёных, внимательных глаз никогда не видел.
И не сказать, чтоб красивая. Совсем маленькая, мне по грудь. И с виду совсем слабосильная, дунь – и улетит; непонятно, как тащила корзину. Но, когда близко подошли, – рассмотрел: нет, не слабосильная. Плечи круглые, хорошего разворота, и нигде ни одной косточки не торчит, всё налитое.
Сказала, что звать её Марья, и что она младшая дочь кузнеца Радима.
А когда услышала, что мы скоморохи, приехали делать гульбище, – засияла, ахнула, подхватилась вместе с корзиной и убежала назад, к дому. А мы с Кирьяком переглянулись.
С одной стороны, приятно, когда твоему приходу рады. С другой стороны – обидно; толком и не поговорили.
– Младшая, – прошептал Кирьяк. – Значит, есть и старшая!
И вздохнул мечтательно.
А из ворот хозяйства уже выходил сам кузнец, никак не походивший на свою дочь Марью.
Наверное, когда-то и он был красив и прям спиной, а теперь на чёрном, многажды обожжённом лице не росли ни брови, ни ресницы, ни борода. Подошёл, рассмотрел сверху вниз: громадный, весь как бы в узлы завязанный, и пахло от него железными запахами.
Мы поклонились, говорить ничего не стали – неизвестно, насколько он был глухой. Судя по возрасту – полностью.
По нашим рубахам и поясам кузнец понял, кто мы таковы, и спросил, словно лезвием по камню провёл:
– Чего хотите?
– Ничего! – крикнул я. – Мимо шли!
Мы опять поклонились и убрались прочь.
Но только для того, чтоб обойти дом кузнеца с другой стороны: залезли на сосну, подсаживая друг друга, пачкая ладони в прозрачной душистой смоле; нашли удобный сук и стали подглядывать.
И увидели: дочерей у кузнеца было три. Все хлопотали по хозяйству. Одна повыше, пошире, с такими сдобными грудями, что Кирьяк застонал и сверзился бы с дерева, если б я его не поддержал за локоть, – сначала полола морковные грядки, потом села плести сыромятину. Вторая – потоньше, посуше станом, всё сновала из дома и в дом: то подушки вынесет прожаривать на солнце, то половики трясти, то золу из очага в корыто отсыпет, и по её излишне порывистым движениям было видно, что работа ей смерть как надоела и на уме у неё совсем другие занятия.
А младшая, которая Марья, сидела под навесом возле малого костерка, отгоняющего комаров, и шила что-то, поглядывая изредка на сестёр и не вступая с ними в беседы.
Старшие молчали, а Марья что-то пела, но ветер уносил её голос.
Их матери мы не увидели: за всё время, пока просидели на сосне, ни одна взрослая женщина не вышла из дома и не вошла в него. И я сообразил, что матери у них нет. Померла, или муж выгнал.
Глядя на спорый труд трёх девок, я подумал: как хорошо, что не снискал я ни дома, ни семьи, ни хозяйства, и нет у меня ни рожна, кроме старых портов, дырявых сапог да собственных имён. Как бы я управлялся с этими сараями, погребами, грядками? Чем бы я кормил своих деток, если ничего не умею, кроме как бить в бубен и слагать срамные прибаутки?
Родился бы кожевником, или, вон, кузнецом, или плотником, рыбаком, птицеловом, солеваром, смолокуром, или хоть шерстобитом. Или, лучше – ведуном, травником, знахарем. Или – воином, княжьим мечником, злыднем, катом. Или – самим князем, которого если увидишь – потом три года не умеешь забыть. Или волхвом, чующим бурю и грозу за сто вёрст.
Но я родился глумилой, и никогда у меня не будет ни дома, ни достатка, ни собственного курятника.
Эх, знали бы вы, как хочется иногда иметь дом, и свою жену, и свой курятник! Такая тоска накатывает. Всю жизнь прожить на своей земле, среди своей родни, в своём доме.
Но дорога моя другая, и я иду по ней горлом вперёд.
И нет у меня ни корыта, ни дома, и куда бы я ни явился – я везде чужой, посторонний.
В общем, я тогда, в тот миг, перегнулся, сидя на суку, снова взял друга своего Кирьяка за локоть и сказал:
– Пойдём-ка, брат, отсюда.
Выругался грубо и полез вниз. А Кирьяк полез следом за мной, потому что всё понял. Он, понятно, пребывал в тех же чувствах и с теми же мыслями.
Потому что если тебя накрывает тоска – унять её можно только чем-то грубым и жестоким. Хотя бы словом.
Печаль-тоску перебарывает только грубость и жестокосердие, иначе никак.
Когда тоска подступает, отогнать её можно только через звериное рычание, через гнев на самого себя.
Оттого мы здесь, по берегам Оки, часто бываем на вид угрюмы.
Мы спустились с дерева, стараясь не шуметь, отряхнули с волос колючие сухие иголки, подсмыкнули порты – и пошли восвояси, не обменявшись ни единым словом и даже не посмотрев друг на друга; и так всё было понятно. У кузнецовых дочерей была своя планида, у нас – своя. А тоску можно заесть, или запить, а лучше – и то и другое.
Краем оврага, через прохладные заросли лопухов, мы вернулись к стану, умылись, тщательно обтёрли от грязи руки и сели есть.
Очень хотелось хлеба – но хлеба мы в те поры ели мало.
Зато нас выручал котёл.
Старый Митроха сварил уху на карасях и ротанах.
Увидев нас, он снял с огня котёл с ухой, поставил перед нами в траву, сам же улёгся у огня, завернулся в полость и заснул, не произнеся при этом ни единого слова.
Мы достали ложки и принялись за славное дело.
Через год после того, как мы с Кирьяком сбились в глумецкую ватагу и стали ходить по людям, мы завели один на двоих котёл. В те отдалённые времена котёл – это была вещь большой ценности. Хлёбово от вываренного мяса, рыбы, грибов и кореньев можно было есть по три дня подряд. Кто имел котёл – тот всегда был сыт, и кожа его блестела, и волосы. Я не помню, сколько мы отдали за тот прекрасный котёл. Больше ста лет прошло. То ли тридцать, то ли пятьдесят новых кун. Помню, он был скован из шести медных пластин, и размер его был такой, чтоб сварить заячью голову. Помню, что Кирьяк не имел бережливости и не раз ронял наш котёл, в том числе на камни, и в одном месте котёл разошёлся и чуть протекал, и когда висел над костром – капли жира падали в огонь, и тогда вокруг поднимался такой запах, что из леса выходили рыси и россомахи, садились поодаль, рычали и блестели глазами от зависти.
Соли в то время у нас тоже не было; пробавлялись луком, щавелем и папоротником.
Сейчас у вас тут и чугуны с крышками, и ножи в каждом доме, и соль, и хлеб всякий, и бронзовые светильники на столах, и серебряные кольца на пальцах, и яйца с двумя желтками.
Но тогда всё иначе было.
Придёшь в селитьбу – а там один на всех нож висит на столбе при входе на требище, и местный волхв одним глазом глядит в себя, вторым на тебя, третьим – в чужой мир, а четвёртым, который на затылке, – наблюдает за ножом, чтоб не упёрли.
Вот так мы жили.
Так что рыбное хлёбово из того котла нас потом два дня выручало.
Я ел, едва не пронося ложку мимо рта: всё не мог забыть внимательные зелёные глаза кузнецовой младшей дочери – как они загорелись, когда она поняла, кто мы такие и зачем пришли.
Когда видишь радость на лице человека – понимаешь, зачем живёшь.
Кирьяк доел, облизал ложку и вдруг хлопнул меня по плечу.
– Великанья кровь, – сказал он. – В этих девках – великанья кровь.
Я подумал и кивнул. Друг был прав. Яркие глаза, прямой взгляд, широкая смелая улыбка. Ни страха, ни смущения, ни настороженности. И кузнец был такой же, хоть и глухой, хоть и прокопчённый весь.
6.
История нашего – среднего – мира началась с освобождения земли.
То, что не свободно, вообще не может иметь своей истории.
Чтобы что-то началось, следует что-то освободить.
Вызволить.
Итак, в начале начал земля принадлежала нижнему миру и его богам, и в земле, не знавшей ни тепла, ни света, ледяной и твёрдой, обитали только безглазые черви.
Боги верхнего мира и боги нижнего мира вообще не знали о существовании друг друга: их разделял бесконечный великий лёд.
Под гнётом великого льда земля изнывала во тьме, и ничего не происходило.
Но затем боги верхнего мира решили, что так дальше не может продолжаться.
Боги тепла, света и ветра призвали Ярило, огненное колесо, источник жизни, – и насадили его на мировую ось.
Колесо закрутилось, жар Ярила растопил лёд.
Это продолжалось тысячи лет.
Понемногу, пядь за пядью, лёд отступал, оставляя за собой бескрайние пространства, залитые водой.
Тогда верхние боги и нижние боги впервые встретились, чтобы поделить созданный ими новый мир: средний.
Тот, в котором мы теперь живём.
И вот, освободившись от давления великого льда, земля начала подниматься, распрямлять спину.
Вызволение земли, распрямление кривизны – тоже заняло тысячу лет.
Наконец, вода осталась лишь в морях и озёрах. И чем выше поднималась спина земли, тем меньше озёр и морей оставалось на её поверхности.
Итак, каждый человек должен знать, что земля под ним есть распрямлённая, освободившаяся сущность.
Свобода исходит от земли так же, как свет исходит с неба, как запах исходит от зверя: естественным образом.
Из этой новой, свежей сущности, из восставшей свободной земли боги вылепили своих земляных детей: человеческий род.
То были не мы, люди – но наши пращуры. Мы называем их – «древние». Или «старые люди». Или «род великанов».
Их нельзя путать с нами: новыми, слабыми людьми.
Древние отличались от нас так же, как каменный нож отличается от железного меча, выкованного умелым кузнецом.
Древних было меньше, чем нас, и они хотели жить больше, чем мы.
Чтоб не делать лишней работы, боги создали сразу людей, зверей, птиц и прочих тварей, а потом влили в них одновременно свою кровь, одну на всех.
Поэтому люди похожи на зверей и птиц: кровь одинаковая.
По той же причине люди похожи на богов.
Сквозь весь живой мир течёт единая кровь, одна на всех; живых и мёртвых, разумных и неразумных связывает крепче крепкого.
Потом люди долгое время жили в голоде и страхе. Землю, едва восставшую ото льда, населили огромные полчища великанов, или великих кабанов: могущественных тварей, покрытых непробиваемыми мохнатыми шкурами, каждый высотой в дюжину саженей, и у каждого – четыре ноги и одна длинная рука, торчащая из носа, а по бокам – два бивня.
Когда великан кричал – гнулись деревья.
Когда великан бежал – земля тряслась так, что люди падали.
Когда бежало стадо великанов – весь мир ходил ходуном.
Великаны правили всюду. Неисчислимые их стада бродили по синим стылым равнинам, пожирая любую растительность, от верхушек елей до болотных мхов.
Они владели средним миром, огромные и всесильные.
Каждый из них мог одним ударом превратить человека в кровавую лужу.
Они пожирали всё, что давала скупая холодная земля: все листья, и ягоды, и грибы, и пчелиные гнёзда, и траву, и папоротники, и шиповник, и яблоки, вместе с яблонями.
И людям пришлось научиться убивать великанов: иначе нельзя было выжить.
Люди поедали их мясо, использовали их кости, бивни, черепа, жилы, шкуры, и мездру, и кровь, и кишки, и всё прочее, до последнего волоса на хвосте.
Они ели всё: и роговицу, и мозговое вещество, а что нельзя было съесть – приспосабливали.
Чтобы убить одного взрослого великана, требовались усилия трёх дюжин взрослых охотников.
Так выжили древние, наши щуры и пращуры: они сбились в племена, в огромные ватаги числом в сотни мужчин и женщин.
Стариков в том мире вообще не существовало.
Древний не доживал до тридцати.
Древний начинал спариваться с десяти лет, и брал в жёны любую женщину, которую видел возле себя.
Древняя женщина рожала первого ребёнка в одиннадцать, и потом – каждый год, всего за жизнь давала от пятнадцати до двадцати детей потомства; выживал один или двое.
Древние хорошо понимали, что чем больше племя – тем легче выжить.
Древние научились создавать тысячные племена, народы, где огромные хозяйства были налажены до мелочей. Сотни баб жгли костры и собирали коренья, сотни детей обучались знаниям, сотни мужчин расходились каждое утро во все стороны, чтобы бить птицу и зверя, чтобы найти еду, чтобы жить дальше.
Тысячу лет наши щуры и пращуры, древние люди, питались мясом и молоком великанов.
Меж тем земля нагревалась, и всё больше цветов цвело, и больше плодов стала давать почва. Люди стали сильнее, умнее, они собирали ягоды и коренья гораздо быстрее, чем великаны.
Древние ели всё, что существовало вокруг них. В первую очередь любые зелёные листья. Берёзу, дуб. Рябину. Папоротник.
Древние ели орехи, и ягоды, и коренья: лук, морковь.
Там, куда приходили древние люди, наши пращуры, – великанам было нечего делать.
И великаны отступили: их стада стали уходить на север. Народ их ослабел и исшаял.
Там, на далёком севере, они и живут до сих пор, малочисленные. Живых давно уже никто не видел, а вот черепа, выбеленные ветрами, с громадными, в четыре косых сажени, кривыми бивнями, можно еще встретить в некоторых селитьбах.
Боги постепенно стирают род великанов с лица земли; как стёрли земляных червей и змеев, которые жили до великанов, в предыдущие времена, нами совсем забытые.
Победив великанов, люди получили в полное пользование весь средний, тёплый мир, созданный для них богами, и ещё больше расплодились.
С лёгкостью подчинили себе птиц, собак, лошадей, кошек, пчёл.
Только рыбы и змеи не покорились человеку.
Боги являлись древним чаще, чем нам.
Духовная жизнь древних была очень яркая, глубокая и полная событиями. Древние остро переживали видения и сны.
Они жаждали постичь мир, были любопытны до всего нового и незнакомого. Любая находка, вроде острия из вулканического стекла, или медного самородка, или лесной поляны, заросшей диким чесноком, – давала возможность прожить лишний год.
Древние всюду совали свой нос, за всем наблюдали и всё со всем сравнивали.
Древние были очень любопытны и восприимчивы; всеядны не только телом, но и разумом.
Они много перемещались, ходили в походы длиною в месяцы и годы: любопытство двигало ими, как двигает и нами, их отдалёнными потомками.
До нас дошли их письмена, вырезанные костяными ножами на дубовых досках, выжженные медными иглами на бычьих шкурах: простые знаки, руны, образы людей, богов и смыслов.
За множество столетий, пока люди сражались с великанами, пока отвоевали для себя землю, пока сменились многие сотни поколений, выкормленных молоком великанов, взращенных мясом великанов, под сводами хижин, крытых шкурами великанов, – часть великаньего существа вошла в людей, и каждый человек стал на малую долю великаном, и воспринял великанью суть.
Кровь великанов перелилась в людей, и навсегда осталась.
Так род древних людей сросся с родом великанов.
Произошло это очень давно, много тысяч лет назад.
Ныне род великанов рассеян, и представителей его встречаешь не каждый день; но они всё же есть, и продолжают своё могучее колено.
Человека из рода великанов всегда можно отличить по тому, как много дел он делает каждый день, какие затеи затевает, как горят огнём его глаза и как громко и сильно он кричит в моменты ярости.
С тех пор всё перемешалось. Племена сложились в народы. Пришли люди с юга и с севера, пришли торговцы, пришли завоеватели, полилась кровь, люди угоняли людей, люди менялись оружиями, а главное – люди женились. Кровь мешалась с кровью.
Великанья порода измельчала – но не исчезла вся.
Может быть, пройдёт ещё тысяча лет, или две тысячи, – и кровь чудовищ древнего мира совсем уйдёт из человека.
Кровная память не вечна.
Но пока мы её чувствуем – эту древнюю силу.
Каждый из нас хочет быть огромным, могучим и спокойным, каждый хочет быть равнодушным к холоду и голоду, бронированным в непробиваемую шкуру; каждый хочет жить в большом сильном стаде, где каждый защищает каждого.
Великанья кровь густа, и если она течёт внутри человека – он сам становится густым и твёрдым.
В годы моей юности – очень давно, сто лет назад – я встречал волхвов и ведунов, помнивших древнее поверье: однажды весь род великанов вымрет до корня, и останется один, последний, самый могучий великан, и он придёт к людям, прошагает по всем землям, с севера на заход, а потом на восход и на юг, пройдёт медленно и грозно: последний и величайший из всех.
Согласно той наивной сказке, ныне полузабытой, последнего великана убьёт человек, не воин и не князь, не рыболов и не пахарь – никто. Отрок, не знавший женщины. Убьёт – и уподобится богам. Унаследует силу всего тысячелетнего великаньего рода, и поведёт человеческие племена к изобилию и всеобщему счастью.
Но поверье теперь забыли. И ни один великан не пришёл с севера за всё то время, пока я живу на белом свете. А если поверье не сбывается – его перестают помнить и повторять, оно теряет значение; так и теперь, в новейшие времена, мои рассказы про страсти ветхого мира, про великаньи дела, про щуров и пращуров, твёрдых, как камень, – не имеют большой цены.
Но если вы посмо́трите друг на друга – увидите, что великанья порода жива.
И теперь призна́юсь: я видел древних людей.
Выходцев из старейших родов, носителей великаньей крови.
Видел много раз.
Вы не встречали их – а я встречал, это было давно.
Я говорил с ними, пожимал их руки, обонял их запах, смотрел в их глаза.
Они никогда ничем не болели, они работали с рассвета до заката, они всё умели, они ничего не боялись, они могли не спать и не есть по несколько дней.
Их кожа была самая обычная, розовая, но иногда, издалека, при косом взгляде, могло показаться, что вместо кожи они защищены непроницаемой бронёй, да ещё впереди два бивня: разозлишь – проткнёт.
Я встречал их семь или восемь раз: в прошлые отдалённые времена, в мои молодые годы.
Такова была и Марья Радимовна, кузнецова младшая дочь.
7.
Весь следующий день с самого рассвета мы готовили праздник. Приехал мальчик Велибор, и его друг, мальчик постарше, который не назвал своего имени, а только смотрел, слушал и что-то жевал, и с ними в охране – дядька с ножом, очень недовольный, что его рано разбудили, – все трое на таких сытых сильных конях, в таких наборных сбруях и в таких юфтяных сапогах, что я понял: надо было ломить за свой труд ещё бо́льшую цену.
С богатыми людьми всегда так: никогда не знаешь, насколько они богаты.
Мы показали Велибору выбранное место: холм у реки, заросший с холодной стороны репейником, а с солнечной – ореховыми кустами. До берега – шагов полтораста. Репейник мы решили выбить руками, потому что за репейным полем была лысина и ручей. На гульбище люди много пьют воды, ручей обязателен.
Затем мальчик Велибор, его друг, не назвавший имени, и их дядька – уехали в город, а мы втроём срубили себе по крепкому берёзовому дрыну и выбили репейное поле, а потом до вечера строили большой односкатный навес.
К вечеру трое разбитных мужиков – Велиборовы смерды – привезли из города три волокуши берёзовых и осиновых дров. Очень хотелось расспросить смердов, на вид достаточно благополучных, спокойных, – как им живётся в рабах у богатой Велиборовой семьи; но мужики вели себя так, что было понятно: они не разговаривают даже меж собой. А уж на нас – бродяг, глумил, пришедших из отдалённых глухоманей, – даже смотреть не хотят. Кирьяк спросил, не играют ли они в зернь, – один из троих ответил «нет» и ухмыльнулся презрительно; смерды вывалили дрова из волокуш и ушли. Их спины были мокры от пота.
Девка Марья пришла, когда мы в темноте переносили из стана на холм наше главное и самое ценное имущество: бубны.
Весу в них мало, зато размер большой. Мой бубен был примерно в мой рост. У Кирьяка бубен был средний, звонкий, в три четверти сажени. А у Митрохи – тоже средний, но старый, глухой.
Марья спросила, много ли людей придёт на гульбище, и Кирьяк ответил обычной нашей присказкой:
– Всяк, кто не дурак!
Она засмеялась, отвернувшись.
Я смотрел, и у меня голова кружилась; она как будто светилась изнутри, было темно, облака́, луна на прибытке; но я видел девку всю, до мелких жилок, она улыбалась, мы были ей искренне интересны.
– Завтра мы ждём вас всех, – важно сказал Кирьяк. – И тебя, и твоих сестёр. Старшую я особенно жду. Как её зовут?
Марья снова засмеялась и ответила:
– Захочет – сама скажет.
Повернулась и убежала.
8.
Я стучу в грудь бубна.
Он ревёт, как тур, как матёрый медведь.
Возле меня, вокруг меня, сколько хватает глаз, – танцуют люди, молодые парни и девки.
Девок сильно больше, но так и должно быть.
Они танцуют, погружённые в плясовой морок, в бешеное забытьё, – они наслаждаются, они счастливы в эту ночь.
Ревёт-гудит мой бубен. В разгаре гульбище.
Большинство волхвов и ведунов считают, что плясовая забава придумана богами нижнего мира, и рёв глумецкого бубна вредит человеку, обманывает его, отвлекает, отучает любить настоящее, так же, как отучает хмельная брага или грибы- дурогоны.
Другие волхвы, наоборот, говорят, что пляска есть радение в пользу богов, и всяко одобряют.
Бывает, что в двух соседних селитьбах, отстоящих друг от друга на расстояние пешего перехода, один волхв лает гульбища и не позволяет, а другой – наоборот, разрешает и благоволит.
Но мне, здесь и сейчас, всё равно, что думают волхвы, ведуны и другие умники.
Я бью в бубен, потому что так мне велит моя природа.
Я для этого родился; когда я бью в бубен, люди вокруг меня рады, им хорошо, они счастливы.
Я считаю, что радость – главное переживание человека, и если люди смеются – значит, я прав, не зряшную жизнь живу.
Значит, плясовую забаву придумали боги верхнего мира, те, кто нас, людей, берегут и о нас заботятся.