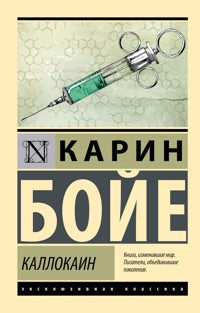
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Эксклюзивная классика
- Sprache: Russisch
В Мировом Государстве, в Химиогороде № 4, где для осуществления тотального контроля за людьми ведется постоянное наблюдение и прослушка, а доносы являются долгом каждого порядочного бойца, живет талантливый химик Лео Калль. Он создает сыворотку правды под названием «каллокаин». Открытием заинтересовывается амбициозный шеф полиции Каррек, ведь благодаря препарату можно будет узнать преступные тайны и замыслы жителей Государства. Бойцу Каллю, истинному патриоту, предстоит многое узнать и об окружающих людях, и о самом себе…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Карин Бойе Каллокаин
© Перевод. А. Лавруша, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
Глава первая
Книга, которую я начинаю писать, покажется бессмысленной многим – если рискнуть предположить, что «многие» ее вообще прочтут – поскольку я, хоть и взялся за этот труд исключительно по собственной воле и без чьего-либо приказа, цель свою пока различаю неясно. Я хочу и должен – и ничего более. Требование определить цель и составить план для всего, что ты делаешь и говоришь, звучит все ультимативнее, предполагая, что никто ни слова не должен произносить наобум – и только автор этой книги вынужден избрать иной путь, выйдя на простор бесцельного. Ибо, несмотря на то, что годы (думаю, их уже больше двадцати), проведенные мною здесь в качестве заключенного и химика, были достаточно заполнены работой и не оставляли досуга, есть нечто, не позволяющее мне удовлетвориться этим, – нечто, генерирующее и контролирующее иную мою внутреннюю работу, контролировать которую сам я не способен, но в которой тем не менее заинтересован глубоко и почти болезненно. Эта работа завершится, как только я закончу книгу.
Таким образом, осознавая степень бессмысленности моих писаний для всех, кто мыслит рационально и практически, я все равно продолжаю писать.
Возможно, раньше я бы на это не решился. Возможно, легкомысленным меня сделала именно тюрьма. Условия жизни у меня сейчас почти не отличаются от того, как я жил, будучи свободным человеком. Пища чуть хуже – я привык. Нары жестче, чем кровать в родном Химиогороде № 4 – я привык. Я реже выхожу на улицу – я привык и к этому. Тяжелее всего далась разлука с женой и детьми, особенно учитывая, что я ничего не знал (и по-прежнему не знаю) об их судьбе; именно из-за этого первые годы моего заточения были наполнены отчаянием и страхом. Но постепенно я успокоился, а существование даже начало мне нравиться. У меня нет поводов для тревог. Нет подчиненных и начальников – только охранники, которые почти не вмешиваются в мою работу, следя лишь за тем, чтобы я соблюдал предписанные правила. Нет покровителей и конкурентов. Ученые, на встречи с которыми меня иногда приводят, чтобы познакомить с новинками хронологии химии, вежливы и признают во мне профессионала, пусть и с долей снисхождения к моей национальности. Я знаю, что ни у кого нет причин мне завидовать. То есть с некоторого момента я почувствовал себя даже более свободным, чем на свободе. Однако по мере обретения покоя началась эта странная обработка прошлого, и она явно не закончится, пока я не допишу все свои воспоминания об одном весьма событийном периоде моей жизни. Я ученый, поэтому писать мне разрешено, а первичный контроль осуществляется только при сдаче готового исследования. Поэтому я и позволяю себе это единственное удовольствие, понимая, что могу лишиться и его.
Описываемые события начинаются, когда мне было около сорока. Кстати, вообразить собственную жизнь в виде картины – это лучший способ представиться. Мало что способно так же подробно рассказать о человеке, как картина жизни: что́ она для него – дорога, линия фронта, растущее дерево или морской прибой? Для меня это лестница, по которой, как считает пай-мальчик-отличник, нужно изо всех сил бежать вверх от пролета к пролету, не переводя дух и отрываясь от наступающих на пятки соперников. Впрочем, соперников у меня почти не было. Честолюбие большинства коллег по лаборатории касалось только военного дела, а к дневной работе они относились как к скучной, но необходимой паузе перед вечерними военными учениями. Я же, будучи отнюдь не плохим бойцом, вряд ли признался бы кому-либо из них, что химия интересует меня гораздо больше военной службы. По своей лестнице я в любом случае перемещался вверх. И никогда не задумывался ни о том, сколько ступенек осталось позади, ни о блаженстве, которое ждет меня наверху. Возможно, я смутно представлял себе жизнь в виде обычного городского дома, в котором ты, появившись из недр земли, в финале оказываешься на открытой крыше, где тебя ждет свежий вечерний воздух и солнечный свет. Однако, чему именно соответствуют чердак и свет применительно к моей жизненной стезе, я не представлял. Но преодоление очередного пролета непременно отмечалось коротким официальным извещением высшей инстанции: экзамен сдан, тест пройден, мне предоставлено более важное поле деятельности. Подобных финишных и стартовых точек у меня скопилось достаточно много, впрочем, не настолько, чтобы блекло значение новых. Поэтому я и почувствовал жар в крови, узнав из краткого телефонного разговора, что завтра мне назначат куратора и я смогу начать экспериментировать с человеческим материалом. Иными словами, мое самое крупное на тот момент открытие завтра будет подвергнуто главному испытанию.
Я пришел в такое возбуждение, что в оставшиеся десять минут рабочего времени никак не мог приступить к какому-либо новому делу. Вместо этого я пошел на хитрость – кажется, впервые в жизни – и начал заблаговременно, медленно и осторожно убирать аппараты, искоса посматривая в обе стороны через стеклянные стены, чтобы удостовериться, что за мной не наблюдают. Как только раздался сигнал окончания смены, я спешно устремился по длинным коридорам лаборатории к выходу, оказавшись чуть ли не первым в потоке. Быстро принял душ, переоделся из униформы для работы в униформу для досуга, запрыгнул в лифт-патерностер и несколько мгновений спустя уже стоял на улице. Нам выделили квартиру в районе моей работы, что обеспечивало наземной лицензией, и я всегда наслаждался возможностью прогуляться на свежем воздухе.
Когда я проходил мимо метро, меня осенило, что можно подождать Линду. Я вышел рано, и она наверняка еще не успела вернуться домой со своего пищевого комбината, находившегося примерно в двадцати минутах езды на метро. Подъехал поезд, хлынувший из-под земли людской поток сначала столпился у турникета, где проверялись наземные лицензии, а потом растворился на ближайших улицах. Поверх крыш с опустевшими террасами, поверх рулонов брезента цвета серых скал и луговой зелени, с помощью которых город за десять минут можно было сделать невидимым с неба, я рассматривал кишащую толпу возвращающихся домой бойцов в униформе для досуга и внезапно подумал, что всех их, возможно, преследует мечта, похожая на мою, – мечта о пути наверх.
Мысль не отпускала. Я знал, что раньше, в цивильную эпоху, усердно работать людей заставляла надежда на более просторную квартиру, вкусную еду и красивую одежду. Сейчас все это никому не нужно. Квартиры стандартные: однокомнатные для одиноких, двухкомнатные для семейных – всем бойцам хватает с лихвой, и самым ничтожным, и самым заслуженным. В придомовых кухнях еда готовится и для генералов, и для рядовых. Стандартная униформа – одна для работы, вторая для отдыха, плюс еще одна для военно-полицейской службы – одинакова для всех, для мужчин и женщин, для высоких и низких, только чины обозначались по-разному. Что, впрочем, никак не отражалось на привлекательности униформы. Желанным в высокой начальственной должности было исключительно то, что она символизировала. «На самом деле любой солдат Мирового Государства настолько высокодуховен, – радостно думал я, – что в его представлении высшая жизненная ценность выражается в виде трех черных петлиц на рукаве. Три черные петлицы служат залогом самоуважения и уважения со стороны других». Материальных наслаждений, разумеется, можно получить достаточно и даже ими пресытиться – именно поэтому я и подозреваю, что бывшие двенадцатикомнатные квартиры капиталистов тоже были всего лишь символом – однако пресытиться тем зыбким и ускользающим, что скрыто за петлицами, невозможно. Нет человека, который не стремился бы получить больше уважения и самоуважения, чем уже снискал. Именно это – самое одухотворенное, неосязаемое и недостижимое – и есть основа, на которой покоится наш установленный на века общественный порядок.
Я продолжал стоять в раздумьях у метро и, словно во сне, наблюдать, как вдоль квартальной стены, увенчанной колючей проволокой, вперед-назад перемещается охранник. Проехало четыре поезда, четыре раза на свет выплескивалась толпа, пока через турникет наконец не прошла Линда. Я поспешил к ней, и дальше мы пошли вместе.
Мы, разумеется, не разговаривали, поскольку учения воздушного флота делали любые разговоры на улице невозможными, будь то днем или ночью. Но она заметила радостное выражение у меня на лице и ободряюще кивнула, не теряя своей привычной серьезности. Внутри многоквартирного дома наступила относительная тишина – грохот метро все еще сотрясал стены, но уже позволял говорить беспрепятственно – но, поднимаясь в лифте к себе на этаж, мы все равно предусмотрительно молчали. Если бы нас застали за разговором в лифте, то со всей очевидностью заподозрили бы в обсуждении темы, которую мы хотим скрыть от детей и прислуги. Такое периодически случалось, когда враги государства и прочие предатели пытались использовать лифт для конспиративных встреч; место было подходящим, ведь ни око, ни ухо полиции нельзя вмонтировать в кабину по техническим причинам, а у вахтера обычно есть дела поважнее, нежели бегать по лестницам и подслушивать. Таким образом, мы соблюдали осторожность и заговорили только, когда оказались в семейной комнате, где дежурившая на этой неделе прислуга уже приготовила ужин и ждала нас вместе с детьми, которых она забрала с детского этажа нашего дома. Девушка производила впечатление порядочной и милой, так что наше теплое приветствие было обусловлено не только пониманием того, что она, как всякая прислуга, в конце недели обязана предоставить отчет о семье – по сведениям, во многих семьях эта реформа существенно улучшила отношения. За нашим столом в тот день царила атмосфера особого уюта и веселья, поскольку к нам присоединился Оссу, наш старший сын. Он приехал из детского лагеря, где по расписанию значился семейный вечер.
– У меня есть хорошая новость, – сказал я Линде, пока мы ели картофельный суп. – Мой эксперимент продвигается так успешно, что завтра я смогу начать работу с человеческим материалом под надзором куратора.
– Как думаешь, кто это будет? – спросила Линда.
Внешне все наверняка осталось незаметным, но внутренне я содрогнулся от ее слов. Возможно, она спросила без задней мысли. Жена поинтересовалась, кто будет куратором мужа, – что может быть естественнее?! От придирчивости или уступчивости куратора зависит продолжительность эксперимента. А еще случается, что честолюбивые кураторы присваивают открытие себе, и возможности застраховаться от подобного относительно невелики. В том, что близкий человек хочет узнать, кто будет куратором, нет ничего странного.
Но я уловил в ее голосе подтекст. Мой непосредственный начальник и возможный будущий куратор – Эдо Риссен. Бывший сотрудник пищевого комбината, на котором работает Линда. Я знал, что в прошлом они как-то пересекались, и по ряду косвенных признаков понял, что некоторое впечатление он на мою жену произвел.
От ее вопроса проснулась и вырвалась на волю моя ревность. Насколько близки в действительности были ее отношения с Риссеном? Комбинат огромный, и двое могут легко выпасть из поля зрения там, где обзор сквозь стеклянные стены затрудняют мешки и контейнеры, а других сотрудников нет рядом… Линда периодически работает в ночную смену. В ту же ночь мог дежурить Риссен. Ничего нельзя исключить, в том числе худшее: она по-прежнему любит его, а не меня.
В те времена я редко задумывался о себе, о том, что думаю и чувствую, равно как и о том, что думают и чувствуют другие, – коль скоро это не имело для меня прямого практического значения. И только позже, в одиночестве изоляции, мгновения начали разворачиваться назад, превращаясь в загадки и вынуждая меня формулировать вопросы и искать ответы, снова и снова. Теперь, спустя годы, знаю, что когда я жаждал обрести «уверенность» в вопросе Линды и Риссена, на самом деле мне не нужна была уверенность в том, что между ними ничего нет. Мне нужна была уверенность в том, что ее тянет прочь от меня. Уверенность, которая положила бы конец моему браку.
Но в то время я бы с презрением отверг подобную мысль. Я бы сказал, что Линда играет слишком важную роль в моей жизни. И это было бы правдой. Этого не изменили ни размышления, ни переосмысления. По значимости Линда вполне могла конкурировать с моей карьерой. Против моей воли, неким непостижимым образом она привязала меня к себе.
О любви иногда говорят как об устаревшем романтическом понятии, но, боюсь, она все-таки существует и изначально содержит в себе неописуемо мучительный элемент. Мужчину влечет к женщине, женщину влечет к мужчине, и каждый шаг к сближению заставляет обоих терять частицу себя; серия проигрышей там, где был расчет на победу. Уже в первом браке – бездетном и, как следствие, бессмысленном – я почувствовал этот привкус. Линда же нарастила его до кошмара. В начале нашего брака меня действительно преследовал кошмар, хотя тогда я не связывал его с Линдой: я стою в кромешном мраке, освещенный прожектором, и чувствую, как из тьмы на меня смотрит Глаз, я извиваюсь, как червь, чтобы уйти от этого взгляда, и мне, как псу, стыдно потому, что одет я в какое-то убогое тряпье… И только много позже я понял, что это была картина моего отношения к Линде, я ощущал себя пугающе прозрачным, хотя делал все возможное, чтобы увернуться и защититься, а она по-прежнему оставалась загадкой, удивительной, сложной, почти сверхчеловеческой, но бесконечно волнующей и поэтому обладающей ненавистным преимуществом. Всякий раз, когда ее губы смыкались и натягивались в тонкую красную линию – о, нет, не в улыбку, презрительную или радостную, здесь подходит именно слово «натяжение», так натягивается тетива лука, а широко раскрытые глаза оставались неподвижными – всякий раз я испытывал приступ тревоги, а Линда связывала меня все крепче и влекла к себе все немилосердней, хоть я и догадывался, что она никогда мне не откроется. Полагаю, говорить о «любви» уместно там, где посреди безысходности люди держатся друг за друга, как будто чудо вопреки всему произойдет – тогда мучения обретают своего рода самостоятельную ценность, подтверждая, что у двоих, по крайней мере, есть общее: ожидание того, чего нет.
Мы видели, что многие семьи вокруг распадаются, как только дети поступают в детский лагерь, – родители разводятся, чтобы завести новые отношения и новых детей. Оссу, нашему старшему, было восемь, то есть в детском лагере он успел провести год. Младшей, четырехлетней Лайле, оставалось три года дома. А потом? Потом мы тоже расстанемся и создадим новые семьи, инфантильно полагая, что рядом с другим человеком прежнее ожидание станет менее безнадежным? Здравый смысл твердил мне, что это жалкая иллюзия. Но единственная крошечная и неразумная надежда шептала: нет, нет – причина твоей неудачи с Линдой только в том, что ей нужен Риссен! Она принадлежит Риссену, а не тебе! Удостоверься, что в ее мыслях не ты, а Риссен – и все объяснится, а у тебя появится шанс встретить новую любовь, в которой будет смысл!
Вот так странно все переплелось в мыслях от заданного Линдой простого вопроса.
– Возможно, Риссен, – ответил я, жадно вслушиваясь в последовавшее молчание.
– Вопрос о сути эксперимента будет некорректным? – обратилась ко мне прислуга.
Право спросить у нее, разумеется, было, она, собственно, и находилась тут, чтобы следить за происходящим в нашей семье. Но я не мог определить, есть ли здесь нечто, что можно исказить и обратить против меня, равно как и то, навредит ли Государству преждевременно распространенный слух о моем изобретении.
– Я надеюсь, что это принесет пользу Государству, – ответил я. – Речь о средстве, которое заставляет любого человека открыть свои тайны и рассказать все, о чем он раньше умалчивал из стыда или страха. Боец, вы родились в этом городе?
Иногда в химиогородах можно встретить людей, привезенных из других регионов в период депопуляции и не получивших общего химического образования, а лишь слегка поднахватавшихся в более взрослом возрасте.
– Нет, – ответила она, покраснев, – я не отсюда. – Более детальные расспросы о происхождении были строжайше запрещены, ибо могли использоваться шпионскими службами. Именно поэтому она и покраснела.
– В таком случае вдаваться в подробности химического состава или производственного процесса я не буду, – произнес я. – Впрочем, я в любом случае этого не сделал бы, потому что никто и ни при каких обстоятельствах не должен получить это вещество в собственные руки. Но вы, вероятно, слышали об алкоголе, который раньше использовался в качестве опьяняющего средства, и об особенностях его воздействия?
– Да, – кивнула она, – мне известно, что употребление алкоголя разрушало семьи, наносило вред здоровью, а в тяжелых случаях вызывало конвульсии во всем теле и галлюцинации в виде белых чаек, куриц и прочего.
Узнав абзац из вводного раздела учебника, я улыбнулся. Общее образование она явно получала не в химиогороде.
– Совершенно верно, – подтвердил я. – В тяжелых случаях. Но прежде чем доходило до такого, пьяные часто говорили лишнее, выбалтывали секреты и совершали безрассудные поступки, поскольку у них купировалась способность испытывать стыд и страх. Ровно такое же действие будет иметь и мое средство – я так полагаю, поскольку испытания еще не завершены. Отличие в том, что оно не проглатывается, а вводится напрямую в кровь с помощью инъекции и имеет принципиально другой состав. Упомянутые вами побочные действия у него отсутствуют – по крайней мере, необходимости в таких сильных дозах нет. Подопытный не чувствует ничего, кроме легкой головной боли. Кроме того, отсутствует и другой эффект алкоголя – человек не забывает то, что сказал. Представляете, какое это важное изобретение? Ни один преступник не сможет больше скрыть правду. А самые потаенные мысли отныне принадлежат не нам – как мы долгое время считали, и считали ошибочно.
– Ошибочно?
– Разумеется, да. Из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Разве могут мысли и чувства оставаться личным делом индивида? Разве любой боец не принадлежит Государству целиком и полностью? А раз так, то кому, как не Государству должны принадлежать все его мысли и чувства? Просто до недавнего времени отсутствовала возможность их контролировать – но теперь средство найдено.
Она бросила на меня быстрый взгляд, но тут же отвела глаза. Выражение лица не переменилось ни на йоту, но она едва заметно побледнела.
– Боец, вам нечего бояться, – приободрил я ее. – Никто не станет выяснять, кто в кого влюбился или разлюбил. Если мое изобретение попадет в частные руки – вот тогда может начаться невообразимый хаос! Но этого, разумеется, не произойдет. Средство будет служить нашей безопасности, всеобщей безопасности, безопасности Государства.
– Я не боюсь, мне нечего бояться, – ответила она довольно холодно, – я просто проявила дружеское любопытство.
И мы сменили тему. Дети рассказывали о том, что происходило на детском этаже. Они играли в игровом резервуаре – большом эмалированном чане метровой глубины, площадью четыре квадратных метра – в котором можно не только сбрасывать игрушечные бомбы, поджигать леса и крыши домов из воспламеняющихся материалов, но и проводить настоящие морские сражения в миниатюре, для чего чан наполняли водой, а пушки корабликов заряжали теми же легкими взрывчатыми веществами, которые используются в игрушечных бомбах; там были даже торпедоносцы. Это позволяло ребенку в игровой форме натренировать стратегическое мышление, сделав его второй натурой, почти инстинктом – и одновременно прекрасно развлекало. Подчас я даже завидовал собственным детям, потому что они росли с такими современными игрушками – в моем детстве изобрести легкие взрывчатые вещества еще не успели – и я действительно не понимал, почему они так хотят, чтобы им поскорее исполнилось семь и их переместили в детский лагерь, пребывание в котором круглосуточно, а занятия гораздо больше похожи на настоящую военную службу.
Мне не раз казалось, что, в сравнении с нами, новое поколение настроено более реалистически. В тот день я получил тому очередное подтверждение. Мы проводили вместе семейный вечер, ни у меня, ни у Линды не было военно-полицейского дежурства, а Оссу приехал из лагеря повидаться с нами – именно так семьям обеспечивалась личная жизнь – и я придумал для детей развлечение. Купил в лаборатории и принес домой мизерное количество натрия, с помощью которого решил запустить по водной поверхности бледно-фиолетовое пламя. Мы водрузили в центр миску с водой и, погасив свет, собрались смотреть мой маленький химический фокус. Когда-то давно, когда отец впервые показал мне этот феномен, он привел меня в восторг, но для моих детей это стало сокрушительными провалом. То, что слабенький огонь не оценит Оссу, который уже сам разводил костры, стрелял из детского пистолета и бросал петарды, имитировавшие ручные гранаты, – можно было легко спрогнозировать. Но меня удивило, что даже четырехлетняя Лайла не заинтересовалась взрывом, который не стоил жизни ни одному врагу. Увлеклась зрелищем только Мэрил, наша средняя дочь. Она сидела неподвижно и со свойственным ей мечтательным видом следила за шипящим фонариком такими же, как у матери, широко раскрытыми глазами. Ее внимание меня несколько утешило, но я встревожился. Мне стало ясно, что Оссу и Лайла – дети нового времени. Их подход – деловой и правильный, в то время как мое отношение определялось устаревшей романтикой. И хотя Мэрил меня поддержала, я внезапно захотел, чтобы она тоже была больше похожа на других. Отставание в развитии от здоровых представителей поколения не предвещает ничего хорошего.
Вечер подходил к концу. Оссу нужно было возвращаться в лагерь. Даже если он хотел остаться или боялся долгой дороги в метро, виду он не подал. В свои восемь он уже был дисциплинированным бойцом. Меня же захлестнула горячая тоска по тем временам, когда все трое укладывались спать в свои кроватки. Что бы там ни говорили, но сын – это сын, и он всегда ближе к отцу, чем дочери. Мне стало страшно при мысли, что когда-нибудь Мэрил и Лайла тоже уйдут и будут навещать нас дважды в неделю. Но я постарался сделать так, чтобы эта моя слабость осталась незаметной. Дети не должны однажды пожаловаться, что им подают дурной пример. Прислуга не должна доложить, что глава семейства расчувствовался, а Линда… Только не Линда! Ни у кого мне не хотелось бы вызывать презрение – но меньше всего у Линды, которая никогда не бывала слабой.
В семейной комнате разложили кровати и постелили девочкам, Линда подоткнула им одеяла. Прислуга, загрузив в пищевой лифт остатки еды и посуду, уже собиралась привести себя в порядок и уйти, но тут внезапно вспомнила о чем-то и воскликнула:
– Ах да, босс, вам пришел конверт. Я оставила его в родительской комнате.
Мы с Линдой с некоторым удивлением рассматривали письмо – служебное. Если бы я был полицейским куратором прислуги, я бы точно вынес ей предупреждение. Либо она действительно забыла, либо упущение сделано намеренно, кроме того, она проявила безответственность, не ознакомившись с содержанием письма – она имела полное право вскрывать почту. Но тут мне пришло в голову, что содержание письма, возможно, таково, что за недобросовестность я буду ей признателен.
Отправителем значилось Министерство Пропаганды, Седьмое Бюро. Однако, чтобы объяснить смысл послания, мне следует вернуться на некоторое время назад.
Глава вторая
Это случилось на празднике два месяца назад. Один из залов для собраний молодежного лагеря украсили полотнищами цветов флага Государства, присутствующие разыгрывали скетчи, произносили речи, маршировали под барабаны и вместе угощались праздничной едой. Поводом стал приказ о передислокации отряда девушек молодежного лагеря. Куда именно, никто точно не знал, ходили слухи о другом химиогороде, кто-то упоминал один из кирзогородов, в любом случае это было место, где произошел дисбаланс в численности рабочей силы и процентного соотношения полов. Молодых женщин из нашего и, вероятно, других населенных пунктов отправляли туда, дабы соблюсти однажды установленные показатели. В связи с чем и было устроено торжественное прощанье с призывницами.
Подобные мероприятия всегда отчасти напоминали солдатские проводы. А ведь разница была колоссальна: на нынешнем празднике и отъезжающие, и остающиеся знали, что ни один волос не упадет с головы того, кто покидает родной город, – более того, будет сделано все, чтобы молодежь легко вросла в новое окружение и быстро начала ликовать и наслаждаться. Но объединяло проводы то, что обе стороны получали практически стопроцентную гарантию, что никогда больше не увидят друг друга. Между городами разрешалось только официальное сообщение, за которое в целях предотвращения шпионажа отвечали специальные служащие, давшие присягу и работавшие под строжайшим контролем…
И даже если в исключительном случае призывник вдруг попадал на транспортную службу – вероятность чего была ничтожной, поскольку дорожники осваивали свою специальность чуть ли не с младенчества в отдельных транспортно-образовательных городах – требовалось еще одно редкое совпадение: призывника должны были взять на одну из магистралей, которые ведут в его родной город, и отпустить в увольнительную ровно тогда, когда он в этом городе оказался; это касалось работников наземного транспорта – авиационный персонал всегда проживал отдельно от семей и под постоянным наблюдением. Короче, для встречи родителей с перемещенными детьми требовалось чудо в виде цепочки счастливых совпадений. Без учета этого – а учитывать это действительно не стоило, поскольку фиксация на мрачных рассуждениях в такой день запрещалась – праздник протекал радостно, как и всегда, когда отмечалось нечто, способствующее благополучию и процветанию Государства.
Будь и я среди празднующих, все последующие события никогда не произошли бы. Предвкушение прекрасной пищи – на подобных мероприятиях она непременно в изобилии и хорошо приготовлена, а участники всегда набрасываются на нее с волчьим аппетитом – барабаны, речи, праздничная толчея и слаженные речовки – все это наполняло зал общим великим восторгом, привычным и необходимым. Но я находился не с родителями, не с сестрами и братьями и не с молодежными лидерами. Это был один из четырех вечеров недели, когда я нес военно-полицейское дежурство, поэтому в торжестве участвовал в качестве полицейского секретаря. Что предусматривало не только позицию на одном из четырех угловых подиумов и ведение протокола мероприятия вместе с тремя другими секретарями, находящимися на трех других подиумах, но и сохранение хладнокровия, необходимого для наблюдения за залом. При стычках или обнаружении лиц, пытающихся совершать некие действия незаметно (кто-то, к примеру, мог попытаться уйти сразу после переклички), собранные секретарями сведения становились существенным подспорьем для председателя и охранников, которые зачастую занимались каким-либо практическим вопросом, в то время как четыре полицейских секретаря из своих достаточно укромных мест ни на миг не выпускали зал из поля зрения. Таким образом, я, будучи изолированным, неотрывно смотрел на толпу. Даже если мне в отдельные моменты и хотелось вместе со всеми испытать радостное чувство общности, я понимал, что эту жертву более чем компенсирует осознание собственной важности и достоинства. К слову, ближе к вечеру полицейского секретаря обязательно сменяли, чтобы и он мог поесть, ни о чем не тревожась.
Девушек, с которыми все прощались, насчитывалось не больше пятидесяти, и они явно выделялись из общей массы, поскольку носили специальные позолоченные короны, которые Государство давало напрокат в подобных случаях. Одну из призывниц я особо отметил автоматическим вниманием, возможно, потому что она была необычайно красива, а возможно, из-за живого беспокойства, которое, как скрытый огонь, вспыхивало в ее взгляде и движениях. Несколько раз я замечал, как она бросает ищущие взгляды в сторону юношей – это было в начале праздника, когда показывали скетчи, а мальчики из мужского лагеря и девочки из женского еще сидели двумя отдельными группами – пока она наконец не обнаружила искомое, и огонь в ее движениях и взгляде превратился в ясное спокойное пламя. Думаю, мне удалось идентифицировать и лицо, которое она искала и нашла: настолько мучительно серьезное в окружении нетерпеливых и радостных, что я их обоих почти пожалел. Когда разыграли последний скетч и молодежь смешалась, я заметил, как эти двое ринулись навстречу друг другу, рассекая толпу, словно воду, чтобы с почти слепой уверенностью встретиться примерно в центре зала и застыть в неподвижном одиночестве среди кричащих и поющих людей. Включилась сирена, а они стояли, словно на тихом скалистом острове, и не понимали, в каком пространстве и времени находятся.
Очнувшись, я фыркнул в собственный адрес. Им удалось втянуть меня в свой асоциальный мир, оторвав от единственного великого таинства: общности. Наверное, я просто устал, потому что мне казалось, что я отдыхаю, когда просто смотрю на них. «Сочувствия, – подумал я, – эти двое заслуживают меньше, чем кто бы то ни было». Что, собственно, может быть полезнее для формирования характера бойца, чем раннее привыкание к великим жертвам ради великих целей? Разве не о шансе принести достаточно великую жертву многие мечтают всю свою жизнь? Зависть – единственное, что я мог испытывать по отношению к ним (тем, кому это удавалось). И, похоже, именно зависть я уловил и в неудовольствии товарищей юной пары – зависть и долю презрения, поскольку те столько сил и времени тратят впустую на отдельного человека. Но я, со своей стороны, презирать их не мог. Они разыгрывали вечную пьесу, прекрасную в своей трагической предопределенности.
Видимо, я действительно переутомился, поскольку мой интерес все время привлекали крошечные детали этого праздника жизнелюбия. Уже через несколько минут после того, как я выпустил из вида девушку и юношу (нетерпеливые товарищи, кстати, растащили их в разные стороны), мое внимание приковала к себе худощавая женщина средних лет, вероятно, мать одной из призывниц. Она тоже казалась в каком-то смысле выключенной из неистово веселящегося коллектива. Не знаю, как я это понял, и не смог бы ничего доказать, потому что она во всем принимала участие, двигалась в такт с марширующими, кивала ораторам, кричала речовки. Но я понял, что она действует механически и не взмывает на гребень освободительной волны коллектива, а остается в стороне – в стороне от собственных движений и голоса, такая же обособленная, как и та молодая пара. Окружавшие ее люди, видимо, тоже это интуитивно чувствовали и всеми способами пытались ее вовлечь. Со своего подиума я несколько раз замечал, как ее брали за руку, тянули за собой, ей кивали, с ней заговаривали, но вскоре оставляли попытки, хотя ее ответы и улыбка срабатывали без сбоев. Только один малорослый, подвижный и некрасивый мужчина решил не сдаваться. Когда она, одарив его усталой улыбкой, приняла еще более усталый и серьезный вид, он встал там, где она его не видела, и начал пристально за ней наблюдать.





























